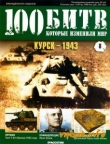Текст книги "Дикий мед"
Автор книги: Леонид Первомайский
сообщить о нарушении
Текущая страница: 27 (всего у книги 34 страниц)
А о некоторых я совсем ничего не знаю. Помните, с нами был майор Берестовский? Вы о нем ничего не слыхали? Сразу после войны его фамилия еще время от времени встречалась в газетах – как это ни странно, даже под стихами! – а потом он совсем куда-то исчез. Стихи его мне нравились, никогда не думала, что он поэт, слишком много только было в них непонятной печали. Наверное, поэтому его неохотно печатали, а потом и совсем перестали. Странное он производил впечатление, что угодно могла бы я о нем подумать, только на поэта он никак не был похож… Кто-то мне рассказывал, что он теперь на периферии, закопался и пишет роман уже много лет. Не знаю, может, у него и получится… Мне трудно об этом судить, я ведь только фоторепортер, но я думаю, что писать роман – это все равно что черпать воду из колодца: если колодец глубокий и чистый, можно брать без конца, он все время пополняется, а что, если воды в нем слишком мало? Вынешь несколько ведер, взмутишь воду – хорошо, если на дне чистый песок, а бывает ил, липкая грязь, слизь. Чтобы писать, нужно уметь видеть, знать и понимать. Я имею в виду все, что вокруг, – мир, землю, людей… И кроме этого, роман не только познание жизни, но и самопознание: больше, чем в колодце есть воды, из него не подымешь. Даже в нашем ремесле за репортерскими снимками всегда видишь автора – человека. Не знаю, удастся ли Берестовскому роман, мне кажется, что это не в его возможностях… А вы не знаете, в какой области он окопался? Жаль, я все время в разъездах, – может, когда и встретились бы.
Я со всеми хотела бы встретиться, кого знала, и с Берестовским тоже… Он устроил меня на самолет, когда я неожиданно получила вызов в Москву после «тигра». Помните? Тогда кончалась одна полоса моей жизни и начиналась другая. Поэтому он, должно быть, и запомнился мне, – наверное, поэтому ничего интересного в нем не было, разве что кожаные галифе!
Налейте, Василий Иванович. Мне не надо, видите, моя щербатая рюмочка совсем полная. Вы так неожиданно пришли. Галя в мастерской, мама не выходит, я лежу, а холодильник у нас всегда пустой… Яко птицы небесные. Стыдно мне вас так принимать. Если б вы хоть позвонили! Нет-нет, я вам очень рада, это во мне заговорила неудавшаяся домашняя хозяйка. Хоть мы и условились, что прошло всего четыре месяца, все же можно было бы приспособиться к новым обстоятельствам, не чувствовать себя на марше… У вас нет такого чувства? Меня оно не покидает. К тому же газеты пахнут не типографской краской, а порохом, словно ничто не кончилось. Печальные стихи сейчас совсем не ко времени. Пасеков, Дмитрий Лукич, безжалостно выбрасывает их в корзинку… Вы с ним встречаетесь? А ведь вас, бывало, водой не разольешь! Мне о вас много рассказывали, о вашей дружбе, а что именно – я уж теперь не припомню. Правда, Пасеков высоко взлетел, но это ведь не основание, чтобы забывать тех, кто остался на земле. Если хотите, Викентий Петрович, я не буду об этом говорить, мне и самой неприятно. Может, что-нибудь было с вашей стороны? Он ведь хороший человек. Правда, я тоже очень редко его вижу, хоть и работаю в его журнале. Он все время вдалеке, объездил почти весь свет. Остановится в коридоре, блеснет золотыми зубами: «Не забыли наш корреспондентский хутор? Вот времечко было! Так хочется сесть в машину и двинуться по старым путям!.. Ничего не выйдет! Завтра вылетаю на Кубу. Что вам привезти оттуда?»
Конечно же он ничего не привозит. Просто встреча в редакционном коридоре – разве можно все удержать в голове?
А я один раз собралась-таки на старые места. Конечно, без машины. Вышла на станции и пошла в город искать пристанища на ночь. Мне сказали, что город отстраивается, что есть уже целые новые улицы, и театр, и гостиница… Ничего не можешь до конца представить, пока сам не увидишь. После июльской битвы я проезжала через город; конечно, он был разрушен, но я не понимала масштаба разрушений, может потому, что досыта нагляделась на множество таких разрушенных городов. По правде говоря, до войны это был не город, а провинциальная дыра, законсервированная еще с царских времен. От него и развалин не могло остаться сколько-нибудь впечатляющих – груды кирпича, обгоревшие двухэтажные коробки, пережженная глина, немощеные улицы… И все это приземистое, низенькое, словно придавленное к земле. Человек не может измениться с такой быстротой, с какой он изменяет свою землю и города… А теперь я увидела многоэтажный город, не очень красивые и, наверно, слишком дорогие дома, похожие на дворцы, заасфальтированные площади, красивые фонари дневного света, – конечно же давно уже нет развалин. Остались, правда, пустыри, но битый кирпич, горелую глину, ржавое железо – все давно уже вывезли. Город вырос не только вширь, но и вверх, в нем чувствовался порыв к высоте, он поднимался передо мной на фоне светлого вечернего неба и будто говорил: «Видишь, от прошлого не остается следа, не пытайся искать его…»
Что же мне было делать, когда я приехала его искать? В новой гостинице не было мест. Я вышла на площадь. Уже совсем стемнело. Если выйти на шоссе, можно поймать попутную машину, поехать прямо в наш корреспондентский хутор, остановиться у Аниськи и прожить там несколько дней.
Вы не подумайте, что я не знала, куда еду. Я ведь читала ваши очерки о новом рудном районе, Викентий Петрович, там все время говорилось о знакомых населенных пунктах, и даже наш хутор вы упоминали. На шоссе было движение, как днем: легковые машины, грузовики, громадные самосвалы. Фары высвечивали широкую полосу асфальта, а когда машины проходили и опять становилось темно, вся земля вокруг мерцала огнями, будто я и не выходила из города, будто он раскинулся на множество километров, и за горизонтом тоже нет ему конца.
«Вам куда?» – спросил шофер, открыв дверцу. Он смотрел на меня сверху вниз, скаты его машины были выше меня, в узкой юбке я еле взобралась на подножку и подумала, что было по-своему удобней на войне, когда я ходила в штанах. «Что-то я не слышал о таком хуторе. Все равно садитесь, в рудничном управлении разберетесь…»
Вы помните гусачевскую церковь? Я ее сразу узнала.
«Слушайте, – сказала я шоферу, – мой хутор тут где-то, совсем близко».
«Я вас завезу в рудничное управление, надо же вам где-нибудь ночевать?»
«Не беспокойтесь, я найду сама».
Отсюда было удобно начинать поиски. Я прошла за ограду. Все тут осталось, как прежде, – и пролом в ограде, и солдатское кладбище. Только высокие деревья, кажется, стали еще выше и обступили церковь еще тесней. В темноте под деревьями я постояла у солдатских надгробий – под ними у меня были знакомые, – вышла через пролом и пошла по холмам… Слева, в балке, оставалась Гусачевка, как и в ту ночь, когда я в последний раз проходила тут, и ночь была тоже июльская, как тогда, только освещенную электричеством Гусачевку нельзя было узнать: двухэтажные длинные дома, улица коттеджей и наверху, за балкой, большой клуб с ненужными колоннами,
По холмам легко было идти, там теперь не сеяли, пшеница не обступала меня, и колосья не шелестели, я шла медленно и не чувствовала усталости, хоть вторично проходить путь, когда знаешь, чем он кончился, очень тяжело. Мне помогали огни вокруг, особенно впереди их было много, слышался непрерывный грохот, как будто шла колонна танков. Странно было только, что этот грохот доносился словно из-под земли и словно из-под земли вырывался белый свет фар, лучи упирались сначала в черное небо, потом медленно сползали на землю, развертывались на ней веером, вырывая из тьмы телеграфные столбы, кусты, деревья, встречные машины, и исчезали, будто снова проваливались под землю.
Глубокий карьер преградил мне дорогу. На дне карьера не прекращалась работа, он весь был залит светом прожекторов на высоких стальных мачтах, людей совсем не было видно, только громадные экскаваторы вгрызались в породу, один за другим подходили самосвалы, ковши раскрывались, и руда с грохотом сыпалась в кузов.
Стыдно, я все время рассказываю о себе, не даю вам и слова сказать. Разлейте вино, Василий Иванович, там есть еще немного, а мне дайте кусочек шоколаду. Я знаю о вас больше, чем вы обо мне, подполковник запаса Дубковский! Я все читала, что вы пишете. Никогда бы не подумала, что вы так хорошо знаете, как делается хлеб, мне казалось, что вы умеете только про войну. Хотя, правда, у нас тогда у всех была одна тема, это теперь мы можем любить каждый свое. Так и должно быть: мир сразу же стал разнообразнее, но то, что мы пережили, лежит на сердце у каждого. Про солдатскую шинель нельзя забыть. Тот, кто не надевал ее, этого не поймет… Мне рассказывали, что в том рудном районе во время вскрышных работ сначала из земли извлекали массу различного металла – осколки и целые снаряды, разорванные танковые гусеницы, втоптанные в землю орудия – и кости тех, кто лег костьми… Теперь мне кажется, что тогда, в июле, гитлеровцы не могли сдвинуть нас с места потому, что мы стояли на железе.
Я шла ночью над карьером, хотела его обойти, чтоб попасть в наш хутор, и думала о том железе, к которому надо пробиваться сквозь толщу земли, слой за слоем снимать почву, чтоб убедиться, что оно красное, как человеческая кровь. Кстати, в старину кровь так и звалась – руда.
«Слушайте, да ведь вы напрасно ищете тот хутор, – сказали мне утром в рудничном управлении, когда я вернулась в Гусачевку. – Его ведь давно уже нет!»
«Как нет! А где же он? Его начали отстраивать еще во время войны, там был плотник-сектант…»
На меня посмотрели как на сумасшедшую.
«Хутор тоже стоял на руде».
«А люди?»
«Людей переселили».
«Куда?»
«Ну, разве вспомнишь!.. Много и осталось, живут теперь в наших поселках, работают на руде».
Человек не может и не имеет права жить прошлым, его цель – будущее, каким бы оно ни было. Но прошлое кончается только вместе с нами. Так и наш хутор – его уже нет, на его месте гигантский карьер, экскаваторы грызут руду, но во мне он существует и будет существовать, пока буду существовать я. Я иду в свое будущее вместе с ним, с Аниськой и Людой, с ее братом Кузей и с той рудой, на которой хутор стоял, хоть мы о ней не знали, как никто не может знать будущего, пока оно не станет сегодняшним днем.
Это звонок Гали, не беспокойтесь, мама откроет… Галя звонит тремя короткими сигналами, это у нас семейный звонок – еще Саша научил меня так звонить, и мама научилась, когда переехала из Тарусы, а теперь Галя научила своего Севу.
– С кем ты разговариваешь, Варюша?
– Что ты, мамочка! Я ни с кем не разговариваю, лежу себе и думаю.
– А мне показалось, что кто-то к тебе пришел. Мою чашки и слышу твой голос. Как хорошо, думаю, что пришли проведать Варю! Как только это я звонка не услыхала?
– Мыслям не надо открывать дверей.
– Ох, Варюша, не надо слишком задумываться, так никогда не выздоровеешь.
– А я уж здорова, мамочка… Открой Гале, она звонила и стоит теперь под дверьми, боится снова позвонить, думает, спим.
Мама вышла – как легко и неслышно она ступает в свои семьдесят лет! – и сразу же вернулась.
– Там никого нет, Варюша. Тебе послышалось.
– Правда? Сядь ко мне, мама, она скоро придет, и будем пить чай.
– Чайник на плитке, я прикрутила газ – не выкипит и не убежит…
– Тебе теперь трудно, мама, когда нас четверо? И тесно. Надо было нам с тобой оставаться в нашей комнате, а не переходить в проходную.
– Пускай молодым будет удобно… Ты же сама сказала: Гале дадут квартиру, и мы останемся с тобой вдвоем.
– Сева тебе нравится?
– Уборки за ним много, всегда он со своей глиной и тряпками… Галя его любит.
– А он ее? Ты не замечала?
– А что заметишь, когда он лепит, курит и молчит? Галя говорит, это ничего, что он не зарабатывает, тут на заработок сразу не приходится рассчитывать – у Севы талант, ему надо созреть… Это что ж, как чирей?
– Нет, мамочка, таланту нужно время, чтоб общество приспособилось к его вкусам или же чтоб он приспособился к вкусам общества.
– Ну, этого я никогда не пойму!
– Так говорит Сева. И я не могу этого понять – отстала от жизни. – Она помолчала и спросила без видимой связи: – Мамочка, ты очень горевала, когда умер отец?
– Очень, дочка.
– Долго?
Мама поглядела на нее прозрачными, как подсиненная вода, глазами.
– Сколько надо, столько и горевала. Человек-то не вечно живет. И горе тоже не вечно. Да и грех был бы мне долго горевать – я ведь с ним счастливо жила.
Мама уснула на старой широкой тахте рядом с ней, сбросила домашние туфли, положила кулачок под щеку и затихла, даже дыхания не слышно. Лицо у мамы свежее и чистое, как у девочки, и что-то детское есть в нем, во всей маминой фигуре… Или, может, это потому, что она чувствует себя старше матери, будто прожила и ее и свой век?
Она осторожно сползает с тахты, укрывает маму одеялом и садится у стола, у того круглого стола, где на высоком стульчике сидела Галя и пила молоко с блюдечка в то утро, когда они отправились пешком в Тарусу. И скатерть на столе та же самая, белая в синих цветах, и тот же разрисованный абажур, только он с одной стороны обгорел от очень сильной лампы, там теперь большое желто-коричневое пятно и по нему трещинки, а бумага все-таки держится.
Завтра придет знакомая врачиха из районной поликлиники и закроет бюллетень. Здоровье легче симулировать, чем болезнь, врачиха ей поверит. Галя будет уже в мастерской, Сева тоже не сидит дома. Мама, конечно, догадается, но не сможет с нею бороться: она тоже чувствует, что Варюша старшая и что ей нельзя противоречить… А командировку в редакции подпишут куда угодно. Деньги по бюллетеню она оставит маме, а суточные возьмет себе.
Она погасила свет – мама не проснулась – и тихо прошла в кладовушку, которая издавна называлась у них лабораторией. Увеличитель, черные карболитовые ванночки, лабораторный фонарь на стене… Все как было когда-то – и десять, и двадцать, и двадцать пять лет тому назад. Бутылки с химикалиями на полочке, тряпка для рук на гвоздике. А в этой старой корзинке из-под белья рулончиками свернутые пленки, ну просто уйма, если б и хотела что найти, какой-нибудь старый негатив, нет возможности, пришлось бы копаться целый год. В конце концов надо сдать все это в какое-нибудь государственное хранилище, она уже никогда не вернется к этим сокровищам; то, что ей нужно, лежит не здесь.
Уже стерлись записи карандашом во фронтовой записной книжечке, на некоторых страничках ничего нельзя разобрать, они дочерна затерты графитной блестящей пылью, лишь изредка проступает номер какой-то полевой почты или несколько букв чьей-то забытой фамилии. Сколько было этих фамилий, сколько лиц, сколько адресов – и всем она посылала карточки, тратила на это массу времени и бумаги, фотобумага была тогда на вес золота, в редакции выдавали ее под расписку, а купить негде было.
Она положила кусочек пленки между стеклышками увеличителя, выключила общий свет и в темноте вспомнила Людин подвал, колыхание проявителя в ванночке и как под ним начало вырисовываться на бумаге его лицо… Тогда она порвала мокрый отпечаток, теперь уже можно напечатать. Через столько лет? И что она с ним сделает? Оправит в рамочку и поставит на стол или повесит над тахтою?
– Чей это у тебя портрет, мамочка? – спросит Галя.
Мама не будет расспрашивать, мама никогда у нее ни о чем не спрашивала, она всегда все знала о ней.
Вспыхнул свет в увеличителе, луч пронизал пленку и положил его лицо на белую бумагу. Хорошо, что она не часто позволяла себе рассматривать этот кадрик, пленка прекрасно сохранилась, словно и не прошло столько лет. Так он и остался на снимке: лицо, освещенное улыбкой, которой он ответил на ее испуганное восклицание.
Она поднимала все выше и выше подвижное плечо увеличителя, объектив автоматически наводился на резкость, его лицо уже не помещалось на белой бумаге, теперь увеличивались и плыли на нее только его глаза. Он обнял ее глазами на плацдарме у капитана Жука, и в ту минуту она поняла, что это навсегда.
Нет, не надо печатать снимок, не надо вставлять в рамочку, не надо ставить на стол.
Она включила свет, завернула кадрик в свежую бумажку и спрятала в книжечку.
Мама не проснулась, когда она вышла из лаборатории. Галя с Севой где-то задержались.
– Не выпить ли нам, Варюша, чаю? – улыбнулась она самой себе.
Свет падает в комнату через маленький коридорчик из кухни. Она сидит за столом, подперев подбородок кулаками. Стакан чаю остывает перед нею… Тихо дышит мать во сне. Длинный вечер впереди, долгая ночь.
ЧАСТЬ IV

1
Существует старое выражение, которым по привычке пользуются люди, и те, кто пишет книги, и те, кто их не пишет, не задумываясь над тем, что, собственно, это выражение значит. Судьба человека… Как будто тот, кто пользуется этими словами, верит в предопределенность того, что происходит с человеком в жизни, независимо от обстоятельств времени и места, тогда как на деле все, что происходит с человеком от минуты его рождения и до последнего вздоха, является непрерывным сцеплением причин и следствий, которые могли бы быть иными, если б возникали в иной связи. Эта цепь причинных связей начинается задолго до рождения человека и не оканчивается даже с его смертью.
Почему, подвластные одним законам, такими несходными бывают человеческие судьбы? Почему для одного человека складывается счастливая, а для другого несчастливая судьба? Почему мы говорим о счастливой или несчастливой судьбе не только отдельных людей, но и целых поколений? Почему некоторые представители так называемых счастливых поколений бывают глубоко и даже трагически несчастными и почему в толще поколений так называемых несчастных иногда встречаются безмятежно счастливые судьбы?
Почему так часто произносит человек задумчиво-печальное «если б»?
Если б не случилось то-то и то-то, то и все, что произошло потом, могло бы произойти совсем иначе, то есть вся жизнь человека, вся так называемая его судьба могла бы стать совсем иной! Но в том-то и дело, что цепь причинных связей не может прерваться, не могут не цепляться друг за друга ее звенья, исключая и отбрасывая все человеческие «если б»!
Варвара Княжич задумывалась над своею судьбой, как задумываются над своей жизнью сотни и тысячи других счастливых, а особенно несчастливых женщин. Очень часто приходило ей в голову это человеческое «если б».
Что, если б она родилась не в Тарусе, а в Мурманске или в Полтаве? Как сложилась бы ее жизнь, если б отец ее не был скромным почтовым чиновником, а мать – дочерью провинциального землемера? Она пыталась остановиться на какой-то поворотной точке своей жизни и представить, как могло бы пойти все дальше, если б… Если б Саша не приехал в Тарусу и она не встретила его на Кургане, там, где встречали своих суженых другие тарусские девушки! Не встретила бы – не потеряла б… Не было бы ни ее радости, ни горя. А если б Саша не научил ее фотографировать, что делала бы она теперь? Ведь именно то, что она умела фотографировать, привело ее в редакцию иллюстрированного издания, когда началась война и она стала искать свое место в жизни. То, что она стала фотокорреспондентом, сделало возможными и необходимыми ее поездки на фронт и этим летом привело ее как раз на тот его участок, к которому прикованы теперь взоры всего мира. Если так смотреть на ход событий, то нет уже ничего странного и в том, что там, где решается судьба тысяч и миллионов людей, должна решиться и ее судьба. Могла бы она решиться иначе? Конечно, могла, если бы генерал Савичев не послал ее в хозяйство Костецкого, где бронебойщики подбили новый немецкий танк. Но генерал Савичев не мог не послать Варвару за фотографиями танка, а раз уж послал – Варвара не могла не встретить Лажечникова.
Савичеву нужны были фотографии. Без разрешения Лажечникова Варвара не могла попасть на плацдарм к капитану Жуку. Но разве не могло случиться так, что Лажечников не сам пошел бы с нею на плацдарм, а поручил бы это кому-нибудь другому? А если пошел, если не захотел или не смог поручить это кому-нибудь другому, могли бы они не остановиться на фосфорической поляне? Совершилось бы в ней то радостное превращение, которого она и представить себе не могла накануне?
Варвара не знала этого, как не знает и не может знать этого каждый отдельно взятый человек. Она только чувствовала, что за всей ее жизнью, за всеми ее радостями и горестями стоит великая сила, которой надо быть благодарной за все, что она с тобой делает, потому что это сила жизни, законы которой и суровы и благодетельны.
«Значит, так надо, – думала Варвара, – значит, надо было мне сюда приехать, и надо было, чтоб Савичев послал меня фотографировать «тигра», и я пошла и встретила то, что сделало меня счастливой».
Но тут же страшная мысль врывалась в рассуждения Варвары: «Ничего этого не было бы, если б я не потеряла Сашу, если б не началась война и я не попала в редакцию, – значит, и гибель Саши, и война, которая принесла несчастье миллионам таких же людей, как я, гибель больших городов и маленьких деревень, сиротство и увечья, – все это должно было произойти для того, чтоб я пришла сюда и стала счастливой? Как же я могу так думать? Как я могу все это не то что оправдать, но и просто принять, примириться с этим? Как может существовать мое счастье рядом с несчастьем других людей, как оно может жить во мне, когда не только слезы, но и кровь заливает землю и нет уголка на ней, где не проливалась бы эта кровь? Не может быть, чтоб так было нужно, не может быть, чтоб кто-то иной, кроме меня, мог чувствовать себя счастливым среди всего этого несчастья… Значит, я просто выродок какой-то, дурная женщина, черствая, себялюбивая душа, и нет мне оправдания, нет и не может быть оправдания моему счастью!
Если я примирюсь, признаю закономерность моего счастья, я должна признать закономерность той беды, что царит вокруг. Если же я не могу признать закономерности человеческой беды, я не должна признавать и своей радости, она не только противоестественна, но и преступна, ей нет места в моем сердце… Вот и все. И легче будет дышать и жить».
– Знаете что, – сказала Варвара Берестовскому, когда они вдвоем подошли к шлагбауму на околице штабного села, – я не люблю ездить в компании… Хоть одной и труднее и страшнее. Вы не обижаетесь?
Как раз проезжал грузовик, и Саня, веселая регулировщица с темной мышкой на щеке, остановила его. Незнакомый шофер открыл дверцу кабины.
– Какое хозяйство? – крикнула Саня.
– Полковника Повха, – ответил шофер.
– Пожалуйста, товарищи корреспонденты, – сказала Саня, довольная тем, что незнакомый шофер не отпускает шуточек и не ухаживает за ней.
Варвара, борясь с собой, поправляла с равнодушным видом аппарат на ремешке.
– Я уже была в этом хозяйстве, – проговорила Варвара, – что мне там делать? Поеду в какое-нибудь другое хозяйство…
Берестовский подергал свои усы и переступил с ноги на ногу.
Сегодня, больше чем когда-либо, Берестовскому тоже хотелось быть одному. Грохот артиллерии, долетавший сюда, к штабному шлагбауму, не обещал легкой прогулки. Он не знал, что «хозяйство Повха» – это и есть дивизия Костецкого, но что-то подсказывало ему: «Не нужно выбирать, пусть будет хозяйство Повха…» Мысленно он все еще стоял в сенях Людиной избы, прислушивался к голосам за дверьми и ничего не знал. Он все еще чувствовал себя так, словно только должен был узнать. «Там мне скажут, – думал Берестовский, – там мне все скажут». Он обрадовался, когда Варвара сказала, что не любит ездить в компании, хоть и не дал ей этого понять.
– У каждого свои привычки, – сказал он миролюбиво, – что ж тут обижаться.
Берестовский полез в кабину.
– Ни пуха вам, ни пера, – пожелала ему Варвара.
Грузовик двинулся.
– У шлагбаума нельзя сосредоточиваться, – сказала Варваре Саня. – Вон там, в холодке, у нас лавочки сделаны.
В вишеннике у крайней избы были вкопаны в землю низенькие скамьи, над ними висела маскировочная сетка с набросанными сверху ветками. Варвара прошла под сетку, села на лавочку и, сжав в руках аппарат, задумалась. Спина ее ссутулилась, лопатки выпятились под гимнастеркой, голова склонялась все ниже и ниже, и вдруг, прижавшись лбом к кожаному футляру Сашиного фотоаппарата, Варвара облилась слезами.
Саня подошла и села рядом с Варварой, пораженная горем вольнонаемной женщины, которую она приняла когда-то за штабную машинистку. Хотя Саня и не могла забыть, как сдержанно и холодно отнеслась Варвара к ее попытке завязать разговор по дороге от шлагбаума к избе генерала Савичева, ей стало жалко Варвару. Саня была добрая девушка, неравнодушная к чужому горю. Была она и счастлива тем особым девическим счастьем, которое состоит в независимости сердца, в той девичьей воле, которая не знает ни принуждения, ни обременительных обязанностей. Саня была счастлива, несмотря на то что кругом бушевала война, что эта война оторвала ее от дома, от матери, от привычного существования в маленьком зеленом городке. Она была счастлива потому, что никого еще не встретила и никого не потеряла. Правда, был один сержант, белокурый мальчик с автоматом на груди, который проезжал на «виллисе» мимо ее шлагбаума, следом за генеральской машиной, но он тоже входил в тот круг чувств, который определяется понятием «девичья воля»: хочу – есть белокурый сержант, а хочу – нет его.
И все-таки, несмотря на свою «девичью волю», Саня хотела понять, что творится с Варварой. Она сидела рядом с ней на лавке под маскировочной сеткой и не решалась спросить: «Что с вами? Чего вы плачете?» Да если б даже Саня и решилась, если бы спросила, могла ли Варвара ей ответить? Знала ли она и сама, откуда этот взрыв горьких и вместе счастливых слез, что потряс ее душу?
Варваре казалось, что она и торжествует и оплакивает победу над собой. Счастье самоотречения, которое так нелегко дается человеку, счастье отказа от сокровища, которое могло бы обогатить сердце ценой потери собственного достоинства, наполняло Варвару гордостью и сожалением. Она горда была тем, что нашла в себе достаточно сил, чтоб отказаться от сокровища, которое могло бы принадлежать ей, она радовалась тому, что таким образом сохраняла чистоту совести, не желая счастья среди общей беды и страдания, но ей и жаль было того сокровища, от которого она отказывалась… Варвара думала, что, отказываясь от своего сокровища, становится беднее, потому и плакала такими горькими слезами, в действительности же она становилась богаче, потому-то ее горькие слезы и приносили ей облегчение.
Саня не успела ничего спросить. К шлагбауму приближался грузовик. Шоферы сами останавливались у шлагбаума, зная, что тут всегда кто-нибудь ожидает попутной машины. Саня прижалась к плечу Варвары.
– Вам куда?
– Все равно, – ответила Варвара.
Саня что-то сказала шоферу, всунув голову в кабину. Шофер открыл дверцу. Варвара взобралась на продавленное неудобное сиденье. Саня махнула флажком, и грузовик выехал на пыльную дорогу.
2
Капитан Жук неприветливо встретил Иустина Уповайченкова.
Было темно на берегу, за плащ-палаткой, прикрывавшей вход в нору под обрывом, колебался огонек «катюши», самодельной солдатской светильни; капитану как раз принесли ужин – котелок подогретого борща и вареники с картошкой. Он не стал есть, пошевелил ложкой мелко изрубленные овощи в котелке, приподнял ею кусок жилистого мяса, да так и оставил ложку в борще.
Солдаты уже получили добавочный запас противотанковых гранат и бутылок с зажигательной жидкостью. В сумерки на плацдарм переправился полковник Лажечников. Он сам вручил капитану Жуку боевой приказ.
Сидя на перевернутой лодке под обрывом, Лажечников поговорил с командирами рот. Все сосредоточенно стояли вокруг него, говорили почти шепотом, хоть в этом не было никакой надобности. И капитан Жук и командиры рот приняли приказ спокойно, лишь приглушенные голоса выдавали их волнение. Лажечников рассказал им все, что знал о намерениях врага.
– Наше дело – выстоять, – закончил он тихо и почувствовал, как перехватило у него горло, словно насыщенный влагой прохладный вечерний воздух заставил его больно сжаться. – Выстоим?
– Выстоим, – прогудели командиры.
Лажечников уже не видел лиц командиров рот, сумрак окутывал их, только влажно блестели глаза и слышалось тяжелое дыхание, шедшее словно из одной груди, в которой билось одно большое сердце. Не такого приказа ждали командиры рот, не такого приказа ждал командир батальона Жук, но никто из них не посмел сказать вслух, что лучше было бы не принимать на себя удар, а нанести его: немец теперь уже не тот. Командование, конечно, лучше знает, что надо делать, ему сверху виднее, а за себя мы спокойны: приказано выстоять, так и выстоим, было бы кому потом двинуться вперед.
Лажечников отпустил командиров рот и велел вызвать Данильченко.
Пока лодка Данильченко тихо подходила к берегу, командир полка стоял у воды, молчаливый, непривычно отчужденный. Лодка уткнулась носом в песок. Лажечников, уже ступив через борт, полуобернувшись, подал руку Жуку и проговорил;
– Будь готов, капитан…
Он вышел из лодки, обнял низкорослого худощавого Жука большими руками, подержал у заскорузлой гимнастерки, а потом будто оттолкнул от себя.
– Все мы хлебнем горячего, Жук, а тебе прямо со сковороды хватать придется.
Хмурясь от неожиданного прилива нежности к командиру полка, Жук пробормотал:
– Ну и что? Нам не впервой.
Лодка растаяла в темноте. Жук стоял на берегу и ловил ухом неясный шум и говор за рекою, – в овраге, по дну которого петляла накатанная грунтовая дорога, выходившая на стратегическое шоссе, становились на огневые позиции артиллеристы. Через его плацдарм открывался выход немецким танкам к этой дороге и дальше – на стратегическое шоссе. В том, что танки пойдут прямо на него, капитан Жук не сомневался. Он давно знал, что не только удерживает важный плацдарм, но и прикрывает танкоопасное направление. Прошлой ночью бойцы дивизионной разведки, возвращаясь из немецкого тыла, рассказывали, что сразу же за холмом, который закрывает околицу большого села с белой церковью, у немцев замаскированы в вишеннике готовые стальные фермы моста для тяжелых танков. Чтоб навести переправу, немцам надо уничтожить его батальон.
Но не только понимание серьезной опасности, которая ожидала его батальон, делало угрюмым капитана Жука.
Жук был угрюм потому, что привык к мысли о наступлении и уже не представлял ни возможности, ни необходимости принимать удар на себя, когда можно предупредить его своим ударом.
Спиридон Жук ни словом не обмолвился о своих мыслях капитану Уповайченкову, когда тот вышел из лодки и подошел к нему.
– Ну вот! – сказал Уповайченков с вызовом, в котором чувствовалось: «А ты уж думал, что Уповайченков не вернется!»