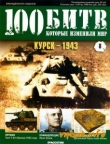Текст книги "Дикий мед"
Автор книги: Леонид Первомайский
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 34 страниц)
– Пишут, – печально шутили они. – Вам пишут, товарищ майор…
Приходилось им верить.
Я шел по тропинке вдоль плетней, долгожданное письмо Ани лежало у меня в кармане, теплая трубка догорала в кулаке, она давно уже треснула, пришлось обмотать ее медной проволочкой. Иногда мне казалось, что и в сердце у меня трещинка, только некому его перевязать проволочкой, чтобы можно было в нем разжигать огонек надежды.
Под черным шатром старой груши звучали тихие голоса.
– Да ведь грех… – услышал я низкий, приглушенный голос хозяйки моей избы, молодой солдатки, которая требовала, чтоб ее звали Людой.
– В природе нет греха, это ты всегда помни, – ответил самоуверенный мужской голос, и я узнал местного плотника, похожего на святого Иосифа, хитрого деда с молодыми глазами и венчиком седых волос вокруг лысины. – Грех идти против природы, природа есть добро.
Голова его была набита странной путаницей из прописных истин православного благочестия и сектантских непереваренных догм.
– Сказано: бог есть любовь, – настаивал плотник.
– Да, наверно, не такая, – отзывалась устало Люда.
Я увидел Люду, – сложив руки под высокой грудью, обтянутой белой кофточкой, она стояла, опершись спиной о ствол груши.
Плотник держал одну руку высоко поднятой, словно благословлял или проклинал Люду. Подойдя ближе, я разглядел, что он держится за ветку.
– Добрый вечер, – поздоровался я.
– С приездом, – отозвалась Люда, не пошевельнувшись.
Плотник блеснул в темноте глазами.
– А у нас поздний разговор: просит солдатка ей новые стропила поставить, крыша проваливается… Да нет времени днем договориться – все работа. Один я теперь мастер на все село.
– Да они знают, – Люда откачнулась от груши, – они всем интересуются.
Не попрощавшись с плотником, она пошла рядом со мною по тропинке к хате.
– У вас гости. Говорят, из Москвы, не знаю – не бывали раньше.
Она задержалась на минутку у порога, чтоб оглянуться – плотник все еще стоял под грушей, – и сказала тихо, низким своим голосом, словно извиняясь:
– Стропила и вправду нужно менять, начисто прогнили.
– Ну и что ж, договорились?
– Очень много он с меня запрашивает, – вздохнула Люда, не нарочно толкнув меня мягким плечом в темных сенях.
Я нащупал щеколду и открыл двери. В избе горела лампа, на моей кровати сидел худощавый капитан с бритой головой и писал, навалившись запавшей грудью на стол. Молодой лейтенант с тонкими черными усиками на красивом лице тарахтел кассетами и шуршал пленкой, запустив по локти руки в черный мешок, лежавший у него на коленях.
– Здравствуйте, товарищи, – сказал я, снимая пилотку и не зная, куда ее положить: на гвоздике, где обычно я вешал шинель, висел чужой офицерский плащ и поверх него, упираясь блестящим козырьком в воротник, новая фуражка. Все это, очевидно, принадлежало капитану. Лейтенант не по сезону сидел в роскошной мерлушковой кубанке с донышком в позументах крестом.
Наконец я нашел место для своей пилотки – повесил ее на ветку фикуса, блестевшего большими жестяными листьями в углу хаты: Люда любила городские цветы; шинель пришлось положить рядом с фикусом на пол.
– Вы из Москвы? – спросил я своих гостей.
Опять ни капитан, ни лейтенант не ответили мне. У лейтенанта был тот сосредоточенно-глуповатый вид, который всегда появляется у людей, принужденных делать что-то на ощупь, а капитан так ушел в свое писание, что, начни тут бить артиллерия, он и то, кажется, не прекратил бы работы.
Все это мне не нравилось. Кто они и что им нужно в моей избе?
Люда посмотрела на меня с откровенным сочувствием, передернула плечами и ушла за дощатую перегородку в свою каморку.
Красивый лейтенант вдруг перестал шуршать пленкой в мешке и уставился на капитана черными блестящими глазами:
– Уинстон, слушай… Ты не знаешь, что такое выя?
Я остолбенел от неожиданности этого вопроса, а возможно, и имя, которым лейтенант назвал бритоголового капитана, произвело на меня такое сильное впечатление.
– Выя? – капитан поднял голову и почесал карандашом за ухом. – По-моему, Миня, это коровьи сиськи…
– Слушайте, вы! – крикнул я, чувствуя желание стукнуть кого-нибудь по голове. – Вы долго будете злоупотреблять моим терпением?
Капитан и лейтенант удивленно переглянулись, словно только сейчас меня заметили.
– Из какой вы газеты? – продолжал я.
– Из вашей же, – холодно и спокойно сказал капитан, – напрасно вы так волнуетесь. Нас прислали сюда, потому что вы не обеспечиваете газету оперативной информацией, в то время когда все взгляды прикованы к вашему фронту. Понятно?
Капитан вылез из-за стола и вплотную подошел ко мне, продемонстрировав всю неуклюжесть закоренелого штатского, словно на маскарад переодетого в новые сапоги с короткими широкими голенищами и новое, еще не стиранное солдатское обмундирование.
Нацеливаясь мне в грудь заостренным концом карандаша, Уинстон говорил начальственным голосом:
– Редакция считает, что вы занимаетесь крохоборством. Нужно оперативно информировать читателей о положении на фронте, готовить народ к большим событиям, которые скоро начнутся. Понятно? Ваша беллетристика никому не нужна. Понятно?
То, что моя «беллетристика» никому не нужна, я хорошо знал. По правде говоря, это не очень волновало меня. А вот события – какие события имеет в виду капитан? Неужели им в Москве больше говорят, чем мы можем знать тут, на фронте?
– Что же вы сразу не сказали? – протянул я руку капитану. – Очень рад! Я мог бы догадаться, что кто-нибудь приедет мне на подмогу: из других редакций тоже съезжаются.
– А кто? – поинтересовался лейтенант Миня.
– Варвара Княжич, например… Вы ее, наверное, знаете?
– А, знаю, – засмеялся лейтенант. – Такая большая тетя… Ей с авоськой в очередь ходить, а не с фотоаппаратом ползать по передовой.
Я выразился бы иначе, но, если отбросить форму выражения, лейтенант был недалек от истины: мне и самому казалось, что Варваре Княжич нелёгко на фронте, она казалась слишком заурядной, домашней женщиной для довольно тяжелой и опасной профессии военного фотокорреспондента. Видно, капитан Уинстон думал совсем не об этом, когда, пронзив карандашом воздух, непримиримо сказал:
– Я ее вообще не пускал бы на фронт. Нечего ей тут делать.
– Почему? – поинтересовался я.
– Раз я говорю, значит, есть основания… Советую помнить, в какой редакции вы работаете, и поменьше с этой Княжич якшаться.
Это не только удивило меня, но и возмутило. Но, несмотря на все мои попытки установить причину его непримиримости, Уинстон ничего больше не захотел сказать. Совсем утомленный и этим разговором, и долгим бесплодным днем, полным тревожных мыслей и воспоминаний, я взял со своей кровати одеяло. Во дворе лежала куча свежего сена, там я и решил переспать ночь, чтоб не докучать моим гостям.
– Спокойной ночи, – сказал я и направился к дверям.
Люда, откинув занавеску, выглянула из-за перегородки уже в одной юбке и сорочке, из которой словно выплывали ее круглые плечи.
– Вы ж не ужинали, наверно… У меня есть картошка и простокваша.
– Спасибо, Люда, – отказался я.
Она медленно опустила занавеску и спрятала за перегородкой свои белые круглые плечи, потом исчезла и ее рука, тоже полная и белая, только с загорелой и огрубевшей от работы, почти коричневой кистью.
Свежее сено пахло в углу двора за маленьким сарайчиком. Месяц стоял уже высоко, блестящий и холодный, как большой диск, только что вынутый из никелировочной ванны. Тишину нарушало очень отдаленное бухание, которое можно было услышать, только лежа на земле.
Ничего не поделаешь, придется браться за Ивана Перегуду утром… А может, мне нечего и приниматься за него, если капитан Уинстон прав и скоро начнутся события… Никто тогда не обратит внимания на моего храброго разведчика: не до него будет. Ну что же, еще один подвиг останется неописанным, как сотни и тысячи других, сольется с подвигом всего народа, – может, это и лучше, может, и не нужна солдату личная слава, не для нее он создан… Может, оперативная информация – это и все, что нужно! Нет, не может быть, чтобы прав был этот Уинстон или как там его. И откуда у него такая непримиримая враждебность к Варваре Княжич? Что он знает о ней? Снова течение мыслей привело меня к этой женщине.
Не может Уинстон знать о ней ничего плохого. Она так откровенно и по-товарищески разговаривала со мной, сидя во дворе обменного пункта, так доверчиво рассказала о своих семейных делах, что я не мог не почувствовать к ней того, что называется старомодным словом «симпатия». В Москве ее ожидают маленькая дочка и старая мать, муж погиб… Где? На войне? Она не ответила. Неудобно было расспрашивать. Я вообще никогда никого не расспрашиваю. На мой взгляд, все должно выясняться само собой, в процессе жизни. Чужая жизнь должна стать частью моего существования, чтобы я мог понять ее до конца.
Тогда я еще не знал, что судьба Варвары Княжич вскоре раскроется для меня. Мне казалось, что встреча с ней – это одна из многих случайных встреч на моих фронтовых дорогах: как сошлись дороги, так и разойдутся, я никогда и не вспомню об этой женщине с фотоаппаратом. Мог ли я думать тогда, что через много лет образ Варвары Княжич всплывет в моей памяти и я не успокоюсь, пока не расскажу людям все, что знаю о ней?
Запах сена дурманил и без того отяжелевшую голову.
Чем это пахнет? Я глубоко вдыхал прохладный воздух и задерживал его в груди, весь проникнутый каким-то непонятным блаженством и еле ощутимой горечью. Ах, боже мой, чем же это пахнет?
Где-то и когда-то я вдыхал уже этот запах и ощущал уже это блаженство и эту неуловимую горечь, и оттого, что ощущение повторялось, оттого, что я не мог сказать себе наверняка, где и когда оно впервые возникло во мне, горечь и блаженство с еще большей силой охватывали меня и не давали заснуть.
Да это же просто донник и полынь и та жесткая кустистая трава, из которой делают веники, старался я успокоить себя. На ней еще растут такие кругленькие шишечки, как у мимозы, только не желтые, а сизоватые.
Что-то защекотало мне щеку легким касанием. Я протянул руку и вытащил из сена длинную привядшую плеть повилики, усыпанную белыми расплющенными колокольчиками – в свете луны они казались восковыми. И словно с этим стебельком повилики, с этими восковыми, не белыми, а сероватыми колокольчиками вытянул я конец длинной нити воспоминаний, которые связывались с запахом донника и полыни, воспоминаний недавних, но от этого не менее острых, хотя еще лишенных той разящей силы, которой заряжены давние впечатления бытия…
…Хуторок был маленький, он стоял меж высокими осокорями над глубокой балкой, всего-навсего с десяток беленых хаток под соломой, низеньких, с подслеповатыми оконцами. Мимо хуторка пролегала пыльная степная дорога, мы остановились тут, возвращаясь с передовой. Нет, года еще не прошло, месяцев одиннадцать… Это было в конце июля, кажется.
В хуторке стоял санбат, раненые лежали в палатках под высокими деревьями, грелись на солнышке; в кустах расположилась походная кухня, повар, голый до пояса белотелый татарин, большим блестящим ножом свежевал распятого меж двумя деревьями бычка.
Вид у нас был такой измученный, что начальник медсанбата, маленькая женщина с копной непослушных смолисто-черных волос, на которых чудом держалась новенькая пилотка, приказала нас накормить.
Нас было четверо: толстый лысоватый фотокорреспондент Костя, он болел сенной лихорадкой и непрерывно чихал, закрывая большие круглые глаза; маленький, щуплый сотрудник армейской газеты с грузинской фамилией, большой любитель популярных стихов и популярных острот; корреспондент центральной газеты Василий Дубковский, спокойный, молчаливый капитан, с которым я впервые встретился; он казался сухарем и не очень мне нравился… Я был четвертым в этой случайной компании.
Веселая кареглазая санитарка в ослепительно белом халате привела нас в маленькую хатку, совсем пустую и наполненную прохладой; в хате была полутьма: кусты заслоняли маленькие оконца. Чисто выскобленный ножом стол и две длинные лавки вдоль стен – больше ничего тут не было. В сенях за дверьми стояла кадка с водой, медный ковшик с длинной ручкой плавал в ней.
– Можете умыться, пока я принесу вам поесть, – щебетала веселая санитарка. – Вы корреспонденты? А я думала, корреспондент – это не меньше полковника!
Она брызгала карим золотом веселых глаз на всех нас по очереди, одаряла всех своей радостью, девичьей счастливой откровенностью и чистотой.
– Снимайте, снимайте гимнастерки, не стесняйтесь, я санитарка, все видела, что следует и что не следует.
Она поливала нам на руки, обливала из ковшика спину, холодная вода обжигала тело.
– Меня зовут Валя. И разве я думала, что смогу на все это смотреть? А когда немцы подошли под нашу Городню, я все бросила и пошла в санитарки. Разве можно дома с мамой сидеть в такое время? Коля тоже пошел добровольцем, мы с ним вместе учились в десятом классе… Живой, здоровый, ни разу не был ранен и в окружение не попал, я от него письма получаю и ему пишу.
Увидев, что нам нечем утираться, Валя бросила ковшик в кадку, побежала по тропинке между деревьев и очень скоро вернулась с полотенцем. Она развернула его и, держа на протянутых вперед ладонях, подала мне – я как раз кончил умываться и стоял, стряхивая воду с рук.
– Он меня так любит, так любит, – почему-то громко шептала Валя, – и в письмах у него такие красивые слова. Я верю, что он это искренне, в школе он не мог так писать, по литературе у него больше тройки никогда не бывало… у Коли…
Валя засмеялась, лицо у нее так засветилось, из-под длинных пушистых ресниц брызнуло столько золотого огня, что и я улыбнулся, словно все это относилось ко мне, а не к тому неизвестному Коле, который учился на тройки, а теперь пишет продиктованные любовью красивые письма этой девушке.
– Эх, как бы дожить бы до свадьбы-женитьбы и обнять любимую свою, – не пропел, а продекламировал сотрудник армейской газеты (не помню его фамилии).
– Доживем, – весело крикнула Валя, – ничего нам не будет, доживем!
Она перекинула полотенце через плечо и побежала по тропинке к кухне.
– Идите в хату, сейчас я вам принесу обед!
Фотограф Костя нашел в хате темный чулан и заперся в нем со своими кассетами.
Капитан Дубковский, так и не промолвив ни слова, уже сидел за столом на лавке. Он достал из кирзовой полевой сумки блокнот и мелким аккуратным почерком что-то в нем писал. Сванидзе – наконец-то я вспомнил его фамилию! – осматривал пустую хату, белые, подсиненные стены, на которых когда-то висели фотографии, – чистые прямоугольники светились там, и черные гвоздики еще торчали кое-где. Он заглянул в уголок под лавку, оттуда слышалось недовольное клохтанье.
– Сиди, сиди, дуреха, – сказал Сванидзе и сообщил: – Клушка. В одном решете сидит, другим накрыта.
Валя внесла и поставила на стол бачок с горячим борщом. Четыре грубых алюминиевого литья ложки она вытащила из кармана своего халата.
– Сейчас будет и хлеб.
Валя выскочила из хаты, а мы остались у стола, вдыхая запах борща. Мы позвали Костю, но он не откликнулся из своего чулана.
В отдалении возник знакомый завывающий звук моторов. Сванидзе глянул куда-то в угол под потолком и, как всегда, прибег к полуцитате:
– О, Герман, я его знаю!..
Звук моторов нарастал, они захлебывались и выли уже над крышей. Воздух громко вибрировал. Эта вибрация, казалось, прижимала низкий потолок нашей хаты к глиняному полу, чисто подметенному и сбрызнутому для свежести водой.
Капитан Дубковский закрыл свой блокнот, сунул его в полевую сумку и вышел из хаты. Он сразу же вернулся, и мы за долгое время услышали от него первое слово.
– Бомбардировщики. Восемь. – Дубковский сел за стол и взял ложку. – Будем обедать без хлеба.
Он помешал в бачке, зачерпнул навару и понес ложку ко рту. Валя вбежала в хату с нарезанным хлебом в руках, она несла его, прижимая к обтянутой халатом груди.
– Кружат прямо над нами, – тяжело хватая воздух и блестя на нас почти остановившимися глазами, громким шепотом крикнула Валя, – а у нас же столько тяжелораненых!.. Я побегу. Куда мы их денем?
Пронзительно, с нарастанием звука завыли бомбы. Мы попадали на пол. Валя, прижав руки ладонями к груди, стояла посреди хаты.
– Ложись! – крикнул, поднимая голову, Василий Дубковский.
Взрывы тряхнули нашу хату, словно подбросили ее вверх и снова поставили на место.
Под лавкой у моей головы забеспокоилась клушка. Она сбросила верхнее решето и взволнованно кричала, заглядывая под себя. Я глянул в решето. Мокрый крохотный цыпленок только что вылупился из яйца. Клушка, не переставая громко разговаривать, лапами выкатила расколотую пустую скорлупу из решета, уселась и накрыла своего первенца крылом.
Бомбы продолжали падать. Окна в хате давно вылетели. Нас обсыпало глиною с потолка, мы лежали, прижимаясь к полу, и запах мокрой, сбрызнутой водою глины смешивался со смрадным дымом, наполнившим хату через выбитые окна.
Моторы еще раз завыли над крышей, самолеты еще раз вошли в пике, но бомб уже не сбрасывали, звук их стал отдаляться и замер, погас, потонул вдали.
Я поднял голову. На пороге чулана стоял фотограф Костя, руки он держал в черном мешке и большими, как блюдца, беловато-голубыми глазами смотрел на пол. Лицо его темнело и на моих глазах сделалось совсем серым, как обмытый дождями некрашеный деревянный забор, губы дрожали.
Валя лежала на полу среди осыпавшейся глины и разбрызганных осколков стекла. Она лежала, уткнув в ладони то, что было ее красивой веселой головою, кровь стекала по нежному девичьему затылку, исчезала под белым халатом и вытекала расплавленным сургучом из-под руки на пол, на осколки стекла, на куски голубой глины. Ломти черного солдатского хлеба валялись возле Вали.
– До тебя мне дойти не легко, а до смерти четыре шага, – пробормотал маленький Сванидзе, и мы ему ничего не сказали. Нечего было сказать. В конце концов, каждый высказывается как может.
А потом мы лежали ночью на сене в балке, куда перенесли раненых, и рядом с нами сидела маленькая черноволосая докторша, начальник медсанбата, и, блестя в темноте влажными глазами, рассказывала про Валю и просила обязательно написать что-нибудь о ее санбате. И так же, как сегодня, пахло донником и стебелек повилики высунулся из сена и щекотал мне щеку, только вместо месяца висели на небе и заливали мертвым сиянием склоны балки немецкие осветительные ракеты, и слышался грохот танков, идущих по дороге над балкой.
Что-то зашуршало рядом со мной, и сонный голос пробормотал:
– Это ты, Людка?
Я не ответил. Над моим лицом склонилась взлохмаченная мальчишечья голова со стебельками сена, запутавшимися в волосах.
– А я думал, что Людка.
Я узнал Кузьму, пятнадцатилетнего брата Люды, похожего на цыганенка смуглого паренька, от острых глаз и острого ума которого ничего не могло укрыться – ни один шаг Людки, как он называл сестру, ни один взгляд солдат и офицеров, что стояли в их избе, ни одно слово плотника, который запрашивал с Люды слишком большую цену за новые стропила.
Кузьма положил голову на сено и громко, не по-мальчишечьи вздохнул.
– Вы не спите?
– Спи, Кузя. Ночь, я устал.
Он посопел носом, лежа на спине, потом повернулся на живот, подпер подбородок кулаками и зашептал мне в самое темя:
– Убегу в бойцы. Надоело мне с этой Людкой. Все вокруг нее как кобели вокруг сучки, не дождется она Сереги.
– По-моему, она честная женщина, – отозвался я.
Кузьма скрежетнул зубами.
– От Сереги третий месяц писем нет, а она каждый вечер с Демьяном под грушей. Знаю я эти стропила!
Он снова перевернулся на спину и засопел, полный недетской обиды и большой печали.
– Убегу, будь она проклята! – услышал я еще раз, как Кузя процедил эти слова сквозь стиснутые зубы, но тут сон одолел меня, и я провалился в дурманящий, горьковатый запах свежего сена.
7
Майор Сербин поднялся во весь рост в траншее, медленно оправил новую габардиновую гимнастерку и тогда только выпрыгнул на кукурузное поле. Но и тут он не стал спешить, хотя знал, что его хорошо видит немецкий наблюдатель, который сидит за речкой на высокой церковной колокольне.
Сербин наклонился над траншеей:
– Ну что ж, товарищ полковник, хоть вы и не проявили большого желания помочь мне, а все-таки спасибо.
– Больше ничего не могу сказать, майор, – отозвался холодно из траншеи полковник Лажечников, не поворачиваясь на голос Сербина.
«Да не торчи ты на глазах у немца, не торчи!» – хотел добавить полковник, но сдержался: этот молодец из третьего эшелона может бог весть что подумать.
За спиной у Лажечникова зашуршала сухая кукуруза. Сербин наконец-то ушел. Подумаешь, герой! Заявился на полчаса на передовую и хочет удивить людей, которые месяцами не выходят из-под огня, своим показным спокойствием и наигранной храбростью. Стыдно ему пригнуться! А демаскировать полковой НП не стыдно? Не успеешь ты перейти кукурузное поле, как немец начнет кидаться снарядами, и хорошо, если обойдется без потерь… А ты в это время уже будешь пить чай в Гусачевке.
Сдерживая раздражение, Лажечников снова наклонился к окуляру стереотрубы. Шуршание кукурузы за спиною утихло. Вот и хорошо, наблюдатель на колокольне, должно быть, зазевался и не заметил храброго майора, обстрела не будет.
В стереотрубу Лажечников видел ярко освещенные солнцем зеленые луга с копешками почерневшего сена, блестящее зеркало медленной реки, что наискось пересекала луга, образуя дугообразный выступ, подмытый водою противоположный правый берег и на нем, в зелени садов, большое село.
Каменная колокольня белою стрелой поднималась в небо над зелеными и красными крышами в центре села. Ближе к окраине избы стояли под соломой и камышом, а еще ближе к берегу реки тянулось длинное и приземистое, крытое тяжелой цементной черепицей строение колхозной свинофермы или коровника. Поблескивали остатками стекол низенькие продолговатые оконца, прорезанные высоко под самой крышей, – все строение хоть и было сплошь исклевано пулями, выглядело весело и мирно. И все село, и луга перед ним, и белая каменная стрела колокольни тоже выглядели мирно, хоть полковник Лажечников знал, что на белой колокольне сейчас сидит, как всегда, немецкий наблюдатель и смотрит в окуляр стереотрубы на высокий, в стеблях прошлогодней кукурузы обрыв над лугами левого берега, на его замаскированный НП, на иссеченную снарядами кустистую опушку леса, что начинается сразу же за кукурузным полем.
Село, которое разглядывал в стереотрубу полковник Лажечников, хоть и выглядело мирно, хоть и казалось уютным и веселым, на деле не было ни мирным, ни уютным, ни веселым.
Село имело мирный вид кладбища, на котором растут деревья и кусты, цветут цветы и зеленеет трава, в то время как между этими деревьями и кустами, под этими цветами и травою делают невидимое свое дело могильные черви.
За длинным строением колхозной свинофермы, за каждой избой, за плетнями и садами и даже за копнами прошлогоднего почерневшего сена на лугах левого берега сидели немцы. То, что они сейчас не стреляли, не имело никакого значения; ведь его люди тоже не стреляли, его людей тоже не было видно немецкому наблюдателю, однако этот наблюдатель знал: напротив села в лесу сидят советские солдаты – и, вполне возможно, знал не только номер части, к которой они принадлежат, но и фамилию их командира, то есть то, что хорошо знал о немцах и полковник Лажечников.
За излучиной реки у Лажечникова была переправа и небольшой плацдарм на правом берегу. С этого плацдарма позавчера на рассвете немцы, введя в дело новые танки, пытались сбросить в реку батальон капитана Жука.
Капитан Жук со своим батальоном не только висел на фланге у немцев, создавая угрозу для превращенного ими в узел сопротивления большого села, – он прикрывал переправу на левый берег в том месте, где кончался лес. Немецкие танки, если б им удалось прорваться через реку, могли выйти на оперативный простор в обход заболоченного леса и окружить дивизию генерала Костецкого.
То, что происходило позавчера на плацдарме капитана Жука, еще не было попыткой прорыва, скорее всего это была разведка боем, но эту разведку немцы осуществили при помощи своих новых танков и самоходных пушек, и уже одно это говорило об опасности их намерений.
Капитан Жук хорошо встретил немцев: его батальон, поддержанный огнем артиллерии с левого берега, выстоял на плацдарме и нанес гитлеровцам большие потери. А самым большим событием боя на плацдарме было то, что петеэровцам удалось подбить новый немецкий танк.
«Молодец Жук!» – думал полковник Лажечников, вспоминая командира батальона, который и вправду был похож на жука – маленький, худощавый и черный, с острыми встопорщенными усиками и такими же колючими глазками.
Капитан Жук действительно был молодец, и батальон его действительно отличался хорошими боевыми качествами, это не подлежало сомнению, хотя в то утро, когда немцы пробовали новые танки на плацдарме, в этом батальоне и случилось ЧП.
Петеэровец Федяк испугался «тигра», который двигался на его окоп, несмотря на огонь противотанковых батарей и выстрелы бронебойных ружей. Снаряды отскакивали от брони танка. Сам Федяк расстрелял все свои патроны, но от волнения и страха, очевидно, не мог попасть в уязвимые места танка – ни в его триплексы, ни в бензобаки. Федяк выскочил из окопа, бросив ружье и своего напарника, и побежал на переправу. На командном пункте батальона его задержали. Федяк дрожал всем телом, глаза у него были сумасшедшие, он не мог объяснить своего поступка. Обо всем этом пришлось давать много объяснений, и устных и письменных. В полку Лажечникова давно уже ничего подобного не случалось, да и во всей дивизии тоже. Неудивительно, что на это ЧП накинулись все, кому не лень.
А теперь еще и майор Сербин, председатель дивизионного трибунала, который должен судить Федяка, пристал со своими чисто психологическими вопросами. Может, он и вправду искренне заинтересован в том, чтоб понять, как мог стать дезертиром Федяк, немолодой солдат, отзывы о котором со всех сторон самые лучшие. Конечно, хорошо, что Сербин хочет разобраться в деле до конца, но ведь закон есть закон. Какое Сербину дело до того, что думает о Федяке Лажечников? Даже если б он был самым лучшим командиром полка, все равно не мог бы он знать всех своих бойцов, не может он знать по-настоящему и Федяка. Командир роты лейтенант Зимовец говорит, что лучшего солдата у него за всю войну не было. Этого Лажечникову довольно, так он и сказал Сербину.
Какая тяжелая обязанность ни лежала бы на твоих плечах, ты не должен перелагать ее на другого. На то ты и судья, чтоб судить без подсказок; никто не может с тебя снять ответственность за приговор, который тебе продиктует закон и твоя собственная совесть. Если же твоя совесть входит в противоречие с законом, значит, либо закон несправедлив, либо совесть у тебя не в порядке, и тут уж тебе никто не поможет. Конечно же Лажечников считал, что дезертира нужно судить, что бы ни толкнуло его на дезертирство, но вместе с тем он был полон сочувствия к Федяку, потому что знал, как тяжело было солдату встретиться с новым оружием, о котором давно ходило столько преувеличенных слухов, – не знал Лажечников только того, что иногда страшнее быть судьею, чем подсудимым, что иногда судья ставит себя на место подсудимого и словно самому себе выносит приговор.
Хорошо, что Сербин наконец ушел.
Лажечников знал майора Николая Иосифовича Сербина еще меньше, чем Федяка, ему не нравилась осторожная замкнутость председателя трибунала, постоянная настороженность, с которой он, казалось, вслушивался во все, что делалось вокруг, Лажечников не догадывался, что чрезмерно подтянутый и аккуратный, всегда чисто выбритый и вымытый майор Сербин прислушивается к тем голосам, которые в нем самом ведут непрерывный спор, оценивает и проверяет каждый свой шаг, каждый поступок и каждое слово и что эта самопроверка идет не от нерешительности или трусости Сербина, а от необходимости быть справедливым, которую он постоянно чувствует. Не знал Лажечников также и того, что требование справедливости от собственной души часто возникает как реакция на причиненную когда-то несправедливость, которая тяготеет над душою и угнетает ее.
Этого чувства Лажечников и не мог бы понять, оно было чуждым ему, потому что он был справедливым и добрым человеком по природе своей, его доброта и справедливость не стоили ему усилий. Возможно, это и не преимущество перед теми, кто должен выстрадать в себе доброту, понимание и сочувствие к человеку, а только счастливое свойство, избавляющее от душевных мук, – не в этом в конце концов дело, – хорошо, если человек не способен совершать преступлений против своей совести, но хорошо и то, что существует совесть, которая не дает спать человеку и спасает его от окончательной гибели.
Солнце стояло высоко над селом и лугами в чистом небе.
Солдат-письмоносец подполз к траншее почти неслышно.
– Вам письмо, товарищ полковник!
– Спасибо, Зубарев! – Лажечников взял у письмоносца аккуратно сложенное треугольником письмо, повертел, его в руках и спрятал в нагрудный карман гимнастерки. – Ты зачем сюда, мог бы и в штабе оставить.
– Так я ведь знаю, что вы давно ждете, товарищ полковник, – ответил Зубарев, лежа над окопом. – Сам жду не дождусь от своей старухи.
Он передвинул на спину сумку с письмами, чтоб удобней было ползти.
– Разрешите идти?
– Можно идти, – сказал Лажечников и попробовал пошутить: – Только осторожно, а то придет письмо от старухи, некому будет прочесть…
– Да это уж как водится, – улыбнулся на эту шутку Зубарев. – Старшина прочтет, поносит дня два, а потом пустит на раскурку… Я пошел, товарищ полковник, счастливо оставаться.
Зубарев пополз кукурузой к лесу.
Лажечников не спешил читать письмо. Адрес выведен рукой Юры, – значит, в тот день, когда треугольничек попал в почтовый ящик, с мальчиком все было хорошо. Этого было достаточно, чтоб согреть сердце Лажечникова. Жена его погибла от дистрофии в блокированном Ленинграде: она отдавала сыну почти весь свой скудный паек. Мальчик пережил мать. Вконец истощенного, его вывезли по Ледовой дороге через Ладогу в тыловой детский дом. Юре было неполных восемь лет, когда началась война. Это был веселый и крепкий мальчик, широкоплечий и высокий, весь в отца. Когда наконец после долгих розысков Лажечников нашел Юру в городе Камышлове, о существовании которого раньше не знал, и получил первое письмо с фотокарточкой, на него глядел с плохого снимка маленький печальный старичок с исхудавшим лицом и тонкими плечиками. Возможно, заведующая детдомом поступила неразумно, послав Лажечникову карточку Юры, – трудно ее упрекать, она хотела порадовать отца. Лажечников долго отказывался узнавать в старичке на фотографии своего Юру, хоть сомнений не могло быть: у мальчика было его лицо, и на этом истощенном, бледном даже на фотографии лице тусклыми угольками блестели глаза Ольги.