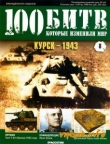Текст книги "Дикий мед"
Автор книги: Леонид Первомайский
сообщить о нарушении
Текущая страница: 24 (всего у книги 34 страниц)
Паренек лежал, закрыв глаза. Уповайченков увидел сумку и начал неумело подсовывать ее под затылок Кузе.
Уповайченков не узнал Кузю, хоть видел его в избе у Люды. Он не имел привычки обращать внимание на несовершеннолетние явления природы, которые его не интересовали, и не любил загромождать ими память. Кузя открыл глаза, узнал Уповайченкова и ужаснулся от мысли, что чудаковатый капитан прикажет отвезти его домой. Кузя притаился и лежал ни живой ни мертвый. Тревога его была напрасной – Уповайченков уже не смотрел на него. Как всякий, кто впервые побывал под обстрелом с самолета, Уповайченков не спускал глаз с неба… Он поздно попал на фронт и еще не привык к тому, к чему все тут давно привыкли или делали вид, что привыкли. Опомнился он только тогда, когда Васьков остановил машину у гусачевской школы, в которой помещался санбат.
На крыльцо вышла Оля Ненашко. Ее смелые глаза не смеялись, маленький круглый ротик не рассыпал язвительных слов. Она держала кулачки в карманах белого халатика и казалась совсем маленькой.
– Кого ты привез, Васьков? – спросила Оля, спускаясь с крыльца.
– Какой-то цыганенок в бойцы бежал, да и попал под пулю в моей машине, – небрежно пояснил Васьков, стараясь осмыслить перемену, которая произошла с хорошо знакомой ему Олей Ненашко. Вдруг брови у него полезли на лоб, глаза выкатились, и он сочувственно и восхищенно прошептал: – Осиротела, Олечка? Дали твоему капитану по шапке?
– Ни черта ты не понимаешь, Васьков, – грустно сказала Оля, не глядя на Васькова.
Кузю сняли с грузовика молчаливые и тоже чем-то угнетенные санитары.
– Как же тебя звать? – склонился над пареньком Васьков, до глубины души обиженный презрительными словами Оли. – Откуда ты?
– Я издалека… Я из-под самого Курска, – мужественно соврал, не раскрывая глаз, Кузя, который боялся только одного: что его узнают и отвезут домой. – А зовут меня Ваня…
– Ну что ж, Ваня, – вздохнул от души Васьков, – зашьют тебя, залатают дырочку, крепче будешь!
Санитары понесли Кузю, Васьков вскочил в кабину – Уповайченков уже сидел на своем месте, – и они опять тронулись в путь.
«Стой, Васьков! – сказал шофер сам себе, когда машина тяжело вползла на гусачевскую гору и проходила мимо церковной ограды. – Это кого же хоронят?»
Васьков затормозил, выключил скорость и выскочил из машины. Мотор продолжал работать, равномерно содрогаясь под капотом.
За кирпичной церковной оградой виднелись затылки выстроенной роты автоматчиков. Знамя дивизии алело на фоне белой церковной стены. Над пилотками автоматчиков по грудь были видны фигуры офицеров и генералов. Они стояли на бугорке лицом к Васькову, и он сразу узнал среди них нового комдива Повха, начальника политотдела Курлова, военврача Ковальчука, полковника Лажечникова и командиров других полков. Между ними стоял незнакомый Васькову генерал-лейтенант. Рядом с ним черноволосая женщина с бледным лицом, высоко подняв голову, смотрела поверх голов автоматчиков на широкий простор, открывавшийся с гусачевской горы. Синий газовый шарфик виднелся из-под ее серого пыльника, время от времени она притрагивалась к нему рукой, словно хотела поправить, – рука сразу же опускалась, женщина снова стояла неподвижно, с застывшим лицом. Под самой церковью с картузами в руках жалось несколько немолодых гусачевских колхозников да вытирали уголками платков глаза старухи – постоянные участницы всех похорон.
Все это видел не только Васьков, но и Уповайченков с высокого сиденья шоферской кабины. Но, должно быть, по-разному устроены человеческие глаза: Уповайченков, увидев картину похорон, остался спокойным, словно ему не было дела до всего, что он видел, а Васьков заволновался и потемнел лицом.
Уповайченков был слишком занят самим собой, чтобы близко принимать к сердцу то, что его непосредственно не касалось, а Васьков давно уже отвык думать только о себе – его отучили от этого два года фронтовой жизни.
Васьков подбежал к машине и выключил мотор.
– Что случилось? – прикрикнул на него Уповайченков. – Давай поехали, уже и так задержались!
– Да что вы за человек такой, товарищ капитан? – огрызнулся в сердцах Васьков, забывая, что перед ним офицер. – Неужели вы не видите, это ж нашего генерала хоронят! Эх, товарищ капитан!
Васьков махнул рукой и прошел в ограду.
Наконец до сознания Уповайченкова дошло то, что он видел так же, как и Васьков, но видел только глазами.
Уповайченков вышел из машины, пораженный собственной отчужденностью от всего, что происходит вокруг, поглядел на церковь, на солдат и офицеров, стоявших над могилою, и внезапная печаль, чувство незнакомое и чуждое ему, охватила его.
Уповайченков тоже прошел в ограду.
Всеми силами противясь печали, стараясь освободиться от нее, как от чего-то не только страшного, но и позорного, он прислонился плечом к белой стене церкви, – ему стало жаль генерала Костецкого, который недавно так тяжело обидел его, жаль белого света, жаль самого себя так, словно это его должны были сейчас опустить в могилу на Гусачевском кладбище.
Уповайченков не заметил, когда начались речи над могилой, и опомнился, только услыхав в тишине голос генерала Савичева. Савичев произносил обычные слова, которые принято говорить в таких случаях, но лицо его и голос свидетельствовали, что он вкладывает в эти обычные слова одному ему известный смысл, поэтому они хватали за душу всех, кто стоял над могилой генерала Костецкого… Уповайченков, как и все, кто стоял в церковной ограде, не знал, что генерал Савичев хоронит не только командира дивизии генерала Костецкого, – он не знал и не мог знать, что Савичев стоит над могилой друга, с которым была связана вся его жизнь. Но по лицу Савичева, по силе чувства, которое звучало в каждом его слове, даже Уповайченков понял, что Савичев имеет право закончить свою речь почти шепотом:
– Прощай, друг…
Невольно Уповайченков посмотрел на женщину, которая стояла рядом с Савичевым. По лицу женщины катились слезы; она смотрела теперь не в пространство поверх голов автоматчиков, а, казалось, себе под ноги и беззвучно шевелила губами, будто повторяла те слова, что отзвучали сейчас над могилой. Уповайченков проследил за ее взглядом и увидел две продолговатые ямы и два гроба, венки из еловых ветвей и лесных цветов, переплетенные красными лентами. В стороне немолодой солдат, сидя на корточках, докрашивал кровавой мумией жестяную звезду на сбитой из досок солдатской пирамидке.
– Это Гулоян рядом с ним… – всхлипнул над ухом Уповайченкова голос Васькова.
Уповайченков оглянулся. Лицо Васькова было мокрым от слез, он их не стыдился и, казалось, совсем не замечал, – эти слезы от него не зависели, ими Васьков оплакивал Костецкого и Гулояна, как завтра другие, может быть, оплачут его самого.
Прозвучал прощальный салют. Оркестр, которого Уповайченков сначала не увидел за плечами бойцов, поднял медные жерла труб и прорыдал первые такты траурного марша. Сухим треском вплелись в печальную мелодию короткие очереди автоматов, музыка погасила их глубоким вздохом и поплыла над землею, над Гусачевским кладбищем. Вдруг мелодия траурного марша оборвалась, будто на полуслове, и возникла уже обновленная, торжественная, как безоблачное небо, которое неподвижно летело над горою, над церковью, над полями и дорогами, видневшимися с горы, ничего не зная ни о войне, ни о смерти, ни о страданиях и надеждах людей. Тяжелым темным крылом взлетело склоненное знамя. Послышался резкий окрик команды. Бойцы стукнули сапогами, ступили в такт музыке и вышли из ограды.
– Идемте, идемте, товарищ капитан, – снова услышал Уповайченков голос Васькова у себя над ухом. – Увидит меня тут Кукуречный – беда будет…
Уже в сумерках Уповайченков прибыл в штаб дивизии полковника Повха, а когда совсем стемнело, переправился на плацдарм.
7
Провожая жену на аэродром после похорон и еще ранее – произнося речь на Гусачевском кладбище, генерал Савичев уже знал о приказе Главного командования всем командирам соединений, частей и подразделений выйти на передовые наблюдательные пункты и быть в боевой готовности.
Знал об этом приказе и новый комдив Повх, и командиры его полков тоже знали, но генерал Савичев знал больше их.
Фашистского наступления следовало ждать с часу на час.
Для комдива Повха и для командиров его полков в приказе быть в боевой готовности не было ничего неожиданного – они долго готовили своих бойцов к обороне, хоть и думали иногда, что это делается только на всякий случай, и в душе не теряли надежды на наступление: после победы на Волге трудно было мириться с мыслью об обороне.
Савичев знал больше Повха и его командиров настолько, насколько дальше может видеть человек, стоящий на горе вблизи от вершины, по сравнению с теми, кто стоит у ее подножия. В его поле зрения были не только готовые к наступлению вражеские войска, но и готовые их встретить наши дивизии, армии и фронты. Генерал Савичев знал по номерам и по фамилиям командиров те дивизии и корпуса, которые должны были с часу на час принять на себя новый фашистский удар. Знал он также, кто будет ждать в резерве, чтобы в нужную минуту стать на место тех, кто пошатнется или падет. Он знал не только, сколько снарядов и мин разного калибра, бомб разного веса, винтовочных патронов и пулеметных лент лежит на складах в лесах и оврагах неподалеку от линии фронта, сколько их сосредоточено на более отдаленных базах снабжения и сколько должно быть доставлено различными видами транспорта в ходе самой битвы, – Савичев знал также, на сколько коек развернуты госпитали в прифронтовой полосе и сколько санитарных поездов будет эвакуировать тяжелораненых в глубокий тыл. На основании почти безошибочных статистических выкладок знал он и сколько будет этих раненых; больше того, ему почти точно было известно, сколько следует ожидать убитых как среди солдат, так и среди командного состава. Это знание облегчало его задачу как военачальника, который должен все знать и все предвидеть, чтобы хорошо делать свое дело на своем месте, но это знание также и обременяло его как человека, которому легче бывает иной раз выслушать готовый приговор судьбы, чем видеть, как он медленно, но неотвратимо складывается.
Зная много, генерал Савичев многого не знал.
Не знал он, произнося речь над могилами Костецкого и Гулояна, кого именно из тех офицеров и солдат, что стоят рядом с ним, он уже не увидит после битвы, и то, что Савичев не знал, увидит он их снова или они падут на поле боя, наполняло его слова особым смыслом и особой скорбью, будто он старыми, всем известными словами отдавал последние почести не только своему другу Родиону Костецкому и бронебойщику Араму Гулояну, но и всем известным и неизвестным друзьям и боевым товарищам, которых не он один мог потерять в той битве, что должна была вот-вот начаться.
Не знал Савичев и того, что принесет ему самому эта битва. Савичев мог не думать о себе, но не думать о Володе он не мог.
Два фашистских воздушных флота – около двух тысяч самолетов – стояли на прифронтовых аэродромах, более двухсот бомбардировщиков базировалось на аэродромах в гитлеровском тылу. Бои в воздухе даже во время затишья не прекращались ни на один день.
Савичев знал, какой крови стоит каждая победа, знал, что эта кровь прольется и на земле и в воздухе, не мог он знать только одного – будет ли среди той крови, что должна пролиться в новой битве, кровь его Володи.
Длинный, приземистый «оппель-адмирал» снова летел по полевым дорогам. Откормленный затылок Калмыкова темнел над белой чертой подворотничка, над его сержантскими погонами.
Катерина Ксаверьевна сидела рядом с Савичевым, он чувствовал своим плечом тепло ее плеча, понимал, что делается в ее сердце, и не мог поделиться с нею своими тяжелыми мыслями.
Савичев не мог сказать жене о том, что с часу на час должно начаться новое фашистское наступление, не только потому, что это была военная тайна, но потому главным образом, что наступление в ее мыслях неминуемо связалось бы с судьбой Володи.
«Лучше ей всего этого не знать», – думал Алексей Петрович.
Синий шарфик Катерины Ксаверьевны, наполненный встречным ветром, трепетал, как живой. Катерина Ксаверьевна казалась совсем спокойной. Лицо ее было растроганным и печальным. Может быть, воспоминания о прожитой жизни, переполнявшие Катерину Ксаверьевну, сделали возможной перемену, которая в ней произошла, может быть, смерть Костецкого, страдание и силу которого она видела, убедили ее в том, что надо и самой быть сильной для того, чтобы жить и надеяться. В душе ее совершалась глубокая и трудная работа, медленно готовившая ее к тому новому, чем она должна была теперь жить, и Катерина Ксаверьевна все время прислушивалась к той внутренней работе, что совершалась в ней независимо от ее желания и воли.
Савичеву казалось, что его Катя вернулась к нему из страшной дали, это снова была его самоотверженная Катя, она снова понимала его – не только каждое слово, но и молчание, как в прежние годы… Ничто уже не разделяло их.
Мотор «оппель-адмирала» работал почти неслышно. Скаты тихо шуршали по мягкой грунтовой дороге. Тяжелые колосья нескошенной пшеницы по обе стороны дороги низко склонялись к земле… Некому ее жать. Еще день-два, и зерно начнет высыпаться – переспелое зерно, которое должно бы лечь в закрома и амбары, в бетонные башни элеваторов, а ляжет в землю. Древний образ битвы вспомнился ему: черная земля под копытами костями засеяна, а кровию полита – горем взошли они по русской земле… Снопы стелют головами, молотят цепами булатными, на току жизни кладут, веют душу от тела… Как давно это сказано, как изменилось за века все на земле, только этот древний образ не состарился: веют душу от тела, стелют снопы головами!
В небо послышался форсированный воющий звук моторов. Савичев оторвал глаза от пшеницы, посмотрел вверх и увидел карусель воздушного боя: шесть немецких бомбардировщиков кружили в небе, на них налетали наши истребители, стараясь разорвать сомкнутый круг, слышались пулеметные очереди, выстрелы скорострельных пушек… «Может быть, наш Володя там», – подумал Савичев и снова стал смотреть на пшеницу, чтобы не привлекать внимания Кати к воздушному бою. Но Катя не подняла головы, они словно поменялись местами после смерти Костецкого: теперь Савичев все время вспоминал про Володю и не мог отрешиться от мыслей о нем, а Катя, казалось, совсем забыла о сыне, ни словом не вспоминала, будто примирилась с тем, против чего так горячо восставала.
Вой моторов в воздухе нарастал. Савичев не мог не посмотреть в небо. Боевая карусель истребителей и бомбардировщиков развертывалась у него на глазах; он увидел, как истребители перестраиваются, готовясь к преследованию, и тут произошло то, что наполнило его душу тяжким предчувствием, – послышалась пулеметная очередь, один из истребителей словно споткнулся в небе и, перевертываясь с крыла на крыло, волоча за собой длинный хвост густого, черного дыма, начал падать прямо на деревья уже близкого леса, за которым скрывался аэродром… Савичев со страхом оглянулся на Катерину Ксаверьевну: она тоже смотрела в небо, но в ее мыслях гибель истребителя, наверно, не связывалась с возможной судьбой Володи, она будто и не видела того, что произошло.
Савичев облегченно вздохнул.
– Помнишь, Алеша, – вдруг сказала Катерина Ксаверьевна, – ты помнишь, как Володя болел корью… Он был совсем маленький, лежал в затемненной комнате и все время плакал. Что мы ни давали ему, а он все плакал и плакал, не хотел брать никаких игрушек и сказок слушать тоже не хотел…
– Помню, Катя.
– Ты ходил в академию, а я сидела возле него и не могла унять его плач… А вечером ты принес ему игрушку, он увидел ее и перестал плакать. Глаза у него засветились, словно он сразу выздоровел… Ты помнишь, что принес ему тогда?
– Помню, Катя. Они впервые тогда появились в продаже.
– Механическая игрушка, маленький зеленый танк… Танк ползал по табуретке, которую мы поставили у Володиной кроватки, и высекал огонь, искры летели из жестяной пушечки… Очень хорошо это было сделано!
– Там был вставлен кремень от зажигалки.
– Мы тоже склонялись над этим танком и тоже радовались с тобой, Алеша… Неужели мы ничего не понимали?
Нет, это ему только показалось, что она забыла о Володе. Катя все время думает о нем своими материнскими мыслями, не похожими на его мысли.
– В той моей радости у жестяного танка была жестокость, сегодня я расплачиваюсь за нее, – сказала Катя.
Она прижалась к плечу мужа, словно ища у него защиты от своих мыслей. Савичев хотел ответить ей, она это поняла и опередила его ответ:
– Не надо. Не говори ничего. Мы оба были жестоки тогда…
Так вот о чем думает его Катя! Жестокость… Она не понимает, что есть добрая жестокость и жестокая доброта. Кроме жестокости отца, который помнит обо всех прочих отцах, есть жестокость матери, которая забывает обо всех других матерях. Да, ее правда: нельзя забавлять ребенка даже игрушечным оружием, пускай плачет, – но и его правда: если б не было доброго оружия, то много ли осталось бы на свете счастливых детей?
– Не надо, не надо! – сказала Катя, не слушая его слов. – Сколько уже говорилось о последней войне!
– Я не могу тебе обещать, что и это последняя война.
Они говорили тихо. Бой в воздухе давно кончился, небо очистилось. Тихо работал мотор «оппель-адмирала». Аэродром выплыл неожиданно из-за леса, большое летное поле выглядело как опустевший, вытоптанный скотом выгон, – все самолеты были в воздухе, только в конце поля одиноко стоял серебристый пассажирский «Дуглас», дугообразная дверь самолета была открыта, из нее, пригнувшись и придерживая рукой фуражку, выглядывал офицер.
Навстречу машине бежал дежурный по аэродрому. Калмыков притормозил, дежурный, не спросив разрешения, прыгнул на переднее сиденье.
– Извините, товарищ генерал… Хотели уже отправлять… Срочный приказ.
Дежурный махнул рукой шоферу – Калмыков повел машину напрямик через поле и остановился под крылом самолета.
Взревел один, потом второй мотор, пропеллеры рванули воздух, синий шарфик Катерины Ксаверьевны вырвался из-под воротника и струился над ее плечом, она придерживала волосы и улыбалась Савичеву прежней, совсем молодой улыбкой, только глаза ее неестественно сухо горели и, казалось, ничего не видели. Дежурный что-то кричал офицеру, стоявшему в двери самолета, тот кивал головой, слов за ревом моторов не было слышно.
Савичев обнял Катю и почувствовал, как дрожат ее тонкие плечи. Он поцеловал Катю в висок, в шелковую прядку, уже подернутую сединой, – сказать он ничего не мог: надо было кричать, чтоб она услышала… Катя подняла на него глаза, руки ее лежали на звездах его золотых погон, наклонила к себе его голову и поцеловала в лоб.
Лесенки не было, аэродромный солдат придвинул к самолету несколько пустых ящиков, по ним Катерина Ксаверьевна поднялась в кабину, солдат отодвинул ящики, хлопнула дверь, и самолет сразу же, подпрыгивая, покатился по полю. Савичев успел заметить, как задергалась желтая занавесочка на одном из окошек кабины, увидел за толстым стеклом руку и лицо, – была ли то Катя, он не знал.
Самолет оторвался от земли в противоположном конце поля. Савичев долго стоял у пустых ящиков, подняв фуражку над головой, и следил за самолетом, который медленно набирал высоту и разворачивался над аэродромом. Савичеву казалось, что Катя видит его, ему хотелось, чтоб она искала его глазами на земле… Было бы тяжело думать, что Катя сразу же села на свое место в кабине и закрыла глаза, чтоб не бояться высоты. Самолет был уже высоко и казался совсем маленьким, когда Савичев увидел, что с обеих сторон к нему пристроились юркие, как осы, истребители.
– Вы не беспокойтесь, товарищ генерал, – услышал он голос рядом с собой и удивился, что слышит его после рева моторов, – до самой Москвы будут провожать.
Голос принадлежал аэродромному солдату в замасленной гимнастерке. У солдата было доброе морщинистое лицо, он с сочувствием смотрел на Савичева, словно понимал, что творится у него на душе.
– Она не любит летать, – сказал солдату Савичев.
– А я тоже не люблю, – отозвался солдат и, не обращая больше внимания на генерала, начал возиться со своими пустыми ящиками.
Савичев оглянулся – он был один посреди поля. – Калмыков ждал его в машине у леса. Надев фуражку, Савичев медленно пошел к машине.
Капитан Петриченко казался теперь уже не серым, а землисто-зеленым, словно лицо его протравили какими-то кислотами. Петриченко стоял посреди двора и по привычке расчесывал пластмассовой расчесочкой тонкие волосы. Он исхудал за эти дни, и хоть габардиновые бриджи и гимнастерка на нем были почти совсем новые, они казались поношенными, несвежими. Весь вид капитана Петриченко говорил: «Мне теперь все безразлично, и лицо мое, и одежда, сидеть в приемной у генерала и оттачивать для него карандаши можно и с таким зеленым лицом и в такой жеваной гимнастерке…»
Когда «оппель-адмирал» генерала Савичева въехал во двор, лицо Петриченко совсем потемнело, выражение безнадежного страдания появилось в его глазах.
– Что случилось, Петриченко? – оглядел его с головы до ног Савичев. – Вы больны?
Петриченко стоял навытяжку перед генералом, глядя куда-то в сторону, чего он не позволил бы себе никогда раньше: подчиненный должен смотреть в глаза начальнику.
– Вас ждет командующий авиацией, – сказал Петриченко. – Давно уже ждет… Как только вы уехали с Катериной Ксаверьевной.
Савичев быстро прошел в избу. Петриченко посмотрел ему вслед, пригладил обеими руками волосы и пошел за ним медленно, будто ступая по тонкому льду над полыньей.
Грузный генерал с мягкими, покатыми, как у женщины, плечами сидел у Савичева в комнате, вытянув под столом короткие ноги в блестящих сапогах. Усталость блуждала по его бледному большому лицу, он тяжело дышал и, склонив набок коротко остриженную седую голову, глядел на чистый стол перед собою. Савичев сел напротив него на стул для посетителей. Командующий поднял от стола лицо, красноватые болезненные мешочки под его маленькими добрыми глазами набухли, он побарабанил короткими толстыми пальцами по столешнице.
– Уютно у тебя, Алексей Петрович, хорошо…
Командующий всем говорил «ты» – солдатам и генералам, знакомым и незнакомым. Живот у него начинался прямо от шеи; трудно было поверить, что этот усталый, немолодой человек был когда-то прославленным лётчиком, об отчаянной смелости, неутомимости и изобретательности которого ходили легенды.
В избе слышался низкий вибрирующий звук, словно где-то работал маленький моторчик. Звук то усиливался, то совсем затихал, будто моторчик выбивался из сил – вот-вот уже должен был остановиться, но снова набирал обороты и начинал так же неумолчно гудеть.
Савичев смотрел на командующего с печальным сочувствием:
«Отлетался ты, старый сокол… Гипертония, астма… И по земле тебе трудно ходить».
«Старый сокол» молча покачивал головой, словно соглашаясь с мыслями Савичева.
– Полетела, – наконец проговорил он, имея в виду Катерину Ксаверьевну. – Это хорошо…
Савичев еще во дворе знал, что не с добром пришел к нему старый летчик. Общих дел у них не было, а если и появлялись, они легко решали их по телефону. Но Савичев не мог и не хотел верить в то, с чем пришел к нему командующий. Он вспомнил боевую карусель самолетов в небе над дорогой к аэродрому, черный хвост дыма за истребителем, который, переворачиваясь с крыла на крыло, падал на лес… Лицо Володи проплыло перед ним, родное мальчишеское лицо. Володя печально улыбался, словно заштрихованный тонкими полосами дыма, влажно блестели его глаза, он говорил:
– Ну что ты, отец, я ведь уже не мальчик!..
Снова из-за смуглого лица Володи возникло большое, бледное лицо командующего, и Савичев услыхал его усталый голос, с сопением и одышкой после каждой фразы. Савичеву уже не нужно было слышать того, что говорил командующий, но он вслушивался в слова старого генерала, который считал, что должен рассказать Савичеву все, что знает о гибели Володи из донесений своих подчиненных, – вслушивался, как во что-то плохо выдуманное, лишенное какого-либо правдоподобия…
– Ты не удивляйся, Алексей Петрович, что так случилось, – у Кутейщикова большие потери в дивизии, он вынужден был сразу же послать в бой молодых летчиков. Должен же молодой летчик когда-нибудь сделать свой первый боевой вылет, раньше или позже, а должен. Младшего лейтенанта Савичева Кутейщикову тоже пришлось послать. Уже израсходовав значительную часть боекомплекта, Володя преследовал двух «юнкерсов», двигавшихся по правому пеленгу, и открыл прицельный огонь по левому мотору ведомого…
Зачем ему знать эти подробности? Командующий повторяет донесение, будто выучил его наизусть. Он хорошо знает, что такое боекомплект, правый пеленг, прицельный огонь, и выговаривает эти слова с видимым удовольствием, хоть и трудно ему их выговаривать и надо делать передышку после каждого слова. Мотор загорелся, «юнкерс» резко развернулся влево и врезался в хвост машины своего ведущего, оба бомбардировщика рухнули на землю.
Савичев уже не слышит голоса командующего, который тяжело, с одышкой повторяет сухие слова боевого донесения: «фокке-вульф» появился в небе, когда младший лейтенант Савичев, сделав круг над горящими «юнкерсами», уже должен был присоединиться к своему звену истребителей – он не успел набрать высоту…
У командующего что-то заклокотало в груди. Савичеву показалось, что старый летчик всхлипнул, – он поднял голову и увидел, что командующий уже вышел из-за стола и стоит рядом с ним. Почти прикрывая большим, чисто выбритым подбородком первую пуговицу своего кителя, командующий смотрел на сидящего Савичева сверху вниз.
– Ты прости меня, Алексей Петрович… У меня самого – один под Ленинградом, другой под Вязьмой… Не прячут своих сыновей от войны советские генералы, не прячут!
Командующий пошел к двери, твердо ступая короткими ногами в блестящих шевровых сапогах. Савичев проводил его глазами, так и не поднявшись со стула для посетителей. Дверь закрылась. В приемной зазуммерил телефон, послышался голос Петриченко, и опять настала тишина, в которой вибрировал и словно ввинчивался в мозг низкий тревожный звук. Савичев подошел к окну, отогнул ряднинку. Обманутый прозрачностью стекла, за ряднинкой бился большой, мохнатый, разрисованный золотом по черному шмель. Савичев открыл окно, шмель форсированно загудел своим моторчиком и вылетел, сразу набрав высоту. Блеснули на солнце его крылышки, и он слился с ярким, солнечным воздухом.
Савичев отошел от окна, – у стола стоял землисто-зеленый Петриченко, в руках у него белел лист бумаги. Савичев сел на свое место за столом и протянул руку к карандашу, еще с утра хорошо отточенному Петриченко.
– Что у вас там, Петриченко?
Адъютант молча подал через стол свой лист. Лист лег перед Савичевым так, что он сразу смог прочитать вверху большие буквы: «Рапорт».
– Не держите меня возле себя, Алексей Петрович, – сказал капитан Петриченко, глядя на карандаш в руке Савичева. – Теперь я уже точно знаю, что вы не должны меня держать…
Савичев хотел сказать Петриченко, что ему не надо уходить от него, что каждый должен делать свое дело на своем месте, но землисто-зеленое лицо Петриченко говорило ему больше, чем могли бы значить любые слова, и Савичев, не читая рапорта, написал в углу листа наискось: «Не возражаю. Савичев».
– Спасибо, Алексей Петрович, – протянул руку за рапортом Петриченко.
Савичев придержал рапорт рукой.
– Вам придется потерпеть, пока мне дадут другого адъютанта… Это, наверное, не в один день устроится?
– Мне бы только перспективу иметь, товарищ генерал, я согласен потерпеть.
– Хорошо, Петриченко. Спасибо за службу. Идите.
Петриченко вышел. Савичев положил перед собою руки вверх ладонями на стол и долго сидел неподвижно, словно разглядывая их, эти чужие, совсем ненужные ему руки… Он закрыл лицо ладонями.
– Катя! – сквозь руки проговорил Савичев. – Ты слышишь меня, Катя? Как же я скажу тебе? А этой девочке… Тоне? Ей тоже надо будет сказать! Но как? Научи меня, Катя!
8
Из записок Павла Берестовского
Кажется, только Дубковский остался в избе.
Я вышел первым и, не зная, куда себя деть, лег на моей куче сена за сарайчиком.
Не поднимая усталой, тяжелой головы, я вскоре увидел, как через наш двор прошла Варвара Княжич с Аниськой. Варвара обнимала маленькую Аниську за плечи большой рукой и что-то тихо говорила. Аниська так же тихо отвечала ей… Голоса были спокойные, будто ничего не случилось.
Спустя немного времени с улицы появился Миня. Он вошел во двор, оглядываясь, словно боялся, что кто-то за ним гонится, походил беспокойно между избой и колодцем, сел на завалинке и закурил папиросу. Спичка осветила его красивое лицо, как в фонаре загоревшись в сложенных лодочкой ладонях.
Дмитрий Пасеков вышел во двор в исподней рубахе, белым пятном проплыл к колодцу, загремел ведром, подымая воду, и долго пил, обливая себе шею и грудь. Миня тихо окликнул его. Они недолго посидели на завалинке вдвоем, потом Пасеков сбегал к Александровне и сразу же вернулся, прижимая к белой рубахе что-то большое и темное. Миня поднялся ему навстречу, брякнула щеколда – они молча нырнули в темные сени Людиной избы.
То, что мой друг Дмитрий Пасеков в ту ночь искал общества фотолейтенанта Мини, меня ничуть не удивило. С некоторого времени я заметил, что между ними, несмотря на всю разницу, есть много общего. В чем оно заключалось, это общее, я понял не сразу. Может быть, только теперь, когда я знаю уже все, мне легко объяснить это себе, а тогда было только неотчетливое чувство, зыбкое и неуловимое, от которого я напрасно старался избавиться.
Миня существовал своим вегетативным существованием, не зная разницы между добром и злом, не ведая ни стыда, ни мук и укоров совести; каждую минуту своего существования он чувствовал себя добрым малым, которому очень везет в жизни: все плывет ему в руки, товарищей у него множество, женщины его любят, более того, летят к нему, как бабочки на огонь, и прощают ему то, чего не простили бы никому другому.
Дмитрий Пасеков не был ни таким молодым, ни таким красивым и счастливым, как Миня, но и в его существовании я заметил Минину вегетативность, с одним, правда, различием: Пасеков хорошо знал короткое расстояние между добром и злом, знал муки и укоры совести и почти постоянно чувствовал стыд, жгучий стыд, который и тщился замаскировать наигранной веселостью, отчаянным со всеми панибратством, притворной искренностью, за которой угадывался холодный эгоизм, – словом, всем тем, что так поразило меня в нем после продолжительной разлуки.
Нет, Пасеков не был счастливым, быть счастливым мешала ему совесть, а может быть, и то, что он боялся, как бы кто-нибудь не заметил ее в нем и не сказал: «Брось притворяться, дружище, ты мог бы быть и счастливее и лучше, если бы умел себя держать в руках и не только знал границу между добром и злом, но и мог не переходить ее».