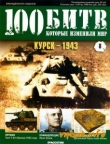Текст книги "Дикий мед"
Автор книги: Леонид Первомайский
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 34 страниц)
Она очень хорошо относилась к Володе, просто не знала, куда его посадить. Анастасии Петровне приходилось тяжело работать: она шила ватники для бойцов в артели, и пальцы ее были всегда исколоты иголкой, которую надо было проталкивать сквозь толстый слой ваты. Она тоже была очень милая и доверчивая и совсем еще молодая. Володя и к ней чувствовал нежность, узнавая в ней Тонину доброту, Тонины постоянные вспышки смущения, когда вдруг вся кровь бросалась ей в лицо и слезы выступали на совсем-совсем голубых глазах от неосторожного слова или взгляда.
Анастасия Петровна всем восхищалась в Володе: и тем, что он пошел из десятилетки в авиаучилище, и тем, что отец его – генерал, и что мама его вместе с отцом принимала участие в гражданской войне.
Возможно, если б Анастасию Петровну не увезли в больницу – прямо из мастерской, где она шила ватники, – ничего и не случилось бы.
Вечером они остались одни в том маленьком домике, Тоня и Володя… Ошеломленная бедой – Анастасию Петровну сразу же начали готовить к операции, – Тоня плакала. Володе до слез стало жаль ее. Она сидела на краю железной кровати, покрытой стеганым одеялом. Он подошел и положил ей руки на плечи, как взрослый. Тоня подняла на него свои детские глаза… В эту минуту погас свет. Он часто гас: маленькая городская электростанция не выдерживала нагрузки военного времени. В этот вечер ему не следовало бы гаснуть.
Утром Тоня побежала в больницу, там ей сказали, что Анастасия Петровна умерла на операционном столе: гнойный аппендицит, операция запоздала.
«Надо сказать отцу про Тоню, – думал Володя. – Я обязан ему все сказать… Пускай он расскажет маме».
Как он скажет отцу и будет ли у него время для этого, Володя не знал. Мать не оставляла их ни на минуту. С матерью он не мог говорить про Тоню, мать ужаснулась бы, она до сих пор считает его мальчиком. Отец поймет все с полуслова, он ведь мужчина, с ним можно говорить откровенно. Надо только остаться наедине, тогда он и скажет, как Тоня пришла его провожать и в последнюю минуту, давая ему маленькую карточку, снятую для удостоверения официантки, сказала шепотом:
– У нас будет ребеночек…
Он вспомнил, как забилось у него сердце в тот миг, и снова услышал голос Тони:
– Ты жалеешь, Володя?
Володя перестал поправлять пилотку и повернулся к отцу. Взгляды их встретились.
– Ты хочешь нам что-то сказать, Володя?
– Нет, – сказал Володя и отвел глаза.
– Может, ты мне хочешь что-то сказать? – с ударением спросила Катерина Ксаверьевна.
– Нет, мама, ничего, – улыбнулся ей Володя.
Катерина Ксаверьевна склонила голову, она уже снова сидела за столом и смотрела на свои руки. Ей тоже показалось, что Володя скрывает от нее нечто важное, о чем она должна знать и что он не хочет доверить ей.
Гордость Катерины Ксаверьевны страдала оттого, что она показала – впервые в жизни – свои слезы Володе; ее суровые, требовательные глаза вдруг стали беспомощными и не могли уже ничего приказать ему, ничего не могли требовать – только просить: береги себя.
Страдала и мужская гордость Алексея Петровича: ему не пришлось до конца решить вопрос, который поставила перед ним Катерина Ксаверьевна, вопрос этот решился сам собой, тем, что Володя явился к своему начальству раньше, чем к нему, и начальство все сделало, как было нужно, взяв на себя ответственность за судьбу и жизнь его мальчика, словно сознательно хотело снять тяжесть с его отцовской души… Но хоть эта тяжесть и была снята с генерала Савичева, ему не стало от этого легче. Теперь ему нечего уже было решать.
Володя, пересилив себя, поднял руку к пилотке красивым, подчеркнуто четким движением, стукнул каблуками новых сапог и деланно веселым голосом отчеканил:
– Разрешите отбыть, товарищ генерал-лейтенант?
Савичев подхватил брошенный ему вызов. Он выпрямился и сразу стал тем подтянутым генералом Савичевым, каким знали его подчиненные, и сказал своим доброжелательно-спокойным начальническим голосом:
– Счастливого пути, товарищ младший лейтенант. Рассчитываю слышать о вас наилучшие отзывы товарищей и начальников.
Только после этих слов каким-то неестественно быстрым движением Савичев ухватил сына обеими руками за плечи, пальцы его наткнулись на обшитые колючей золотой тканью картонки погон, он прижал Володю к себе и хрипло прошептал ему в шею:
– Ты прости нас!.. Мы тебя любим, Володя!..
– Ну что ты, отец, я ведь уже не мальчик, – так же тихо отозвался Володя.
В приемной собралось тем временем много старших офицеров, даже один генерал сидел на месте Петриченко, за столиком с карандашами. Он поднялся, когда открылись двери, и Савичев вышел, пропуская вперед Катерину Ксаверьевну и Володю. Полковники, подполковники и майоры стояли смирно. Генерал Савичев улыбался им своей приветливой улыбкой.
«Вот видите, – словно говорила его улыбка, – с сыном пришлось на фронте встретиться!»
И генерал, который пришел к Савичеву на прием, и все полковники и подполковники в ответ ему улыбались сдержанно, с полным пониманием того, что происходит.
Петриченко вышел за ними из избы, с порога он увидел, как у ворот генерал прижал к себе и трижды поцеловал Володю.
Савичев остался у ворот, Катерина Ксаверьевна пошла с Володей вниз по улице к шлагбауму. Она казалась теперь Петриченко совсем маленькой рядом с высоким Володей.
Вдруг Володя остановился.
– Погоди, мама.
Катерина Ксаверьевна кивнула и тоже остановилась, опершись на штакетный заборчик у избы, мимо которой они проходили.
Быстрыми шагами Володя возвращался к отцу. Еще на ходу он начал расстегивать пуговицу нагрудного кармана; остановившись перед Савичевым, он вытащил из книжечки офицерского удостоверения маленький четырехугольник.
– Кто это? – шевельнул губами Алексей Петрович, отставляя далеко от глаз карточку, с которой доверчиво смотрело на него лицо девочки-подростка со смешной челочкой на лбу.
– Моя жена, – краснея и через силу выговаривая слова, сказал Володя. – Скажешь маме, если со мной… сам знаешь… Не оставь ее в беде на тот случай… у нее будет ребеночек… Мой!
Володя почти выкрикнул последнее слово, сунул удостоверение в карман и побежал к Катерине Ксаверьевне. Она пошла рядом, стараясь попадать в ногу с ним мелкими своими шагами.
Ни Катерина Ксаверьевна, ни капитан Петриченко не слышали, о чем говорил Володя с отцом, они лишь догадывались: было сказано что-то очень важное. Катерина Ксаверьевна не расспрашивала Володю, она надеялась, что муж расскажет ей все. Петриченко не рассчитывал, что сдержанный и замкнутый генерал что-либо расскажет ему, поэтому его мысль упорно работала; он заметил карточку и почти догадывался, о чем говорил Володя с отцом.
Савичев оттолкнулся от ворот, высоко поднял голову и прошел мимо Петриченко в избу; люди и дела ждали его.
Он не заметил, каким долгим и неподвижным взглядом следил за ним капитан Петриченко, который по-своему переживал все, что происходило на его глазах в семье генерала, и все время подставлял на место Володи себя, а на место генерала и его жены – своих родителей.
6
В блиндаже было темно, но Костецкий не спал. Он лежал на нарах с открытыми глазами и прислушивался в темноте к ударам грома, не смолкавшим над деревьями леса, над земляным холмом и четырьмя накатами его блиндажа. Гром то раскатывался глухим грохотанием, словно слитное буханье далекой пальбы из тяжелых орудий, то вдруг звучал отчетливо, со страшной силой, как близкий одиночный разрыв бомбы, сопровождаемый шелковым треском, шелестом и шорохом больших и маленьких осколков, что разлетаются во все стороны. Вспышки молний, то голубые до синевы, то желтые, то медно-красные, мелькали все время, освещая вход в землянку. Тяжелые, толстые нити ливня отвесно падали перед входом, отсвечивали серебряно-черными ртутными отблесками.
По ступенькам в блиндаж катилась вода, но Костецкий но велел закрывать дверь, сбитую из толстых досок и плотно подогнанную.
Прохлада, которая врывалась в блиндаж вместе с отблеском молний и грохотанием грома, прохлада ночного ливня, его плеск, вздохи, бульканье и шелест помогали генералу Костецкому побеждать боль, которая возникала у него в пояснице и поднималась вверх по спине, словно пересчитывая позвонки и ребра.
Военврач Ковальчук и медсестра Оля Ненашко, с которой у военврача были какие-то подозрительные, но до конца так и не выясненные Костецким отношения, только что вышли из блиндажа, оба в намокших брезентовых плащ-палатках с капюшонами. Из-под плащ-палатки у Оли Ненашко, словно на прощание, блеснула белым металлом коробочка от шприца, которую она всегда держала в немного вытянутой вперед руке. Капитан Ковальчук, высокий и неуклюжий, чуть не стукнулся о низкую притолоку, хоть и пригнулся, выходя из блиндажа, словно собирался нырнуть в воду. Надо сказать Ковальчуку, чтоб он не особенно афишировал свои отношения с медсестрою Ненашко. Эта девушка совсем отбилась от рук и даже с ним, с генералом Костецким, разговаривает, как с последним сержантом, – с грубоватой независимостью и наивной уверенностью в том, что отношения с военврачом освобождают ее от служебной субординации и чувства уважения к высшим начальникам. Правда, рука у нее легкая, от ее уколов боль затихает мягко и неслышно, но улыбка на лице Оли, на ее полном лице с маленьким, круглым, как у окуня, ртом с немного вздернутой верхней губой, слишком уж самостоятельная и смелая.
– Вы не терпите, товарищ генерал, – сказала Оля Ненашко, обернувшись в дверях блиндажа и глядя на Костецкого из-под встопорщившегося капюшона плащ-палатки. – Как только заболит, сразу вызывайте нас: мы поможем.
Она произнесла это «нас» так, что Костецкий сразу же понял, за кем превосходство в тех невыясненных отношениях, которые связывают ее с неуклюжим, словно из одних непомерно больших костей сложенным военврачом Ковальчуком.
«Обязательно надо сказать Ковальчуку», – подумал Костецкий.
Низко загудел зуммер телефона. Ваня подал генералу трубку.
Голос Савичева звучал в трубке совсем близко, так, словно между его избою и блиндажом Костецкого не было никакого расстояния, словно его голос не передавался при помощи электрического тока по бронзовому кабелю, а собственным усилием преодолевал пространство и поэтому казался выпуклым и человечески-теплым.
Военный совет наградил бронебойщиков Гулояна и Шрайбмана орденами Славы, – сообщал Савичев, радуясь тому, что награждение, в котором он был заинтересован, произошло с быстротой почти невероятной – отдельным приказом, не ожидая больших списков, в которые обычно включались люди из различных частей и за различные заслуги, объединенные общей формулой: «За образцовое выполнение боевых заданий командования».
В приказе, о котором говорил Савичев, в отличие от этой общей формулы было сказано, что бронебойщики Гулоян и Шрайбман награждаются за уничтожение нового немецкого танка «тигр», на который гитлеровское командование возлагает большие надежды и который отныне не может считаться неуязвимым.
Конечно, генерал Савичев лично не был заинтересован в этом награждении. Он был заинтересован только в том, чтоб награждение прошло как можно скорее и чтоб о нем как можно скорее узнали бойцы и командиры во всех частях, перед которыми на фронте появились «тигры», вызывая неуверенность в сердцах людей, уставших от длительного затишья и ожидания боевых действий. Кроме того, генерал Савичев по-человечески был заинтересован в том, чтоб награждение не запоздало для лично не известных ему бронебойщиков Гулояна и Шрайбмана, потому что на фронте обстановка меняется каждый день и каждый час, а вместе с нею меняется и судьба людей, сегодня живых и здоровых, а завтра… Никто не знает, что может случиться с бойцом на фронте не только завтра, но и в любую следующую минуту.
– Спасибо, Алексей Петрович, – ответил Савичеву Костецкий, придерживая подбородком трубку, которая почему-то старалась выскользнуть у него из руки. – Это награждение вызовет большой подъем в моем хозяйстве… От души благодарю за бронебойщиков.
– Что это тебя так плохо слышно, Родион Павлович? – вдруг обеспокоился в трубке голос Савичева.
Костецкий наконец ухватил и удобно пристроил возле уха трубку.
– Что-то, наверное, на линии… – Сильный спазм, от которого в страшном напряжении начало деревенеть все тело, схватил Костецкого, и он, через силу выдавливая из горла слова, докончил: – Тебя тоже плохо слышно… Спасибо, говорю, за награжденных…
Савичев недоверчиво помолчал, словно угадывая на расстоянии, что Костецкий напрягает все силы, чтобы преодолеть боль.
Он мог бы использовать эту минуту, чтоб еще раз напомнить командиру дивизии о здоровье, но щадил Костецкого: вопрос о его замене был уже решен, надо было как можно осторожней осуществить решение командования, чтоб не травмировать заслуженного генерала.
– Орденские знаки направлены к вам с офицером связи. Не задерживайте вручения…
Голос Савичева звучал мягко, несмотря на то что слова, которые он выговаривал, как нарочно выходили сухие и официальные.
– Вручу лично на передовой! – воспламеняясь от этой мысли, с особенной поспешностью сказал Костецкий, и голос его прозвучал так же свежо и бодро, как голос Савичева.
Савичев не поверил этой внезапной перемене.
Савичев понимал, что Костецкому трудно будет вручать ордена бронебойщикам на передовой, он хотел приказать, чтоб Костецкий поручил это дело кому-нибудь из своих подчиненных, но в последнюю минуту передумал: «Пускай попробует, не будем его лишать последней радости».
– Вот хорошо, а мы тут в газете напечатаем и снимок поместим, – поспешно сказал Савичев. – Кстати, домашняя хозяйка уже купила картошку?
– Да у нас тут такой ливень, Алексей Петрович, – засмеялся Костецкий резким, жестяным смехом в трубку, – а на базар далековато ходить.
Савичев тоже засмеялся, но смех у него был звонкий и приятный; далекий звук этого смеха вызвал зависть в душе Костецкого. Он что-то неясно пробормотал в ответ на вежливое пожелание доброй ночи, долетевшее до него по проводу, и уже хотел отдать трубку Ване, который стоял над ним наготове, когда снова услышал голос Савичева и уловил в нем давнюю дружескую искренность.
– Слушай, Родька, какую новость я для тебя приберег, – услышал Костецкий, и сердце у него похолодело от внезапных воспоминаний о тех далеких временах, когда Савичев вот так только и называл его – Родькой. – Ты, наверное, обрадуешься… Ко мне Катя приехала… Хочешь с нею поговорить? Она тебе передает привет.
– Повидать мне ее очень бы хотелось, – сказал Костецкий, изо всех сил упираясь затылком в подушку, которая почему-то вдруг начала уплывать у него из-под головы, – а что ж так… по телефону… Не стоит по телефону, Алеша…
По движению руки генерала, по тому, как из нее выпала трубка и, ударившись о доски нар, повисла на шнуре, Ваня в темноте догадался, что у Костецкого снова начинается приступ боли.
– Вам больно, товарищ генерал? – сказал Ваня несмело. – Может, вызвать капитана Ковальчука?
– Не надо Ковальчука, – устало сказал Костецкий, спустив ноги с нар. – Будем одеваться. Есть у тебя чай? Это если каждый раз вызывать Ковальчука, то он и не просохнет за ночь…
– Дождь уже кончается, товарищ генерал, – с тоской и надеждой в голосе проговорил Ваня, все желания которого сейчас сошлись на том, чтоб Костецкий за разговорами забыл про крепкий чай. Военврач Ковальчук сегодня еще раз приказал Ване ни в коем случае не давать генералу того, что он называет крепким чаем. Но Костецкий не мог забыть о чае так же, как Ваня не мог забыть о приказе военврача.
– Чаю! – крикнул Костецкий.
Ему сделалось стыдно собственного крика, и уже совсем тихо, совсем безнадежно, наполняясь жалостью к себе и к Ване, который должен терпеть его неуравновешенность и грубость, Костецкий проговорил:
– Все равно, Вайя, ничего не поможет.
Ваня не двигался с места. Костецкий снова лег и молчал, прислушиваясь к своей боли. Он не был уверен, что Ваня выполнит его приказ, и не имел ни силы, ни желания повторить этот приказ: крепкий чай спасал его ненадолго, почти сразу начинался новый, еще более свирепый приступ боли.
Костецкий не мог повторить свой приказ еще и потому, что любил Ваню и знал, что Ваня любит его и, выполняя его приказ, мучится нестерпимой мукой человека, который понимает всю пагубность поведения больного, но не может из-за своего подчиненного положения пойти ему наперекор.
Костецкий знал, о чем думает Ваня, стоя в нерешительности над ним.
«Зачем же вы спасли меня, товарищ генерал, – думал в отчаянии Ваня, – зачем вы спасли меня от смерти, когда я лежал на донской переправе, раненный в грудь? Лучше бы я остался там лежать навеки, чем теперь выполнять ваши приказы! Вы ведь убиваете себя – и военврач Ковальчук так говорит, и сам я вижу!»
Костецкий в эту минуту ясно видел ту самую донскую переправу, о которой думал Ваня. Дивизия его была уже за Доном. Он ехал из штаба армии в ясный морозный день в открытом «виллисе», в своем белом генеральском тулупе, в новой, серого каракуля папахе с красным верхом, и оттого, что день был такой яркий, серебряно-синий, искрящийся, оттого, что немцев так далеко погнали на запад, оттого, что командующий армией похвалил его за последнюю операцию, на душе у Костецкого тоже лежали яркие отблески этого серебряно-синего дня… «Виллис» остановился у переправы. Надо было переждать, пока пройдут на правый берег тяжелые грузовики со снарядами для гвардейских минометов, которые выглядели очень мирно в своих ящиках, сколоченных из белых сосновых планок. Костецкий вышел из машины и зашагал по берегу. Искристый, прорезанный синими тенями в колеях белый снег скрипел под его фетровыми бурками.
Кое-где чернели свежие бомбовые воронки разного размера, комья мерзлой земли лежали на снегу. Костецкий постоял над одной воронкой, посмотрел на тонкий ледок, застекливший ее в глубине, покачал головой и пошел дальше.
Батарея зениток прикрывала переправу. Костецкий пошел поговорить с зенитчиками. У него ничего не болело в тот день, и он, как всегда в такие дни, искал встреч с людьми, лично ему не подчиненными, – просто для души, для человеческого разговора… Зенитчики по уставу приветствовали генерала, но разговор с ними не получался, они хмурились, на вопросы отвечали скупо и все поглядывали на свою присыпанную снегом землянку.
– Вас обед ждет, что ли? – весело спросил Костецкий. – Если так, не смею мешать.
– Да нет, товарищ генерал, – ответил один из зенитчиков, высокий узкоплечий солдат лет двадцати пяти, – обед не волк, в лес не убежит.
– Что же у вас случилось? – спросил Костецкий, понимая, что неспроста зенитчики посматривают на своего товарища, ожидая от него последних, наверно самых главных, слов.
– Солдатика тут одного ранило, – словно нехотя сказал высокий зенитчик. – Догонял он свою часть, только что из госпиталя, а тут фриц налетел – видите, свежие воронки, – его и ранило опять… А где тут санбат, когда мы в глубоком тылу? Все машины идут на запад… Перевязали мы его как могли, – рана в грудь, кровью может изойти, товарищ генерал!
Последние слова зенитчик выговорил уже не вяло, а с такой болью и такой надеждой глядя на Костецкого, словно от этого проезжего генерала зависело, изойдет раненый солдатик кровью или не изойдет.
В холодной землянке зенитчиков Костецкий увидел на земляных нарах прикрытого до подбородка шинелью и поверх нее старым, истертым полушубком молодого солдатика. Лицо его мертвенно белело в тяжелой полутьме.
– Ваня, – сказал все тот же узкоплечий зенитчик, – не спи… С тобой генерал хочет говорить.
Раненый раскрыл глаза, и сразу его бледное, почти мертвое лицо словно засветилось синим огнем – такие они были у солдата большие и чистые, наполненные последней, предсмертной чистотой.
Костецкий видел много смертей на войне, и хоть не проходил мимо них равнодушно, заставлял себя мириться с ними во имя той цели, ради которой умирали люди и ради которой он тоже мог умереть в любой день и в любую минуту, но со смертью этого, еще час назад не известного и чужого ему солдата он не смог примириться.
«Такой у меня мог быть сын!» – с острой печалью подумал генерал Костецкий, всматриваясь в юношеское лицо раненого.
Надо было что-то сказать, хоть чем-нибудь подбодрить молодого солдата, но Костецкий не находил нужных слов, только смотрел на бледное лицо, на котором уже лежала тень смерти.
– Что, тяжело тебе? – наконец сказал Костецкий.
У солдата вдруг потускнели глаза, будто напоминание чужого генерала о его тяжелом состоянии сделало это состояние еще более тяжелым, но сразу же вслед за этим они снова наполнились прозрачной синевой, словно плеснули болью на Костецкого, и раненый сказал:
– Я ничего, товарищ генерал… Другим тяжелей бывает.
Слова раненого говорили одно, а глаза другое. Слова произносила солдатская вежливость и сдержанность, которая не позволяла жаловаться и на самые тяжелые раны, на самую большую беду, а глаза не умели притворяться ни вежливыми, ни сдержанными, они открыто жаловались на солдатскую беду, они говорили: «Разве вы не видите, что я умираю, товарищ генерал?»
– Несите его в мою машину, – приказал Костецкий зенитчикам.
– Не довезете, – сказал узкоплечий высокий зенитчик, который все время говорил за всех и высказывал мысли всех своих товарищей.
Костецкий посмотрел на раненого, словно хотел удостовериться, довезет он его или не довезет до своего медсанбата, который был уже далеко впереди, за Доном. Лицо раненого говорило, что довезти его на тряском «виллисе» невозможно, Костецкий и сам это понимал, но глаза солдата, который услышал слова зенитчика, говорили Костецкому: «Я ничего, товарищ генерал, довезете… А если не довезете… Только не бросайте меня тут без помощи…»
– Довезу, – сказал Костецкий и вышел из землянки зенитчиков.
Костецкий довез Ваню до медсанбата, и солдат выжил, несмотря на большую потерю крови.
Генерал, который не раз посылал в бой тысячи солдат, зная наверняка, что многие из них полягут в бою или будут искалечены, не мог послать этого солдата под огонь и оставил его при себе. Так Ваня Пушкарев очутился в блиндаже Костецкого, стал его ординарцем, а потом, когда болезнь начала все чаще мучить генерала, – его бессонной, верной нянькой.
– Что ж, Ваня, будем одеваться. – Костецкий заметался головой на подушке и застонал.
Военврач Ковальчук и медсестра Оля Ненашко шли под ливнем по лесу, толкая друг друга в темноте, и Оля Ненашко, с независимостью в голосе, которая не оставляла ее и в разговорах с Ковальчуком, говорила на ходу:
– Хана нашему генералу, ты как думаешь, Ковальчук?
– Что значит – хана? – раздраженно пробормотал Ковальчук. – Не понимаю твоего языка.
– Ну, амба, значит! – отрезала Оля. – Не притворяйся, ты все прекрасно понимаешь!
– Не понимаю и не хочу понимать! – Ковальчук остановился и схватил Олю за плечо под грубым брезентом плащ-палатки. – Как ты можешь так говорить про генерала… Сколько я могу терпеть тебя!
– А ты не терпи, – засмеялась, прижимаясь к Ковальчуку мокрой плащ-палаткой, Оля. – Не ты, так другой будет терпеть. Подумаешь!
В голосе ее, сливавшемся с плеском и шелестом ливня, в том, как Оля бесстыдно прижималась мокрой своей плащ– палаткой к его плащ-палатке, жарко дыша ему в лицо, для Ковальчука было нечто страшное и непонятное, но вместе с тем такое влекущее и неизбежное, что он даже зубами заскрипел от злости на самого себя, на свое бессилие перед тем неизбежным и страшным, что манило его к цинически независимой Оле Ненашко с ее белым лицом и маленьким, круглым, как у окуня, ротиком, из которого сыпались слова отвратительной ему «блатной музыки».
– А что я такое сказала? – громко шептала в шею Ковальчуку Оля. – Ведь ему и вправду хана… Что ж мне – плакать? Кругом тысячи людей погибают, на всех слез не хватит… А я жить хочу, Ковальчук! Ничего ты со мной не сделаешь…
– Смотря как жить, – попробовал сказать Ковальчук. – Разная жизнь бывает… А у нас с тобой…
– Плохая? – не дала ему договорить Оля. – Пускай плохая, но наша, моя – и никому ее не отдам! Терпи, Ковальчук.
Она толкнула Ковальчука в грудь зажатой в кулачке коробочкой для шприца и быстро зашлепала сапогами но невидимой тропинке.
Ковальчук стоял в темноте под деревьями, с которых лились потоки темной, ощутимо тяжелой воды, и с отчаяньем думал о том, что у него на оккупированной территории в районном центре Снегуровке на Херсонщине осталась жена с маленьким сыном и старой матерью и что его жена во всех отношениях лучше Оли Ненашко, во всех отношениях лучше и дороже ему уже одним тем, что она – мать его сына, что она никогда не говорила таких ужасных слов, как эта чужая и слишком смелая в разговорах и поступках девушка, которую он встретил случайно и случайно поддался ее беспокойному, тревожному очарованию, становящемуся все тяжелее для него, неуклюжего и бесхитростного военврача Ковальчука.
Он все отдал бы в эту минуту и вообще в любую минуту трудной своей фронтовой жизни за то, чтобы все, что происходило с ним, оказалось сном – разлука с женой, встреча с медсестрою Олей и тяжелые муки совести, возникавшие из его привязанности к ней, – сном, от которого просыпаешься счастливый, с чувством облегчения на душе, которая могла ошибиться только во сне, а в действительности не способна на такие ложные и ужасные своей ложностью шаги.
Вода с грохотом падала с деревьев на плащ-палатку Ковальчука, барабанила по поднятому капюшону, а он все стоял, не находя сил догнать Олю и сказать ей то, что он думает о ней и о себе и что могло бы положить конец их отношениям, которые делают его смешным в чужих и несчастным в собственных глазах.
Тут и натолкнулся на Ковальчука Ваня, выбежавший в одной гимнастерке под ливень, когда Костецкому во время одевания сделалось совсем плохо, а к военврачу нельзя было дозвониться.
Ваня больно ударился об острый, торчащий под плащ-палаткой локоть Ковальчука и сразу же узнал его, хоть в темноте ничего нельзя было увидеть.
– Вы, товарищ капитан? – потянул Ковальчука за плащ– палатку Ваня. – Генералу совсем плохо… Возвращайтесь.
– Опять давал ему чаю? – зашипел Ковальчук. – Сколько раз я приказывал тебе выбросить из блиндажа эту отраву… Под суд отдам!
Ковальчук опередил Ваню, отодвинув его костлявой тяжелой рукой, и поспешил к блиндажу с твердым намерением немедленно сообщить высшему командованию о том, что Костецкий больше не может выполнять свои обязанности и что он, военврач Ковальчук, не может больше отвечать за его жизнь и здоровье в тех страшных условиях, которые создает для себя генерал, не зная или не желая знать, какая болезнь неуклонно приближает его к концу.
Ваня бежал за Ковальчуком по пятам.
– Где ваша Ненашко? – задыхался Ваня от волнения за своего генерала. – Надо укол.
– Ненашко? – остановился Ковальчук. – Провалилась сквозь землю… Найдешь?
– Найду! – одним дыханием выдохнул Ваня и бросился в темноту между деревьями.
Генерал, одетый, в сапогах и шинели, лежал на нарах с закрытыми глазами, сплетя на груди побелевшие от боли бронзовые пальцы. Над ним стояли начальник штаба дивизии Повх и начальник политотдела Курлов.
– Спасай генерала, – тихо сказал начальник штаба.
Ковальчук холодными негнущимися пальцами начал развязывать под шеей тесемки плащ-палатки.
Курлов ничего не сказал, даже не поглядел на военврача, но по тому, как он повернулся спиной к нему и сел за стол, на котором стоял стакан с крепким чаем генерала Костецкого, можно было угадать, что думает начальник политотдела про Ковальчука.
Начальник штаба Повх не мог сказать сейчас ничего, кроме двух слов: «Спасай генерала», потому что давно уже нес на себе весь груз командования дивизией и потому, что Костецкий знал об этом и думал, что Повх ждет не дождется его смерти, чтоб самому стать командиром дивизии. Повх должен был взвешивать каждое свое слово, чтобы не дать Костецкому оснований утвердиться в этой совершенно безосновательной мысли. Повху почти наверное было известно, что его назначат командиром дивизии, и он чувствовал себя неловко, будто был в чем-то виноват перед генералом. Полковник не хотел быть командиром дивизии, как не хотел быть и начальником штаба, но с его желаниями никто не считался ни теперь, ни в любую другую минуту его фронтовой карьеры.
Больше всего Повх хотел, чтобы война вообще не начиналась, но война началась, не посчитавшись с его планами и намерениями, и за два года сделала его из капитана запаса полковником и начштадивом. Кандидатская диссертация «Миграция рыб Азовского моря» осталась лежать недописанной в ящике его стола на уютной улице Ейска.
Повх понимал, конечно, что его молчание в эту минуту и постоянное невмешательство в болезнь Костецкого по сути своей жестоко и бесчеловечно, но не мог ничего поделать с собой – «наверху» его заботу о здоровье Костецкого могли истолковать как недостойное желание поскорей занять место, которое он и так займет, раньше или позже.
Курлов не боялся, что больной генерал заподозрит его в желании стать командиром дивизии, и тоже молчал. Курлов боялся себя, своего крутого, безжалостного нрава. Он мог наговорить лишнего Костецкому и мог позволить себе лишнее по отношению к Ковальчуку и, зная это, изо всех сил сдерживал возмущение, кипевшее в нем. Уже случалось, что его маленькие, словно из кости вырезанные, сухие кулаки выходили из-под контроля. Ему стоило больших усилий владеть собой. Это требовало молчания – и Курлов молча барабанил пальцами по столешнице, отвернувшись, чтобы не глядеть на Ковальчука.
Сухие пальцы Курлова выстукивали генерал-марш на столешнице. В звуках этого угрюмого марша военврачу Ковальчуку, хорошо знавшему начальника политотдела, слышалось: «Погоди, погоди, ты у меня еще попляшешь! Я тебе все припомню, если с генералом что случится. И твое потакание капризам больного, и твой недостойный врача оппортунизм… И Олю Ненашко я тебе тоже вспомню! Ты у меня полетишь ко всем чертям, и ничто тебе не поможет, хоть в санитарном управлении тебя и считают одним из лучших врачей».
Ковальчук рванул тесемки и стащил с себя плащ-палатку. Бледный, насквозь промокший Ваня открыл дверь и впустил в блиндаж Олю Ненашко.
7
В штабе полка народного ополчения, который держал оборону в Голосееве над глубоким лесным оврагом, Берестовский не задержался. Почти сразу же он попал в роту лейтенанта Моргаленко и провел с его бойцами весь день. От полного состава роты за две недели осталось двадцать пять человек. Рядом с небритыми добровольцами непризывного возраста, страдавшими одышкой, ишиасом, ревматизмом и разнообразными колитами, в траншее сидели безусые десятиклассники из пополнения, которое непрерывно присылали райкомы комсомола. Голосеевский лес уже побывал в руках у немцев, его отбили авиадесантники. Ополченцы сменили их, когда авиадесантные бригады были отведены за Днепр, и с того времени не выходили из-под методического немецкого обстрела.