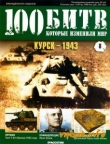Текст книги "Дикий мед"
Автор книги: Леонид Первомайский
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 34 страниц)
Чья-то рука притронулась к колену Варвары, и она услышала ровный глуховатый голос:
– Вы не узнаете меня?
Варвара открыла глаза и увидела рядом с собою темный профиль, под ним белую, словно мелом нарисованную линию подворотничка, согнутое плечо, обтянутое тканью защитной гимнастерки, и на этом плече полоску майорского погона с латунной эмблемой военюриста.
«Где я видела это лицо? – метнулась в мозгу Варвары напряженная и почему-то тревожная мысль. – Конечно, я его видела, но где и когда?»
Майор повернул к Варваре лицо. Крепкие, плотно стиснутые губы, туго натянутая кожа щек, линия прямого толстоватого носа и внимательный взгляд темных, почти черных глаз – все это было так знакомо и поднимало в душе такую неистовую бурю, что Варвара невольно отшатнулась от майора, беспомощным движением руки словно обозначая границу между ним и собой, и только после минуты тяжелого молчания ответила:
– Кажется, узнала.
Тяжкий грохот потряс окоп, забухали по перекрытию большие комья разбросанной взрывом земли, потянуло едким смрадом.
– Я Подснежник! Я Подснежник! – радостно закричал в трубку Костюченко. – Это ты, Сирень? Какая там у тебя погода? Около нас только что такой огурец разорвался…
Он с видимым удовольствием выговаривал новые для него слова немудреного прозрачного кода, которым тут пользовались, чтобы скрыть содержание телефонных разговоров от возможного подслушивания немцев.
– Хорошо, хоть канделябров над нами нет, – продолжал Костюченко. – Слушай, Сирень, а к вам канделябры не прилетали? Это хорошо, что не прилетали, с артиллерией еще можно жить…
Голубь отряхивался в нише как ни в чем не бывало; он круто изогнул шею, поискал клювом у себя под крылом и снова стал пить воду.
Варвара, казалось, не слышала ни разрыва, ни голоса Костюченко, ни тяжелого сопения в углу окопа, где согнулся в три погибели лейтенант Кукуречный.
Но если б она и слышала, теперь ей было уже безразлично, попадет ли снаряд в блиндаж или пролетит над ним и разорвется где-нибудь в лесу или на кукурузном ноле. Лучше было бы, чтоб попал и сразу положил конец ее существованию, которое внезапно снова наполнилось давним, еще не утихшим страданием, тем страданием, что уже несколько лет медленно отравляло ей жизнь.
10
Если бы той августовской ночью тысяча девятьсот тридцать седьмого года Варваре Княжич сказали, что она при таких обстоятельствах и в таком месте встретится с тогдашним капитаном, а теперь майором Сербиным – она вспомнила, вспомнила его фамилию! – с человеком, которого она видела лишь раз в жизни, в ту ночь, когда капитан Сербин арестовал ее мужа, если б кто-нибудь, способный знать будущее, напророчил ей это, Варвара не поверила бы, как почти не верила в реальность этой встречи и сейчас, так она была невероятна.
– Не думал я увидеть вас среди защитников Родины, – проговорил майор Сербин, почти касаясь своим плечом плеча Варвары.
– Родина большая, – ответила Варвара и удивилась, не почувствовав в себе той враждебности, с которой она думала раньше об этом человеке. – В ней хватит места и для вас и для меня.
– Я не об этом, – сразу же отозвался майор, не глядя на нее, – я ведь еще раз приходил к вам.
Варваре некуда было отодвинуться, левое плечо ее уже и так упиралось в горбыль, которым был укреплен выход из блиндажа, но она все-таки попыталась отклониться от соседства горячего плеча, на котором поблескивала потемневшей латунью эмблема справедливости.
– Приходили? – прошептала Варвара, холодея от неожиданного признания майора, словно тот, давнишний, второй его приход мог иметь сейчас какое-то значение. – Зачем?
– За вами.
Майор, казалось, не выговорил, а выдохнул эти слова.
– Дело прошлое, – проговорил он, подняв голову и прислушиваясь к вою очередного снаряда. – Дело прошлое, говорю, но ордер на вас уже был подписан.
Новый взрыв потряс окоп, земля посыпалась Варваре за ворот гимнастерки, она почувствовала, как пот побежал ручейком меж лопатками, и подумала: «Все равно».
Горячий и тяжелый, как мешок с песком, в окоп упал сержант. Он пахнул землею и пороховым дымом, лицо его, грязное до черноты, казалось похудевшим, глаза сухо горели, как два больших уголька.
– Живые? – хрипло крикнул сержант, с трудом раскрывая пересохшие губы. – И я живой! Эй, Костюченко, вода у нас есть?
Костюченко выхватил откуда-то, словно из-под себя, котелок с водой и подал сержанту. Став на одно колено и высоко запрокинув голову, сержант лил себе в рот мутную теплую воду, обливал шею и грудь, крякал и тяжело дышал после каждого глотка. Голубь заворковал в пише.
– А, гуля, и ты тут? – держа над собой за ручку котелок, словно фонарь, отозвался голубю сержант. – Теперь только в нашем окопе и спасешься.
Он отдал котелок Костюченко, вытер ладонью рот и протянул руки лодочкой к голубю. Голубь доверчиво пошел к нему.
– Ах ты милый, – тихо и печально проговорил сержант, думая, должно быть, совсем о другом, – милый ты мой, милый… Где теперь твоя голубка, не знаешь?
Сержант гладил грязной, шершавой ладонью голубя и улыбался растроганно и печально, и, глядя на него, растроганно и печально улыбалась Варвара, и ее мысли, так же как и мысли сержанта, были далеко и от голубя, и от блиндажика, и от людей, что сбились в нем, как зверюшки в тереме-теремке…
…Когда увели Сашу и двери захлопнулись за ним, Варвара осталась одна над кроваткой, в которой, так и не проснувшись, спала Галя.
Для того, что случилось, в сознании Варвары не было имени.
Это не было неожиданностью. Можно было ждать беды, и они, сами того не зная, ждали ее, притихнув, как птицы в лесу перед грозой. Вся катастрофа виделась Варваре в образе грозы, но что молния поразит ее, она сначала не думала, чувствуя себя за Сашей как за каменной стеной.
Пока беда не постучит в твои двери, ты не задумываешься над ней, особенно когда живешь с закрытыми от счастья глазами и считаешь, что весь мир так же счастлив, как ты.
Саша работал инженером в большой строительной организации. Они были одинакового роста, только он пошире в плечах; и глаза у них были одинаковые, серые с синевой. Саша рано начал полнеть и спасался от этой беды спортом. Когда они проходили вдвоем по улице, люди невольно оглядывались – такой они были хорошей парой, такие счастливо-доброжелательные были у них лица. Саша умел хорошо работать, смеяться, отдыхать; все, что он делал, было хорошо. Он научил ее фотографировать, по воскресеньям они садились в пригородный поезд и ехали куда-нибудь, захватив с собой провизию в небольшом фанерном баульчике. Там были ее любимые еще с детства конфеты – «раковые шейки» и для Саши бутылочка, самая маленькая, какую продавали, называлась она «пионерчиком». А зимой были прогулки на лыжах, оба они надевали одинаковые, под цвет глаз, серые свитеры с вышитыми на груди синими оленями. Лыжи были чудесные, и чудесные бамбуковые палки, и мазь для лыж Саша варил сам по какому-то особому норвежскому рецепту… И они все время фотографировались, то на фоне заснеженных берез, то над зеркалом речки, то над семейством белых грибов – в зависимости от времени года.
Вечерами затемнялась маленькая кладовушка в их двухкомнатной квартире загорался, красный лабораторный фонарь, и они вдвоем проявляли пленки, печатали фотографии, промывали их под струей воды в ванной и сушили на разложенных на полу газетных листах.
Кто мог думать, что их увлечение фотографией обернется против них?..
– У вас с мужем, кажется, были разные фамилии? – услышала Варвара голос майора Сербина и послушно ответила, словно она обязана была ему отвечать:
– Разные.
– Я помню, у него была двойная фамилия, которая наводила на мысль о дворянском происхождении. Не то Довнар-Запольский, не то Коваль-Самборский?
– Коваль-Самборский – это был такой киноактер, – горько усмехнулась Варвара. – Всех не запомнили?
Кажется, Сербии что-то ответил, она не слышала: снова над головой загудел снаряд и тяжко вздохнула земля.
Возможно, так было и лучше, потому что не приходилось сосредоточиваться на слишком тягостных воспоминаниях о прошлом. Весь этот разговор в блиндаже под обстрелом ложился бременем на душу, пробуждая и выводя на поверхность то, что всегда лежало на самом дне, под слоем повседневных дел и забот, которые только и делают возможным человеческое существование. Память могла бы убить нас, если бы не имела спасительной способности забывать, хоть забвение это не вечно – всегда она наготове, память людей и память целых народов, чтобы в подходящую минуту воскресить то, что, кажется, навсегда умерло и вычеркнуто из жизни живых.
Девочка родилась маленькой и слабенькой, не надеялись, что она и выживет. К тому же у Варвары пропало молоко.
Варвара лежала в постели с высокой температурой, когда Саша, смущенный и взволнованный своими новыми обязанностями, впервые принес молоко из молочной кухни, – он держал маленькую бутылочку с молоком в больших руках, поросших милою рыжей щетиной, и не знал, что с ним делать. Варвара велела ему подогреть молоко на спиртовке. У них был сухой спирт – белые, похожие на сахар продолговатые таблетки. Спирт вспыхнул, и в комнате запахло жженым: обгорели волосы на руке у Саши. Он стоял посреди комнаты и беспомощно дул на руку. Варваре стало до слез стыдно и жалко его.
– Подойди ко мне, Саша, – сказала Варвара и, когда Саша подошел к кровати, взяла обеими руками его руку, на которой темными спиральками свернулись обгоревшие волосы, тоже подула на нее, по-детски складывая губы, а потом, переполняясь нежностью, поцеловала и заплакала…
– А разве шла речь и о дворянском происхождении? – удивилась Варвара. – Его отец был не дворянином, а дворником у присяжного поверенного в Хамовниках… Это же легко было проверить!
Майор сидел уткнувшись подбородком в колени, он снова что-то ответил, но снова так неразборчиво, что Варвара не услыхала. Да ей и не нужен был ответ: ответом на давнишние ее вопросы был весь этот почти фантастический разговор, эта встреча с бывшим капитаном Сербиным, который тогда казался ей живым воплощением страшной беды, грозным в своей молчаливой таинственности, а теперь выглядел усталым и смущенным, таким же человеком, как и все люди тут на войне.
Они сидели рядом, почти соприкасаясь плечами, подпирая одеревенелыми спинами земляную стенку блиндажа, и над ними тоже была земля, насыпанная на кривые, неошкуренные бревна, тонкий слой сухой, как пепел, земли. И все, что произошло когда-то, было так далеко и казалось таким невероятным, что невольно возникал вопрос: как же могло случиться то, что случилось, если им суждено сидеть тут рядом, и прислушиваться к полету снарядов, и знать, что в любую минуту один из этих снарядов может попасть в их блиндаж и положить конец всему: и тяжелым воспоминаниям, и этому горькому удивлению перед прошлым, которое не принимало в расчет всех неожиданностей будущего и, вместо того чтобы объединять, сделало все, чтобы разъединить их подозрением, недоверием и страхом?
Для них обоих – для женщины, что не могла забыть мужа, с которым ее так жестоко и так несправедливо разлучили, и для майора с эмблемою справедливости на погонах, который, помимо своей воли, в силу сочетания целого ряда не зависящих от него обстоятельств и причин, был причастен к ее жизненной катастрофе тем, что арестовал ее мужа и должен был арестовать также и ее, – для них обоих не было теперь пути к отступлению. Узнав женщину и заговорив с нею, майор Сербин уже не мог не думать о том, какую роль сыграл он в ее жизни, не мог не вспоминать обо всем, что он хотел бы забыть. То, что он встретился именно с нею и думал о ее случае, было только стечением обстоятельств – он мог бы встретиться с женой другого человека и тогда так же думал бы о других людях, хотя, возможно, в его памяти возникали бы другие подробности, которые в конечном счете не имели никакого значения в сравнении с тем, что делалось уже давно в его душе. И Варвара Княжич, если б она, допустим, сделала вид, что не знает его, тоже не могла бы отгородиться от своих воспоминаний никакой стеною: они были сильней ее, жили в ней постоянно и лишь были прикрыты пеплом повседневных забот.
Если б они могли знать, Варвара Княжич и майор Сербин, о чем думает каждый из них в эту минуту, то, наверно, их грустное удивление возросло бы. Они, конечно, знали, что думают сейчас об одном и том же, но что в их воспоминаниях возникает по-разному освещенная одна и та же картина – этого они знать не могли и этого им не следовало знать, достаточно было и того, что они встретились.
…На лестнице послышались шаги, задребезжал звонок, в одном халате она подбежала к дверям, на ее встревоженный вопрос из-за дверей ответил знакомый голос дворника:
– К вам, Варвара Андреевна.
Она сразу все поняла, потому что хоть и верила в Сашу и знала, что он не может быть причастен ни к какой деятельности, направленной против Родины, но уже неясно ощущала, что не обязательно быть причастным, и ждала, что ночная беда, которая так часто появлялась на лестнице, может подойти и остановиться у их дверей.
Саша сразу начал одеваться. Он не глядел на капитана Сербина, на его вопрос: «Где ваша лаборатория?» – ткнул пальцем в сторону кладовушки, где стоял самодельный увеличитель, снова наклонился и стал завязывать шнурок на ботинке.
Дворник стоял, прислонясь плечом к дверному косяку, и пустыми глазами глядел то на Сашу, то на капитана. Еще один человек в штатском, пришедший вместе с Сербиным, ходил по комнате, засунув руки в карманы, глядя больше на стены и потолок, чем на хозяев квартиры, ошеломленных этим ночным визитом. Варвара, открыв дверь, как была в полинялом старом халате, давно уже для нее узком – приходилось придерживать его на груди, – стояла у кроватки Гали.
Сколько это длилось, она не помнит. Не сходя с места, словно окаменев от предвиденной неожиданности этого прихода, сухими и горячими глазами она глядела на все, что делали капитан Сербин и тот, второй, в штатском.
Августовская ночь кончалась, в окнах на сером фоне рассвета, над низкими крышами вырисовывались редкие кроны старых деревьев, вся улица выступала из предутреннего сумрака медленно, как снимок на негативе в ванночке с проявителем.
Сербин подошел к телефону и вызвал машину. Его спутник в штатском запихал в Сашин чемодан фотобумагу, проявленные и непроявленные пленки, отпечатанные снимки… Сашин фотоаппарат лежал на столе, футляр был раскрыт, тускло поблескивал объектив, ремешок, свернувшись коричневой спиралью, свисал и вырисовывался на белой с синими цветами скатерти. Саша медленно зашнуровал ботинки, достал из шкафа свой лучший галстук и старательно повязал его перед зеркалом. Он был удивительно хорош в ту минуту, когда подошел к Галиной кроватке и взялся своей большой, сильной рукою за тонкие поручни. Так они и стояли по обе стороны белой железной кроватки, в которой, не проснувшись, спала их маленькая дочка.
«Много красивых людей встречаешь в жизни, – думал майор Сербин в эту минуту, – но редко встретишь такое смелое, спокойное и мужественное лицо, как у мужа этой женщины, которая сидит теперь рядом со мной…»
Майор Сербин поглядел на Варвару. На лице ее, большом и добром, не было и тени волнения. Ему показалось оно, насколько он мог припомнить, очень похожим на то смелое мужское лицо, которое он не раз видел после той памятной ночи уже в другой обстановке; скорее всего это было внутреннее сходство двух очень близких по характеру, сильных и верных людей, которых любовь делала еще более близкими и еще более похожими.
Сербин вдруг подумал, что не эта женщина должна была бы сидеть теперь тут, в блиндаже, а ее муж, что он был бы тут на месте как командир или политработник, что все любили бы его за спокойное мужество и суровую, требовательную доброту. Все – и солдаты, и офицеры, и он, майор Сербии, – вероятно, с радостью воевали бы под его командованием и чувствовали бы себя счастливыми, что им приходится выполнять приказы такого командира. Эта естественная мысль так поразила майора, что он даже скрежетнул зубами.
Варвара чувствовала себя ошеломленной и притихшей перед неизбежностью того, что уже давно случилось в действительности, но лишь должно еще было случиться в ее воспоминаниях.
…Под окном послышался сигнал автомобиля. Капитан Сербин подошел к Саше. Дворник – он и теперь работает в их доме, больной, преждевременно состарившийся, потому и не на войне, – дворник отлепился от косяка двери и вытянулся, как перед начальством, перед человеком в штатском, который никак не мог закрыть туго набитый чемодан.
– Вам придется пойти с нами, – обратился к Саше капитан Сербин, и темное лицо его окаменело, а впадины под глазами, казалось, заполнились какой-то черной жидкостью.
Саша, не глядя на него, протянул к ней руки над кроваткой Гали. Варвара, холодея от страха разлуки, бросила свои руки навстречу его большим, надежным рукам, которые теперь словно просили у нее поддержки. Узкий халат разошелся на груди, открывая ночную сорочку; она обошла кроватку девочки и поцеловала Сашу в глаза. Возможно, она заплакала бы, но человек в штатском сказал недовольным голосом:
– Ну что вы, гражданка…
Сказал так, словно ее Саша должен был выйти в соседний киоск за папиросами.
Саша коротким пожатием стиснул ее плечи и опустил руки. Она увидела, как капитан Сербин, проходя мимо стола, накрыл газетою фотоаппарат. Машина на улице снова засигналила.
– Что это было… тогда? – скорее у самой себя, чем у майора, спросила Варвара и удивилась, услышав его голос:
– Не знаю… Никто не знает.
Ей казалось, что она ничего не сказала вслух, как же он мог угадать тот главный вопрос, который не давал ей покоя долгие годы? Может, он ждал этого вопроса, может, этот вопрос преследует его, – не ее, Варварин, а большой вопрос всех, на который придется когда-нибудь давать ответ? «Не знаю…» Может, он боится не столько вопроса, сколько ответа?
«Никто не знает»… Тебе спокойней не знать или притворяться, что не знаешь, – думала Варвара. – Но ты знаешь, не можешь не знать. Еще никому ничего не известно, а преступник уже знает о своем преступлении, знает, когда оно еще не совершено… Знает раньше, чем жертва. Вот поэтому ты и боишься моего вопроса, а я не боюсь спрашивать, не боюсь и ответа, каким бы жестоким он ни был. Легче всего сказать «не знаю» и успокоиться. Но нельзя жить с мертвым сердцем, как ты. Не спрашивать – это значило бы закрыть все пути, остановиться, отречься от жизни, а мы не хотим отрекаться… Вопреки твоей жестокости».
Варвара посмотрела на Сербина: в сером сумраке блиндажика лицо его, окаменевшее и неподвижное, показалось ей неживым: восковая бледность ползла по лицу Сербина, распространяясь от запавших висков по лбу. Сербин глядел в стену блиндажика прямо перед собою и ничего не видел, взгляд его был пустой и мертвый.
«Вина моя слишком тяжела, – думал в это время Сербин, – слишком тяжела моя вина перед этой женщиной и ее мужем… Что же произошло, как могла эта вина лечь на мою совесть? Ведь я не хотел быть несправедливым, до определенной минуты я был уверен, что закон борьбы требует от меня тех поступков, которые я совершал… Я должен был быть карающим мечом революции для врагов, как же случилось, что настоящих врагов расплата миновала, вместо этого падая на головы друзей? Она не знает, эта женщина, что мы учились с ее мужем в одном институте, только он шел на два курса впереди. Он также мог меня не помнить, хотя, возможно, сам подписывал мою комсомольскую характеристику, когда меня посылали работать туда, где мы позже встретились… Кажется, он узнал, вспомнил меня потом. Ни ему, ни мне не стало от этого легче. В институте он был примером для нас, младших, он и теперь остается примером для меня: до конца не дрогнул… И то, что он сказал мне, кем я стал, также шло от его непоколебимой верности тому делу, которое я защищал, как мне казалось. В действительности же он защищал его от меня до последней минуты всей своей верностью и чистотой. То, что он тогда сказал, так и останется на мне навсегда… Хорошо, пусть я стал таким не по собственной воле, а по принуждению, разве это снимает с меня вину? Разве я не виноват в том, что разрешил себя принудить? Не было выхода? У него ведь был, он не испугался его, а я закрыл тот выход перед собой, и ничто теперь не может спасти меня от собственного суда, даже то, что я добровольно пошел на фронт…»
Нельзя было вырваться из круга этих мыслей. За одним вопросом возникал другой, еще более страшный, круг только расширялся, разорвать его Сербин не мог.
– А чего мы, собственно, еще сидим тут? – послышался вдруг самоуверенный голос лейтенанта Кукуречного из угла блиндажа. – Обстрел-то давно кончился, а хозяин мне приказывал, чтоб я не задерживался!
Тишина наполняла небо и землю. Ворковал голубь в нише. Сержант Грицай негромко покрикивал в трубку: «Я Подснежник! Я Подснежник!» Толкаясь и наступая всем на ноги, лейтенант Кукуречный полез к выходу. Он оперся костлявой рукой о Варварино плечо. Резким движением она освободилась от этого прикосновения, расправила одеревенелые ноги и поднялась. Уже выбравшись на поверхность, Варвара оглянулась и сказала майору Сербину:
– Прощайте.
Майор не поднял головы и не отозвался. Прошло немало времени, прежде чем он выпрямился, вылез из блиндажика и, не маскируясь, ступая во весь рост между искалеченной кукурузой, зашагал к лесу.
11
От блиндажа телефонистов до траншеи НП, где у стереотрубы сидел полковник Лажечников, было не более двухсот пятидесяти метров. Это расстояние можно было бы пройти за пять минут, но хотя обстрел прекратился, а вернее, потому, что обстрел прекратился и можно было малейшей неосторожностью снова вызвать его, Кукуречный лег на землю и пополз по узким зигзагообразным проходам между стеблями сухой кукурузы, где ползали все, кому приходилось днем пробираться на полковой НП.
Варвара ползла за Кукуречным, не замечая ни расстояния, ни времени: теперь ей было совершенно безразлично, сколько будет еще продолжаться ее дорога к неизвестному полковнику, от которого зависело порученное ей фотографирование танка. Сухо шелестели и качались кукурузные стебли, земля была горячая, словно раскаленная тем огнем, что так недавно еще падал на нее. Варвара уже не обращала внимания ни на лейтенанта, который, как уж, то сокращаясь, то удлиняясь, раздвигал плечами кукурузные стебли впереди, ни на серую землю, пересохшую, потрескавшуюся, переплетенную отмершими корешками, ни на свежие воронки, на дне которых почва была черная и влажная.
Встреча с майором Сербиным словно убила в ней способность что-нибудь чувствовать и видеть, кроме прошлого. Оно снова и снова вставало перед ней во всей своей бессмысленности и откровенной жестокости, которой она в эти минуты, больше чем когда-либо, не находила ни объяснения, ни оправдания.
Сидя в блиндаже телефонистов, Варвара, казалось, готова была примириться с майором Сербиным, – это чувство было вызвано тем, что они находились теперь в одинаковом положении, и тем, что он показался ей таким же человеком, как и все люди здесь, на войне. Теперь, на кукурузном поле, ползя за Кукуречным, она думала уже совсем по-другому, в ней проснулась та враждебность, которую она всегда чувствовала к Сербину. Если ее личное глубокое горе было частью еще более глубокого общего горя, то и Сербин не мог не быть частью той беды, что изуродовала ее жизнь, и, не примиряясь ни на минуту с той бедой, она не могла ни примириться с Сербиным, ни оправдать его.
Сашу увезли. Дворник вышел последним, ссутулив плечи, как-то боком продвинувшись в двери, – то, что происходило, угнетало его. Варвара осталась одна над кроваткой Гали.
Электрическая лампа под большим бумажным абажуром – Варвара сама когда-то разрисовала его разноцветными полосами и зигзагами – ненужно горела над столом. Рассвет все отчетливее проявлял контуры деревьев и строений за окном. Дворник уже взял свою метлу и теперь устало шаркал ею по тротуару.
Слабое пятно света ложилось из-под абажура на газету и желтило, словно подсвечивало изнутри серую бумагу со строчками мелкой печати, большими заголовками, знакомыми портретами и фотографиями. Коричневый потертый ремешок фотоаппарата выползал из-под газеты и спиралью прочерчивался на фойе белой скатерти в больших синих цветах. Еще не зная, что ей делать и что она сделает, Варвара отошла от кроватки Гали, задернула занавеску на окне и начала быстро бросать в небольшой баульчик, в тот самый баульчик, с которым они с Сашей выезжали за город, Галины платьица, рубашки, лифчики и чулочки. Фотоаппарат она осторожно, но касаясь газеты, взяла со стола, тщательно закрыла футляр и положила между Галиными вещами.
Зачем она это делала? Зачем так поспешно укладывала эти детские одежки? Куда она собиралась? Где могла скрыться? Варвара ничего не знала, кроме двух слов: «Так надо». Это «так надо» и заставляло ее собирать свою девочку в дорогу.
Но, собирая Галю в дорогу, поспешно и беспорядочно бросая ее вещи в баульчик, Варвара еще не до конца была уверена, что именно так нужно, ей не у кого было спросить совета: того, кто мог бы ей посоветовать, уже не было.
Перед Варварой все время стояло лицо Саши. Она видела на нем только глаза – большие, серые с синевой, полные печали, они словно хотели ей что-то сказать перед расставанием, они должны были ей что-то сказать, потому что уста Саши были скованы присутствием капитана Сербина и его спутника в штатском. Что говорили ей Сашины глаза? Их уже не было, их увезли, неизвестно куда и на какой срок, в машине, которую вызвал капитан Сербин, но Варвара чувствовала на себе взгляд этих глаз, они следили за каждым ее движением и словно говорили: «Хорошо, ничего иного ты не можешь сделать, другого выхода у тебя нет, ты прекрасно меня понимаешь…»
Варвара умылась, надела старенькое платье. Туфли у нее были на высоких каблуках, она покачала головой, обувая их на босую ногу. Теперь оставалось только разбудить Галю.
Галя обняла мать теплыми ручонками, как всегда делала спросонок, и вся она была теплая, ушки у нее были розовые и прозрачные, одно даже красное – отлежала во сне… Варвара быстро начала одевать Галю: пальцы ее не слушались, пуговицы не лезли в петли, чулки надевались наизнанку.
– Пей скорей молоко, Галя, – сказала Варвара, когда Галя, уже умытая, с заплетенными косичками, сидела за столом. – Нам надо торопиться.
– Куда? – спросила Галя, хлебая молоко из блюдечка.
– К бабушке, в Тарусу, – ответила Варвара так, словно это был давно и без колебаний решенный вопрос.
Саша одобрил бы ее поступок, теперь она знала это наверняка. Стоило только вспомнить его глаза, чтоб сомнения исчезли.
Трудней всего было выйти из Москвы. Сначала Галя семенила рядом с Варварой маленькими ножками, потом пришлось взять ее на руки. Можно было поехать в Серпухов, а оттуда пароходом в тот глухой городок на берегу Оки, где в садах на окраине затерялся маленький деревянный домик, в котором прошло детство Варвары. Но Варвара побоялась идти на вокзал, в толпу чужих и незнакомых людей. Ей казалось, что каждый, взглянув на нее, сразу поймет, что с ней случилось; хорошо, если это будет доброжелательное понимание… Ее угнетало чувство непоправимой утраты, но больше всего пугала возможность потерять Галю. Арестуют ее, Галю заберут в детдом, жизнь кончится… Эта мысль безостановочно гнала ее по обочине вдоль шоссе на Подольск.
Когда позади остались последние дома предместья, когда она очутилась в подмосковных полях, под лучами нестерпимо жаркого солнца, под просторным августовским небом, ей стало легче, словно этот простор укрывал ее успокаивающей синевой, как шапкой-невидимкой. Было пустынно и тихо кругом, иногда пролетал по шоссе грузовичок, иногда проезжала запряженная косматой клячонкой подвода, но Варваре и в голову не приходило попроситься на грузовичок или на подводу, она боялась выйти из защитного одиночества, в котором можно думать обо всем, что случилось, и обо всем, что может случиться, вдалеке от взгляда человеческих глаз, которые всегда хотят все знать. Никто не должен был знать, что творится у Варвары на душе.
Она поняла, что говорил ей глазами Саша в минуту расставания: «Галя… Береги Галю».
Варвара прижимала к себе Галю, а дорога делалась все более утомительной: маленькая Галя ничего не весила, когда Варвара дома брала ее на руки, теперь девочка становилась все тяжелей, к тому же еще и баульчик – пришлось его привязать платком за ручку через плечо… Потом сломался высокий каблук на одной туфле, Варвара спрятала туфли в баульчик и шла теперь босиком по горячей тропке. Галя плакала от жары. Варвара обвязала ей голову рубашечкой – в спешке она забыла взять белую панамку.
Под Подольском Варвару догнал вечер. Небо поплыло вверх, темнея, сделалось недосягаемо высоким, несмело замерцала на нем первая звездочка.
«Что ты тут делаешь? – сказала звездочка, глянув на землю и увидев, что Варвара стоит у дороги и растерянно смотрит вокруг то на разбитое шоссе, устало лежащее среди полей, то на низкие копешки ржи за придорожной канавой. – Тебе еще не приходилось спать в поле? Тут тебе будет хорошо ночку ночевать, а утром пойдем дальше».
И Варвара переночевала ночку с Галей в поле под копной ржи. Теплая сухая земля после целого дня пути под палящим солнцем показалась ей мягкой как пух, гораздо мягче, чем их большая тахта в Сивцевом Вражке. Галя лежала у Варвары на руке, свернувшись калачиком и упираясь острыми коленками ей в бок. Варвара долго глядела в высокое небо, отыскивая ту первую звездочку, которая посоветовала ей ночевать в поле, но уже не могла найти ее среди множества больших и малых звезд, что усеяли темное небо и разговаривали меж собой одними глазами, как она с Сашей в минуту прощания.
Через Подольск она прошла на рассвете. Город еще спал, только на главной улице, где ютились по склону низенькие, дореволюционной постройки магазины, усталый милиционер разговаривал с большим бородатым стариком, который стоял перед ним, обеими руками опершись на метлу; милиционер и старик с метлою замолчали и внимательно поглядели на Варвару, когда она проходила мимо них. У Варвары похолодело сердце. Они долго смотрели ей вслед, потом вернулись к прерванному разговору.
Стрелка с надписью на столбе, что стоял на углу, велела Варваре свернуть в переулок. Тут жил человек, которому Варвара могла сказать все не колеблясь, не задумываясь ни на минуту о последствиях, которые может иметь ее откровенность. Она поверила в человечность этого человека еще подростком и теперь почувствовала здесь, на углу у столба со стрелкой, что вера ее окрепла, стала еще глубже и больше из-за той бесчеловечности, которая только что ее коснулась.