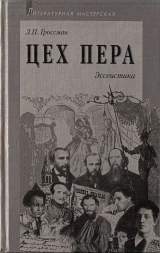
Текст книги "Цех пера. Эссеистика"
Автор книги: Леонид Гроссман
Жанр:
Публицистика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 34 страниц)
Но из этого тупика столкнувшихся противоречий он нашел, наконец, исход. Он ввел революцию в исповедание своей веры. Он увидел в ней необходимый и полный глубокого смысла акт всемирной исторической трагедии. Он принял ее, как таинство жертвоприношения, как очистительное испытание огнем и кровью, как неизбежное всенародное искупление грехов и преступлений власти. Он перестал в ней видеть один только лик антихриста и почувствовал в вихрях политических бурь «дыханье Божие». И под конец жизни он стал прозревать религиозную драму мирового обновления не только в парадных торжествах тронных зал и ватиканских чертогов, но и в яростных судорогах мучительных перерождений, искажающих лики империй.
Стендаль и Толстой

I
Девятьсот четырнадцатый год явится несомненно поворотным пунктом в наших воззрениях на войну. Во всем непохожая на традиционные способы ведения международных споров, являющая на каждом шагу свои трагические неожиданности, совмещающая научную точность и виртуозное совершенство внешней техники с регрессивными тенденциями в сторону первобытных приемов борьбы, европейская война наметит целый ряд новых вопросов и разрешений во всех областях, связанных хотя бы отдаленными нитями с пережитыми событиями. Помимо специальных вопросов военной теории и истории, стратегии, тактики, экономики и международного права, она обозначит новый перевал и в области творческой, – в сфере военной философии и художественного батализма. Небывалая по своим размерам и внутренним свойствам милитаристическая практика нашей эпохи вызовет, конечно, немало новых синтетических раздумий о характере и психологии войн, создаст немало новых приемов в технике их изображения.
По-видимому, каждой отдельной доктрине военной философии, как и каждой школе батальной живописи, суждено просуществовать не дольше столетия. Один из глубочайших знатоков войны заметил в 1837 г., что в королевской Франции до 1790 г. на салонном языке литературных аббатов и даже в саркастической прозе Вольтера было бы совершенно невозможно передать картину наполеоновского сражения. Французский литературный стиль должен был переродиться в горячке великой революции и походов империи, чтобы приспособиться к изложению новых войн и формулировке выработанной ими новой военной философии.
Возникшая в 1815 г. эта философская доктрина войны отходит в 1915 г. Народившись в эпоху ликвидации наполеоновских походов и достигнув апогея своего развития в середине прошлого столетия, она должна переродиться после великой войны начала XX века. Все особенности быта и психологии этой борьбы народов опрокидывают установление точки зрения на сущность, значение и цели войны и требуют целый ряд новых, более гибких и подвижных приемов для своей фиксации и воплощения.
Но, отходя и перерождаясь, военно-философская доктрина XIX века передает своей преемнице немало из своих раздумий и наблюдений. Это в значительной степени объясняется тем, что лучшими философами войны оказались в XIX веке художники-психологи. Выводя свои отвлечения из непосредственного наблюдения битв, они внесли непреходящий художественно-психологический элемент в свои военно-философские теории. Им удалось при этом рассеять столько старых предрассудков о торжественном параде победоносных войн, о внешних эффектах воинских подвигов и симфонической красоте великих сражений, им удалось установить такую непререкаемую правду о тяжелой будничности военного дела и жуткой прозе боевого героизма, что будущие теоретики пацифизма и милитаризма будут постоянно возвращаться к их страницам, будущие художники-баталисты не перестанут утончать свои изобразительные орудия в непреходящей школе этих старых мастеров.
Два офицера, проделавшие в различные эпохи две труднейшие кампании XIX века, установили эту правду о войне. Один из них, Анри Бейль, корнет драгунского полка и впоследствии интендант великой армии, участник нескольких наполеоновских походов, в том числе и русской кампании 1812 г., обозначил свои романы именем Стендаля. Другой, артиллерийский подпоручик, наблюдавший сражения с бастионов осажденного Севастополя, был будущим автором «Войны и мира».
Мы находим в их теориях резюме военной философии XIX в., в их художественных описаниях и психологических страницах вечные образцы батальной живописи и частичный комментарий ко всякой будущей войне.
II
Нет, кажется, более противоположных натур по характеру, по образу жизни, по философским и религиозным убеждениям, чем Стендаль и Толстой.
Один, цинически-невозмутимый скептик, проводит свою жизнь в скитаниях по крупным музейно-библиотечным городам Европы, поставив себе целью каждого прожитого дня максимум чувственных наслаждений и полное отсутствие таких материалистически-бесплодных эмоций, как молитвы, размышления о Боге или даже философия о благе человечества. Другой, неисправимый мечтатель до девятого десятка и утопически верующий фанатик всех великих идей человеческой мудрости, замыкает свое существование оградой родовой усадьбы, чтобы принести к концу своих исканий весь свой художественный гений в жертву вечным раздумьям о Боге и благе человечества.
Казалось бы, что общего у французского скептика, авантюриста, дипломата и дилетанта, у этого вечного донжуана салонов и харчевен с яснополянским апостолом отречения и страстным иконокластом всей европейской культуры во имя аскетической идеи о праведности человеческой жизни? В чем точки их соприкосновения? Каким образом эти во всем полярные мыслители могли прийти в какой бы то ни было области к согласному решению?
Мы стоим у любопытного вопроса о роли войны в творческой психологии, о значении ее в процессе перерождения убеждений и окончательной их формации.
Общим в судьбах Стендаля и Толстого было их боевое крещение в ранней молодости. Оба они готовились к литературной деятельности на полях сражений. Им обоим пришлось молодыми офицерами принимать участие в труднейших походах и формулировать догматы своих еще неокрепших мировоззрений в пороховом дыму сражений. Все положения своей философии они формулировали уже после того, как вплотную прикоснулись к смерти и были невольными свидетелями обычного военного максимума человеческих страданий. Зрелища сражений и картины битвенных полей, усеянных трупами, оставили свои следы на всех их последующих впечатлениях. Количество пролитой на их глазах крови понизило высокую степень их юношеской мечтательности и окрасило в тона безнадежности их ранние раздумья о героизме, о славе, о воинских доблестях. Созерцание людей в их напряженной борьбе, так печально преображающей человека, переместило в них немало предвзятых точек зрения о высоких стремлениях и героических порываниях человеческой природы. Оба они вернулись из своих походов с громадным житейским опытом, с точной оценкой жизненных благ, с протрезвевшими воззрениями на мир и людей и безнадежной душевной пустотой.
Глубокое разочарование – вот их состояние после походов. «Я чувствую себя мертвецом, я утратил все свои страсти, – записывает Стендаль в своем дневнике за 1813 г., вернувшись из России. – Кажется, дряхлый старик не может быть холоднее…» И уже после первых боевых схваток с чеченцами Толстой, по его собственному признанию, только и думает о том, чтобы положить в ножны свой меч, до такой степени военный образ жизни становится для него невыносимым.
Им обоим пришлось видеть войну во всех ее проявлениях. Стендалю приходилось работать в госпиталях, помогать переноске раненых, наблюдать лазареты в плачевнейшем состоянии походного беспорядка с экономом-мошенником и единственным хирургом для сотен раненых. Ему приходилось вступать в сожженные города и проезжать в обозных повозках по сплошной дороге тел, фонтаном выбрасывающих внутренности под давлением колес. Он переправлялся через мосты, усеянные сотнями трупов людей и лошадей, через реки, поглощающие их тысячами, он видел Траун в 1809 г., Березину в 1812 г., сгоревшие Эберсберг, Смоленск и Москву. Он видел замерзшие трупы, которыми затыкались пробоины в стенах госпиталей, и груды обугленных мертвецов, еле сохранивших форму человеческого скелета. «Меня почти что стошнило», признается он в своем дневнике, вспоминая зрелище эберсбергского пепелища с его сгоревшими живьем ранеными.
Военный опыт Толстого был не менее богат. И ему, как Стендалю, пришлось узнать все виды и формы войны. Он беседовал в лазаретах с ранеными, всматривался в лица людей с отрезанными ногами или вылущенными в плечах руками, по тусклым взглядам которых он понимал, что перед ним существа, уже выстрадавшие лучшую часть своей жизни. Он наблюдал докторов с окровавленными по локоть руками и угрюмыми физиономиями, механически ампутирующих толпы раненых, он видел, как фельдшера с профессиональным равнодушием кидали в угол отрезанные руки, а трава и земля на перевязочных пунктах были пропитаны кровью на десятину места. Он видел крутящиеся в жидкой грязи гранаты, исковерканный чугун и изуродованные тела, бомбы, траншеи и трупы, войну в ее настоящем и полном выражении – в крови, в страданиях, в смерти. Неудивительно, что безмятежный фейерверкер Старогладовской станицы вернулся после севастопольской кампании в Петербург раздражительным, беспокойным, недовольным собою, жизнью и окружающими, во всем изверившимся скептиком.
В этом состоянии разочарования войной оба они задумывают свои батальные страницы. Им нужно разобраться в слишком обильных и слишком тяжелых наблюдениях. Они прошли весь цикл военных впечатлений, присутствовали при окрыляющих триумфах первых сражений, наблюдали обороны, которые граничат с отчаянием, и видели войну, когда она уже превратилась в разгром, бойню и длящееся убийство. Все эти впечатления отстаиваются в образы их военных описаний и выделяют из массы накопленного материала несколько теоретических положений о сущности и смысле войны.
Особым простым и трезвым языком, устраняющим все претензии на изящество и стилистические эффекты, этим слогом, выработанным практикой походов и ужасами битв[17], они излагают свои тезисы о будничности войны, о сущности военного ужаса, о роли полководцев в сражениях, о задачах и целесообразности войн.
III
Стендаль в значительной степени подготовил военную философию и батальную технику Толстого. Еще в ранней молодости, задолго до своего боевого крещения Толстой познакомился с автором «Chartereuse de Parme» и «Rouge et Noir».
«Это два великие неподражаемые произведения искусства, – говорил он впоследствии о романах Бейля, – я больше чем кто-либо другой многим обязан Стендалю. Он научил меня понимать войну. Перечтите в „Chartereuse de Parme“ рассказ о битве при Ватерлоо. Кто до него описал войну такою, т. е. такою, какова она есть на самом деле? Помните Фабриция, переезжающего поле сражения и „ничего“ не понимающего. И как гусары с легкостью перекидывают его через круп лошади, его прекрасной генеральской лошади. Потом брат мой, служивший на Кавказе раньше меня, подтвердил мне правдивость стендалевских описаний. Он очень любил войну, но не принадлежал к числу тех, кто верит в Аркольский мост. Все это прикрасы, говорил он мне, а на войне нет прикрас. Вскоре после того в Крыму мне уже легко было все это видеть собственными глазами. Но, повторяю вам, все, что я знаю о войне, я прежде всего узнал от Стендаля».
Толстой любил повторять этот отзыв. «Читайте Стендаля, – говорил он Горькому. – Если бы я не читал „Chartereuse de Parme“, я не сумел бы написать военных сцен в „Войне и мире“»[18].
В чем же сущность того откровения, которое Толстой нашел в романах Стендаля?
Есть две войны: одна воображаемая, созданная теорией стратегического дела, поэтическими описаниями сражений, рассказами очевидцев и официальными донесениями. Эта воображаемая война не имеет ничего общего с настоящей: весь комплекс стратегических терминов и эффектов батального импрессионизма бесконечно далек от действительной смеси грязи и крови настоящего поля сражения. Таково главное открытие Стендаля.
Война, утверждает он, является во всех своих проявлениях совершенно иной, чем мы привыкли думать о ней. Генералы никогда не произносят тех великолепных прокламаций и торжественных воззваний к войскам, о которых передает нам история. Да они и не нужны никому. Какая-нибудь сказанная вовремя циническая шутка, энергичное слово народной ругани или веселая брань в устах полководца способны увлечь солдата лучше самых громких воззваний. Война не знает праздничных эффектов и по существу своему чужда всякой эстетики. Это самое безобразное, самое буднично-уродливое и тяжелое из всех человеческих дел. Вместо восторгов и радостей она способна в действительности вызывать только ужас, недоумение, содрогание и тошноту.
Это сопоставление войны воображаемой и действительной, – вот та правда, которую Стендаль прежде всего сообщил Толстому. Недаром севастопольский защитник сразу почувствовал в батальных страницах Стендаля первое в мировой литературе описание войны такой, какова она есть на самом деле.
IV
Художники прежде всего, Стендаль и Толстой облекли свою военную философию в картины исторической действительности. Психологи по существу своих дарований, они демонстрировали эти батальные полотна сквозь субъективное восприятие отдельных лиц.
Сражение при Ватерлоо развертывается перед нами в смене встревоженных впечатлений Фабрицио дель Донго, как Бородинская битва в круговороте полусознательных наблюдений Пьера Безухова. Все теоретические раздумья обоих писателей о сущности и смысле войны отлагаются от этих непосредственных впечатлений их сражающихся героев. В их восприятиях нам раскрывается полностью вся будничность, уродство, неприглядность и страшная прозаичность военных действий. Высокопарные мечты о блестящих военных подвигах, разбитые вдребезги жестокой военной практикой, отмечают первый момент в критике и отрицании войны. Личное, непосредственное разочарование в ней – первый тезис всякой военной философии.
История участия Фабрицио в битве при Ватерлоо – законченный психический этюд вечного крушения милитаристического идеализма.
Семнадцатилетний мальчик, начитавшийся бюллетеней великой армии, мчится из Милана содействовать успеху Наполеона под Ватерлоо. Война представляется ему общим порывом героических душ к подвигу, сменой торжественных и трогательных картин самопожертвования и рыцарской преданности. Он готов принять смерть, как герои «Освобожденного Иерусалима», в тесном кругу соратников, пожимающих с тихим отчаянием его холодеющую руку.
Но действительность бросает его в отчаянную атмосферу борьбы, где вечный инстинкт самосохранения, продолжая господствовать в вооруженных массах, толкает их на обманы, хитрости, и даже на будничный цинизм обычной борьбы за существование. Все жестокие необходимости войны заставляют с исключительной силой проявиться исконным инстинктам человеческой природы, и воображаемые рыцари оказываются в действительности усталыми, голодными, измученными людьми, стремящимися прежде всего удовлетворить свой голод и по возможности сохранить свою жизнь. Загнанные в последние тупики опасности, они признают все средства годными для достижения этой цели. У несчастного Фабрицио его боевые товарищи силою отнимают лошадь, хитростью забирают деньги и жестокими насмешками отвечают на его просьбы о куске хлеба. Торжественная, героическая, воодушевляющая война в духе наполеоновских прокламаций оказывается в действительности рядом безобразно жестоких дел, затмевающих незаметный героизм массового шествия на смерть.
После первого же своего сражения раненый Фабрицио с глубоким равнодушием ждет дальнейших событий. Количество потерянной крови совершенно избавляет его от всех романтических иллюзий и надежд.
Это разочарование в войне – один из первых моментов в толстовском походе на милитаризм. Фатальное разложение всех воодушевляющих мечтаний об эстетически прекрасном военном героизме на суровой практике походной жизни – вот одна из излюбленных толстовских тем.
Разжалованный Гуськов в серенькой солдатской среде с тоской вспоминает свои мечтанья об отважных товарищах, о прелестях vie de camp. «Я бы, может быть, был герой: дайте мне полк, золотые эполеты, трубачей, а идти рядом с каким-то диким Антоном Бондаренко…» Молоденький прапорщик Аланин, которому хотелось целоваться со всеми и всем объясняться в любви в день своего приезда в полк, этот мальчик, ожидающий с нетерпеливой радостью боевого крещения, выходит из своего первого сражения с холодно-печальным выражением удивления и упрека на своем хорошеньком лице и со смертельной раной в груди. Семнадцатилетний Володя Козельцов, боящийся темноты и по-детски молящийся о спасении, ожидает с нетерпением приобщения к торжественно-грозному величию войны. Он переживает бесконечную вереницу разочарований, ему кажется странным, что заряды и орудия не отвечают требованиям его артиллерийского руководства и что решительно никто не выказывает сочувствия к его героической деятельности. В среде товарищей он ощущает тяжелое одиночество и в первом же сражении вместо славы находит смерть.
Таковы же ощущения героев «Войны и мира». Петя Ростов, почти ребенок, с его «отличным изюмом» и безграничной любовью ко всем, падает в первом же сражении. Князь Андрей Болконский мечтает о героической военной деятельности и с нетерпением ждет для себя бонапартовского Тулона. Но после первой битвы ему бесконечно грустно и тяжело. Все происходящее вокруг него так странно и непохоже на его ожидания. Оказывается, истинные герои и виновники побед часто остаются в тени и не только не заслуживают наград, но еще подвергаются осуждению за кажущуюся неисправность.
Это разочарование в войне всех тщеславных и наивных мечтателей открывает военную философию Стендаля и Толстого.
V
Вопрос о психологии сражений намечает дальнейшие пути их размышлений. Николай Ростов, принимавший участие в нескольких боях, знает по опыту, что все происходит на войне совсем не так, как мы привыкли воображать или рассказывать. Действительное сражение не имеет ничего общего ни с нашими представлениями о нем, ни даже с позднейшими рассказами очевидцев. Серия разорванных и бессвязных эпизодов часто оставляет в самом сражающемся неуверенность в том, что принимал участие в разгаре битвы.
Видеть современное сражение даже участникам его почти невозможно. Непосредственные схватки враждебных армий тело к телу – этот обычный сюжет всех военных иллюстраций – в сущности являются исключением в современной войне. Самые кровопролитные и страшные сражения остаются отрывочными эпизодами, и соприкосновение с неприятелем часто измеряется промежуточным расстоянием в десятки верст. Действительность почти никогда не дает в цельном компактном, замкнутом виде того, что называется сражением. Оно всегда остается разорванной серией отдельных событий и только впоследствии, в рассказах, донесениях и воспоминаниях участников принимает ложный характер законченного и связного целого.
В письмах Стендаля сохранилось описание его впечатления от битвы. «От 12 до 3 мы видели все, что можно видеть в сражении, т. е. ничего. Удовольствие наблюдения сводится к волнению от сознания, что происходит нечто ужасное. Величественный грохот орудий способствует этому впечатлению».
Стендаль изобразил это состояние в своем знаменитом романе. Описание битвы при Ватерлоо в «Chartereuse de Parme» – первая в мировой литературе попытка дать описание сражения во всей его реалистической правде, без батальных эффектов и традиционной военной стилизации. Здесь нет ни хаоса схваток, ни пирамид окровавленных трупов. Одно из самых кровопролитных сражений сводится в наблюдениях его участников к цепи отдельных, на вид незначительных действий: снаряд срывает с дерева целую сеть тоненьких веточек и, как косой, срезает листву, галопом проносится по полю группа генералов в сопровождении свиты гусар, несколько всадников неожиданно падают с лошадей; беспрерывно усиливаясь, нарастает грохот орудий, земля как-то странно взлетает комками, и сражающиеся до конца не перестают шутить и острить над неприятелем, над опасностью, над близкой гибелью. До конца у новичка, попавшего в эту непривычную обстановку, остается сомнение, действительно ли все, что происходит вокруг него, – настоящая битва и может ли он считать себя ее участником, если за целый день он только и делал, что скакал в эскорте генерала.
Приблизительно такой же представляется картина другого кровопролитнейшего сражения прошлого столетия – Бородина в «Войне и мире». Ничего чудовищного, фантастического, дантовски-адского нет в этой картине жестокой перестрелки. Пьер Безухов, доброволец-дилетант, как Фабрицио дель Донго, скачет, как стендалевский герой, за каким-то генералом и наблюдает затем с опаснейшего пункта картину развертывающихся военных действий. Ядро, ударяясь о вал, ссыпает землю, лошадь, трепля обломками оглобель, мчится по полю, раненый конь пронзительно визжит, молоденький офицерик посреди своего доклада полковнику неожиданно вскрикивает и, свернувшись, садится на землю, как на-лету подстреленная птица, проносят носилки, движется пехота, не прекращаясь, грохочут орудия – такова во всем ее простом ужасе легендарно-ужасная Бородинская битва.
При этом, в субъективном представлении, значение события уменьшается. Каждому участнику битвы кажется, что самое главное происходит где-то вне его и что он отнесен событиями к исполнению самой незначительной роли в громадном, исторически ответственном деле. Пьер, находясь в самом опасном месте сражения, на той батарее, которая была окрещена неприятелем именем рокового или центрального редута, этого важнейшего пункта всей позиции, вокруг которого пали десятки тысяч, считает, что это окопанное небольшими канавами место – самый незначительный пункт сражения именно потому, что он находится на нем.
VI
Так же неожиданны и все формы военного ужаса. Оглушительные выстрелы и беспрерывная смерть оказываются в действительности менее страшными, чем отдельные случайные эпизоды походов и сражений. Когда Фабрицио дель Донго видит первый простреленный труп, его ужасает не мертвое тело, а грязные босые ноги мертвеца, с которого уже успели содрать его обувь, оставив на нем только пропитанные кровью панталоны. Его пугает не смерть, не страдания и раны, а тусклый неподвижный взгляд мертвеца. Страшна не беспрерывная канонада, а вид окровавленной лошади, бьющейся в судорогах на земле и запутавшейся ногами в собственных внутренностях. Фабрицио быстро свыкается с видом усеянного телами поля, но он холодеет от ужаса, когда перед ним раскрывается зрелище лазаретной операции и на его глазах врач отрезывает ногу красавцу-кирасиру.
Таковы же впечатления толстовских героев. Одиноко лежащий солдат на лугу, со свалившимся кивером, сразу рассеивает бессознательно-радостное возбуждение перед битвой, брошенная на землю и пронзительно-протяжно визжащая лошадь вызывает смертельную тоску; и, может быть, ужаснее всех эпизодов битвы для князя Андрея оказывается сцена в лазарете, когда рыдающему красавцу Анатолию Курагину показывают в сапоге с запекшейся кровью его отрезанную ногу.
Вот простая сущность военного ужаса, ускользающая от обычных режиссеров батальных драм. Последняя степень ужаса не там, где ее ждут, и горы трупов бывают менее страшны, чем отрезанная нога или раненая лошадь. В войне все неожиданно, все оказывается проще наших представлений о ней и в своей простоте более ужасным.
Стендаль описывает стычку на ночных улицах города. «Третьего дня – битва. Ружейная перестрелка, в которой какая-то старуха, скрестив руки на животе, познала преимущество иметь их пронзенными, как у Спасителя; с простреленным животом, она немедленно же отправилась испытывать действие его милосердия. Я не отмечаю полученных ею сабельных ударов, которыми никто не хвастает. Великолепное полнолуние; широкая улица, полная народу… „Проклятые французы“, падающие со всех сторон на мою военную шапку. Ружейный залп – двадцать людей распростерты вокруг меня. Восемнадцатилетняя красавица-девушка бьется у моих ног с головой на моих сапогах».
Николай Ростов ударяет саблей французского офицера. «В то же мгновение, когда он сделал это, все оживление Ростова вдруг исчезло… Драгунский французский офицер одной ногой прыгал на земле, другой зацепился в стремени… Лицо его, бледное и забрызганное грязью, белокурое, молодое, было самое не для поля сражения, не вражеское лицо, а самое простое, комнатное лицо. Он, торопясь, хотел и не мог выпутать из стремени ногу, и, не спуская испуганных голубых глаз, смотрел на Ростова»…
И что-то неясное, запутанное открывается Ростову взятием в плен этого офицера. «Так только-то и есть всего то, что называется геройством? И разве я это сделал для Отечества? И в чем он виноват со своей дырочкой и голубыми глазами?.. У меня рука дрогнула, а мне дали Георгиевский крест! Ничего, ничего не понимаю»…
Такова сущность войны. Побежденный, поверженный враг оказывается для Стендаля подстреленной старухой и раненой девушкой; для Толстого – несчастным мальчиком с ясными глазами и самым не вражеским простым, комнатным лицом. Признанная и награжденная победа остается странным недоумением для победителя и отлагается неприятным до тошноты осадком разочарования в душе его. Враг симпатичен и жалок, геройство ничтожно, и одержанная победа тяжела до отвращения. Вот настоящая сущность военного ужаса, вот совершенно новые слова о войне, еще незнакомые веку Вольтера.
VII
В своих военных описаниях Стендаль и Толстой уделили много места специальному вопросу: какими свойствами должен отличаться тот, кому предназначено управление этими войсковыми массами? Каков должен быть главнокомандующий?
Стендаль в характеристике наполеоновских генералов дает полный перечень основных черт современного полководца. Первое необходимое качество его – великое спокойствие, полное отсутствие восторженности, нервной впечатлительности и легкой возбудимости. Энтузиазм нужен для того, чтобы жертвовать жизнью, бросаться на вражеские редуты, вступать в штыковой бой, – такова война для солдат, отчасти и для большинства офицеров. Но для главнокомандующего она не перестает ни на минуту оставаться шахматной игрой высшего порядка, требующей, помимо знания, опыта и изобретательности, еще мгновенной быстроты решения. Нужно в две минуты создать огромное количество умнейших ходов и часто посреди человеческих криков и грохота орудий. Маршал Ней превращался в такие минуты в вулкан разумных и стойких идей; тусклый и молчаливый в обычной жизни, поражавший всех своей застенчивостью, он на поле битвы превращался в подлинного творца. Лишенный восторженности, он являл в такие минуты глубочайшее внимание и хищную зоркость. Он знал, что одновременно ему необходимо сообразить грандиозные передвижения вооруженных толп и предвидеть мельчайшие препятствия, способные все парализовать.
Таковы в описании Стендаля почти все наполеоновские генералы. Даву отличается качествами, наиболее чуждыми французскому характеру, – хладнокровием, осторожностью, упорством.
Бертье умел с величайшей ясностью представить сложнейшие передвижения армии и безошибочно определять территорию по картам; с поразительной точностью и быстротой он выводил из всех донесений сущность действительного положения вещей. Высшим качеством его было полное отсутствие энтузиазма.
Знаменитый Массена несколько отличался от своих товарищей по командованию. Он пренебрегал дисциплиной и мало заботился об администрации; он даже плохо располагал войска к атаке; его обычный разговор был сух и неинтересен; но при первом же Пушечном выстреле, посреди снарядов и опасностей мысль его приобретала исключительную силу и ясность. При этом этот французский Кутузов умел великолепно беседовать с солдатами и знал, как действовать на них своей энергичной фамильярностью.
Главнокомандующие у Толстого отличаются теми же качествами. Действовать на настроение сражающихся и не пытаться слишком ломать ход слагающихся событий – такова их основная задача. В ранних письмах Толстого к Ергольской помещена характеристика командовавшего под Силистрией князя Горчакова, который, по-видимому, послужил ему образцом для излюбленных типов его генералов. Горчаков, по словам Толстого, во время сражения до такой степени занят общим ходом дела, что пушки и ядра для него не существуют. С величайшей простотой он выставляет себя на опасность и, отдавая приказания с неизменной ясностью и точностью, он остается внимательным ко всякому.
Таковы же в описаниях Толстого Багратион и Кутузов. С полузакрытыми равнодушными глазами объезжает князь Багратион поле битвы, спокойно наблюдая и как бы подтверждая своими распоряжениями неустранимый ход военных действий. Благодаря этой невозмутимости и тонкому такту, присутствие его оказывает громадную пользу всем сражающимся. Подбегающие к нему расстроенные начальники успокаиваются, солдаты и офицеры весело приветствуют его и становятся в его присутствии оживленнее и храбрее.
Но в решительную минуту он весь преображается: равнодушно-безучастное лицо его выражает сосредоточенную и счастливую решимость, и с прежней медленностью движений он горящими ястребиными глазами озирает местность.
В таком же духе проведена знаменитая характеристика Кутузова. Старый, многоопытный полководец, он в обычной жизни поражает своей апатичностью и кажется самым простым и обыкновенным человеком. Великий молчальник и лениво-равнодушный наблюдатель неизбежного хода событий, он дремлет на военных советах и кажется безучастным даже во время сражений. Но в минуту высшего напряжения опасности или торжества он зажигается гневом, возмущением, радостью или молитвенной благодарностью. Только такими средствами считает он возможным руководить духом войска, т. е. выполнять единственную осуществимую задачу для полководца.
Но часто даже вспышки возмущения или радости – только искусные приемы шахматной игры. Великие полководцы должны уметь симулировать ощущения и в известные минуты быть великими актерами. Главнокомандующий не имеет права быть всегда естественным. Стендаль восхищается «великолепными кривляниями великого Суворова (les admirables singeries du grand Souvoroff) и актерскими способностями Мюрата». Когда Кутузов у Толстого узнает о Бородинском поражении, он разыгрывает сцену возмущенного недоверия и своим фантастически-произвольным заявлением о победе поддерживает бодрость в усталом и обессиленном войске.
Говорить в XIX веке о качествах главнокомандующего и обойти молчанием Наполеона невозможно. Стендаль и Толстой оба обратились к нему для проверки своих теорий и, несмотря на различное отношение к нему, во многом пришли к одинаковым выводам.








