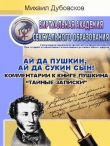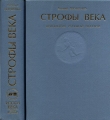Текст книги "Цех пера. Эссеистика"
Автор книги: Леонид Гроссман
Жанр:
Публицистика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 29 (всего у книги 34 страниц)
Это настроение Липранди сказалось и в эпоху декабрьского движения. Герцен впоследствии решительно называл его «членом тайного общества 1825 г.»[124] Его прикосновенность к декабрьскому движению одно время считал несомненной Вигель. Его ближайший начальник и покровитель Воронцов секретно сообщал в Петербург об арестованном Липранди, что относительно него «сомнение превратилось в явное подозрение».
Пушкин, конечно, и отдаленно не догадывался о тайной политической миссии Липранди[125]. Он верил в искренность вольнолюбивых речей полковника и несомненно считал его в стане революционеров. «Липранди, – пишет Пушкин Вяземскому 2 января 1822 г., – мне добрый писатель и (верная порука за честь и ум) не любим нашим правительством, и в свою очередь не любит его» (Письма. I, с. 25).
О причастности Липранди к тайному обществу Пушкин был, видимо, осведомлен. Сам Липранди сообщает, что «Пушкин принимал живейшее участие в судьбе В. Ф. Раевского и чрезвычайно любопытствовал узнать причину его ареста». Между тем Липранди в известной степени разделял судьбу Раевского, и интерес Пушкина должен был распространяться и на него.
Естественно предположить, что Липранди, вообще щеголявший радикализмом, должен был широко учитывать оппозиционные настроения сосланного Пушкина и открыто демонстрировал перед ним свою показную революционность. Автор «Кинжала», антиправительственных ноэлей, эпиграмм на царя и министров представлял собою благодарного слушателя для кишиневского вольтерианца и карбонария.
Последний термин особенно применим к тогдашним ролям Липранди. Мы видим, что он с исключительным интересом отнесся к делу итальянских «угольщиков», т. е. революции в Неаполе в 1820–1821 гг., когда он стремился даже стать в ряды инсургентов. По свидетельству Волконского, Липранди даже пострадал за свое сочувствие мятежным неаполитанцам – и нужно думать, что соответственные речи о европейской революции были учтены военными следователями и сыграли свою роль при постановлении приговора.
С ноября 1822 г. Липранди, в глазах посвященных и сочувствующих, был окружен некоторым ореолом жертвы за смелые убеждения и горячую приверженность великому делу освобождения европейских народов от тиранического гнета Священного Союза. Передовое общественное мнение Европы было всецело на стороне революционного Неаполя, стремившегося сбросить с себя иго бурбонской Франции и меттерниховской Австрии.
Нам становится ясной неожиданная на первый взгляд концовка «Выстрела», вполне закономерно завершающая цельную композицию главного образа.
На глазах у Пушкина Липранди как бы принимал муку за стремление освободить чужую народность от тяжкого реакционного гнета. Этот жест и нашел отражение в героическом эпилоге Сильвио, гибнущего в борьбе за освобождение восставшей Греции. Если Липранди мечтал вести народные ополчения итальянской армии на штурм старых монархий, Сильвио «предводительствовал отрядом этеристов» и пал в знаменитом революционном сражении.
Таким торжественным штрихом завершает Пушкин образ своего героя, до конца стремясь точно фиксировать свое творческое впечатление от одной необыкновенной личности и судьбы.
IX
Краткая история знакомства Пушкина с Липранди внесет в нашу тему необходимую хронологическую ясность.
По приезде в Кишинев Пушкин сейчас же познакомился с Липранди. Приехав на место своей ссылки 21 сентября 1820 г., он уже 23 сентября встречается у М. Ф. Орлова с этим видным офицером его дивизии, с которым довольно быстро сближается. Липранди вспоминает их «приятные, веселые беседы» в первые же недели их знакомства.
Пушкин действительно становится вскоре его постоянным посетителем, слушателем его рассказов, читателем его библиотеки.
Тридцатилетний полковник, проделавший три кампании, естественно превращается в руководителя двадцатилетнего юноши, заброшенного в «чужие степи». Он способствует акклиматизации Пушкина в полувоенном кишиневском обществе и нередко выводит его из беды. Со своей обычной точностью и несомненной исторической правдивостью Липранди излагает несколько случаев, когда его вмешательство расстраивало поединки, в которых поэт с обычной беспечностью ставил по пустякам свою жизнь на карту[126].
Он заботился и о научном развитии Пушкина. В качестве дилетанта-ученого и отчасти литератора (впоследствии Липранди расценивали, и не без основания, как довольно заметного военного писателя) он правильно угадывает направление интересов молодого поэта. Он устраивает ему нечто вроде экскурсий по историческим местностям Новороссийского края. Служебная поездка в Аккерман и Измаил в 1820 г. представляет собою некоторую экспедицию на место ссылки Овидия, поездка в Бендеры в 1824 г. имеет целью осмотр мест, связанных с именами Карла XII и Мазепы. В попутных беседах штабной полковник развертывает свою обширную эрудицию по географии, истории и этнографии страны, излагая ряд специальных сведений, столь драгоценных для его слушателя-поэта. В Бендеры он даже привозит в своих чемоданах научную литературу о войне со шведами, старинные путешествия, военные карты, планы лагерей и крепостей, изобретения исторических деятелей. Все это отлагается в творческой памяти его гениального слушателя, и через несколько лет в эпилоге «Полтавы» еще звучат явственные отголоски этих бендерских бесед, осмотров и прогулок.
Все это внушало Пушкину несомненное уважение к Липранди. В бумагах поэта сохранился хвалебный отзыв о кишиневском полковнике, «соединяющем ученость истинную с отличными достоинствами военного человека» (бумаги Пушкина, I, с. 279). В своих письмах к разным лицам он «дружески обнимает» Липранди, называет его своим «добрым приятелем», считает его среди нескольких лиц, «близких своему воспоминанию». В одном из одесских писем он даже сознается, что ему «брюхом хочется видеть Липранди».
Вот почему отзвуки автобиографического признания слышатся нам в заявлении автора «Выстрела» о Сильвио: «Он любил меня, по крайней мере, со мной одним оставлял обыкновенное свое резкое злоречие и говорил о разных предметах с простодушием и необыкновенною приятностью»[127].
Их личные отношения закончились в 1824 г. За две недели до выезда Пушкина из Одессы, т. е. в июле 1824 г., Липранди виделся с ним в последний раз. «Два-три письма в нескольких строчках, из коих последнее было из Орла, когда он ехал на Кавказ к Паскевичу, заключили наши сношения»[128].
Пушкин, впрочем, продолжает ласково упоминать Липранди в своих письмах. Не лишено интереса, что в последний раз он это делает через два месяца по окончании «Выстрела», в декабре 1830 г. («Выстрел» был написан 12–14 октября[129]).
X
Образ Липранди не мог не привлечь к себе художественного внимания Пушкина. Потомок испанских грандов, участник наполеоновских походов, независимый противник существующей власти, байронически сочувствующий поднявшейся европейской вольницы; при этом бесстрашный дуэлист, знаток экзотических стран юго-востока, стратег и историк, боевой офицер, избороздивший все военные пути Европы от Иденсальми до Бородина и Парижа, герой знаменитых сражений, отличенный уже на двадцатом году золотой шпагой, чтоб затем неожиданно выйти из полка за причастность к тайному политическому обществу, человек загадочных контрастов – роскоши и нужды, кутежей и пасмурных раздумий, кровавых подвигов и сосредоточенной мысли; хладнокровный мастер пистолета, участвующий во всех поединках, и при этом владелец редкостного военно-исторического книгохранилища, – все это, вместе взятое, сплеталось в интригующий и привлекательный образ, столь благодарный для разработки романтическим поэтом. Подполковник 16-й пехотной дивизии Иван Петрович Липранди не мог не поразить фантазии двадцатилетнего автора «Кавказского пленника». И он действительно оставил свой след в творческой памяти поэта.
Не подозревавший о художественном преображении кишиневского штаб-офицера в беллетристике Пушкина, их общий приятель Горчаков совершенно правильно свидетельствовал впоследствии, что Липранди «своей особенностью не мог не привлекать Пушкина: в приемах, действиях, рассказах и образе жизни подполковника много было чего-то поэтического, не говоря уже о его способностях, остроте ума и сведениях»[130].
Пушкин, мы знаем, питал жадный интерес к таким фигурам привлекательных авантюристов и отважных чудаков. Якубович, тоже отважный воин, мрачный герой, бреттер и участник тайных обществ, долго был героем его воображения. Толстой-американец, получивший от Грибоедова прозвание ночного разбойника и дуэлиста, привлекал внимание Пушкина и, как известно, послужил ему моделью для секунданта Ленского. Мог ли он пройти равнодушно мимо кишиневского офицера, поражавшего своих однополчан не только остротой ума и обширностью познаний, но еще более оригинальностью своего быта, глухою и соблазнительною славою загадочного политического заговорщика?
Липранди действительно выступил перед поэтом «героем таинственной какой-то повести», и именно таким впоследствии вступил в его собственное творчество.
* * *
Все это могло бы вызвать в нас некоторую тревогу. Зная позорную изнанку жизни и деятельности Липранди, мы, естественно, могли бы пожалеть об эстетической канонизации этого отталкивающего персонажа под оживляющим пером Пушкина.
Но в плане своих личных отношений и творческих восприятий поэт не ошибся. У мрачного провокатора, случайно вступившего в его биографию, была одна искупительная черта. Этот холодный сыщик, поставивший под расстрел Достоевского, искренно любил Пушкина. Мы уже видели, что история их близости непререкаемо свидетельствует о глубоком внимании и нежной опеке старшего друга над его юным сотоварищем, которого он приобщает к своему житейскому опыту и научной культуре, не переставая оберегать повышенное самолюбие, обостренное чувство чести, духовные интересы и даже нередко жизнь Пушкина.
Друзья поэта высоко оценили эти отношения. Баронесса Вревская (в девичестве Евпраксия Вульф), горячо преданная памяти своего тригорского поклонника, в 1839 г. в доме Сергея Львовича много беседовала с постаревшим уже Иваном Петровичем об их покойном общем друге и вынесла из этого разговора впечатление, что Липранди «восторженно любил Пушкина» («il l’a aimé avec enthousiasme»).
Поэт, мы знаем, не остался в долгу. Он запомнил образ своего кишиневского приятеля и по-своему обессмертил его. Он пронес сквозь свои литературные и жизненные скитальчества воспоминание об одном необычайном офицере орловской дивизии и во всей свежести яркого художественного восприятия сохранил его в своей поэтической памяти.
И вот однажды, в золотую болдинскую осень, среди пышного творческого празднества, между «Моцартом и Сальери» и эпилогом «Онегина», поэт вспомнил увлекательный рассказ спутника своих южных кочевий. Бреттерский анекдот развернулся в драгоценную новеллу, а самый рассказчик его превратился в главного героя этой короткой и трагической повести.
Нам остается вглядеться в художественные принципы Пушкина при этой зарисовке эпохи и портретировании современников.
XI
Мы видели, что художественный метод Пушкина в изображении Сильвио сводится прежде всего к точной фиксации реальных черт его модели. Фантастический стиль образа нисколько не нарушает общего тона достоверной мемуарной записи, господствующей в характеристике героя. Если Липранди сохранил для нас образ Пушкина в своих дневниках и воспоминаниях, поэт запечатлел таинственного полковника в плане своей художественной прозы – в романтической повести, восходящей к подлинной житейской практике этого бесстрашного дуэлиста.
Поэт выполнил свое задание с изумительной близостью к непосредственным свидетельствам жизни и показаниям исторической действительности. Он сумел во весь рост зарисовать своего героя, схватив в своем портрете все выдающиеся черты его своеобразного облика.
Это тем удивительнее, что новелла о Липранди выдержана в излюбленном Пушкиным жанре короткого и стремительного рассказа.
Основной принцип пушкинской прозы – «narré rapide» – нигде не изменяет ему в «Выстреле». Лаконизм характеристик, сжатость изложения, сюжетная сосредоточенность рассказа могут считаться здесь образцовыми. Приходится поистине удивляться, как при соблюдении этих неумолимых условий быстрого повествования автору удалось вобрать в него такое обилие подлинных черт, запечатлеть столько характерных линий своей модели, наконец, с такой непререкаемой достоверностью наметить в герое этого необыкновенного приключения подлинную биографию исторического лица. Зоркость наблюдения и точность моментальной зарисовки здесь одинаково поражают. В одной фразе Пушкину удается выразить целый жизненный этап или основное свойство характера Липранди, т. е. те черты и факты, на изображение которых Вигелю, Волконскому или другим мемуаристам потребуются впоследствии обстоятельные и детальные описания.
«Быстрый карандаш» Пушкина уверенно и мастерски, в нескольких штрихах, с максимальной выразительностью зачеркивает поразивший его необычайный профиль современника.
Нельзя не удивляться и силе художественной памяти Пушкина. От Кишинева и Одессы до Болдина прошло шесть-семь лет, от первых встреч с Липранди – целое десятилетие. Где только ни побывал Пушкин за эти годы и кого он ни перевидал на своем пути! Какие крупные исторические события, личные впечатления и творческие раздумия пронеслись за это время в его сознании… А между тем точность его зарисовки равносильна записи дневника, непосредственно занесенной после встречи и беседы. Свежесть его впечатления, отчетливость его воспоминания, характерная острота и выпуклость однажды схваченного образа ни в чем не потускнели и не сгладились. Художественная память Пушкина поистине может поспорить в достоверности с официальными документами или историческими свидетельствами эпохи, тем более что точная фактичность показаний здесь как бы усилена и углублена ясновидением творческого сознания.
Это относится в равной степени и к живописи исторического фона. Так же, как сложная личность Липранди схвачена целиком в гениальных ракурсах пушкинского портрета, так и вся эпоха этих походов и заговоров сосредоточена в коротеньком очерке Белкина.
Неподражаемый темп рассказа заслоняет от нас его временную длительность и как бы скрадывает глубину исторического фона. А между тем эта маленькая повесть захватывает период не менее, чем в пятнадцать лет. Вспомним, что от пощечины, полученной Сильвио, проходит шесть лет до его второго поединка; пять лет истекают от этого момента до рассказа графа; только спустя некоторое время автор узнает о смерти Сильвио под Скулянами, т. е. в 1821 г. К этому следует еще присоединить некоторый срок гусарской службы Сильвио до пощечины и даже до вступления в полк графа Б. Таким образом, общий срок рассказа захватывает примерно период от 1806–1808 до 1822 г. Повесть начинается в эпоху, когда гусарские полки действительно взрывали копытами дороги Царства Польского, и заканчивается в момент, когда офицеры русской службы шли командовать отрядами гетеристов.
Какой широкий отрезок времени, а главное – какой насыщенный событиями период! Ведь именно о нем вспоминал Пушкин:
Металися сметенные народы.
И высились и падали цари…
Таким образом, исходя из живописной фигуры одного офицера, Пушкин дал нам малую повесть, которая представляется на первый взгляд авантюрной новеллой, но по существу уже предвещает исторический роман. Если расшифровать здесь все знаки, если взойти по всем разбросанным намекам, если развернуть тесно сомкнутое кольцо сюжета и пристально вглядеться в раскрывающиеся за ним перспективы истории и жизни, – этот полковой эпизод широко распахнет перед нами окна в бурную и героическую эпоху своего возникновения. Художник беспрерывно ощущал ее в момент создания «Выстрела» и зорко хранил в своем кругозоре обширный цикл исторических событий и образов, еле зачерченных им в скупых и лаконических чертах. Стиль «Выстрела» – это максимальная концентрация художественного письма, вбирающего в себя огромные фрагменты истории и быта. Эти беглые фразы не перестают сигнализировать нам своими мгновенными знаками о каких-то больших и катастрофических событиях. Перед нами в двух коротеньких главках развертывается целая хроника эпохи с ее балами и дуэлями, жизнью армейской дивизии и буйным бытом гусарского полка, шампанским, пуншем и картами, либеральными офицерами, прекрасными польками и графинями-амазонками, и в довершение этого вихревого развертывания целого царствования, перед нами проносятся исторические профили Александра Ипсиланти и «славного Бурцева, воспетого Денисом Давыдовым». Это, в сущности, – целая эпопея, сжатая в один офицерский анекдот, это, в известном смысле, – «Война и мир» на четырех страницах. Ибо весь героический период александровской эпохи, с ее отгулами знаменитых сражений и первыми грозовыми предвестниками декабризма, здесь раскрыт в такой моментальной вспышке и запечатлен с такой ударностью, быстротой, уверенной силой и ослепительной яркостью, что повесть поистине имеет право называться «Выстрел».
1926
Культура писем в эпоху Пушкина[131]

Письмо Татьяны предо мною,
Его я свято берегу,
Читаю с тайною тоскою
И начитаться не могу.
«Евгений Онегин», III, XXI.
Переписка Пушкина с его современниками поднимает ряд живых исторических вопросов и возбуждает несколько значительных тем по его биографии и поэтике. Словесная культура письма в онегинскую эпоху, высокое мастерство поэта в эпистолярном жанре, общий характер романических нравов той поры, галерея женских портретов, развернутая над интимным архивом Пушкина и раскрывающая нам забытую жизнь салонов, редакций или усадебных парков – все это возникает из палевых листков старомодной почтовой бумаги, исписанной тонким женским почерком 20-х годов.
Раскроем же эту старинную шкатулку. Развернем желтеющие пачки дружеских, шутливых, влюбленных, подчас деловых и почти всегда нежных писем женщин к Пушкину. Они помогут нам воспринять время поэта в том неуловимом, интимном, характерном и человечески-волнующем, что остается обычно за пределами строгой истории.
I
Пушкин высоко ценил своих читательниц и почитательниц. Его многочисленные мадригалы, послания и посвящения – часто только ответная дань признательности за сердечные исповеди и восхищенное поклонение. «Теперь я понимаю, – пишет героиня его „Романа в письмах“, – почему Вяземский и Пушкин так любят уездных барышень: они их истинная публика…» Но к той же категории относились и великосветские дамы, и руководительницы поэтических кружков, и стареющие помещицы, и смиренные писательницы 30-х годов.
Некоторые из них оставили в своих письмах к Пушкину отрывочный, но ценный материал для характеристики сердечных и литературных связей эпохи, личности Пушкина, культурных запросов его времени и духовного уровня русских женщин той поры.
Пушкин в окруженьи этих поклонниц и читательниц освещается с различных сторон как собеседник и писатель. Пачка женских писем, адресованных к нему, раскрывает все разнообразие впечатлений от поэта в пестром кругу его современниц.
Дружеская шутка Вяземской; блистательная похвала Зинаиды Волконской; девичья влюбленность Анны Вульф; заботливая нежность Осиповой; веселая фривольность Керн; самоотверженная страсть Элизы Хитрово; светская вежливость Смирновой; наконец, глубокое благоговение писательниц Дуровой, Фукс, Ишимовой – сквозь все эти разнообразные восприятия и сердечные склонности отчетливее проступает перед нами вечно неуловимый образ Пушкина.
Эти листки старинной переписки – лучшие свидетельства для оценки любовных нравов эпохи. Наследие европейской эротики XVIII века заметно сказывалось в интимном быту русского культурного слоя 20-х годов. Знаток и ценитель этих традиций «галантного века», Пушкин заметно окрашивал романтические идиллии свои современниц в тона «Опасных связей» Лакло. «Чувство – только дополнение к темпераменту», – говорил он полюбившей его девушке, которая из общения с ним выносит впечатление, что он «опасный человек», не стоящий искреннего увлечения. Переписка Пушкина действительно утверждает, что женщина рано получила для него значение только праздничного возбудителя жизнеощущений в духе старинных сенсуалистов Италии и Франции. На каждом шагу здесь вспоминается свидетельство юного Павла Вяземского о своеобразных уроках Пушкина, убеждавшего его «в важном значении для мужчины способности приковывать внимание женщин». «Он учил меня, что в этом деле не следует останавливаться на первом шагу, а идти вперед, нагло, без оглядки, чтобы заставить женщин уважать вас… Он постоянно давал мне наставления об обращении с женщинами, приправляя свои нравоучения циническими цитатами из Шамфора…»
Отсюда ряд драматических столкновений в пушкинском окружении. Знаменитый поэт, увлекательный собеседник, облеченный громкой литературной славой и опасной репутацией Дон Жуана, он, видимо, производил на женщин – особенно в последнее десятилетие своей жизни – совершенно неотразимое впечатление. Некоторые строки из писем к нему Анны Вульф, П. А. Осиповой или Е. М. Хитрово свидетельствуют об их глубоком и трогательном чувстве, готовом все понять и все простить. Но сам поэт относился обычно довольно легко к этим проявлениям сердечной привязанности.
Автор «Гаврилиады» мало ценил в жизни «возвышенные чувства», принимая их, видимо, только в творческом плане. Художественный корректив, во многом видоизменявший непосредственную натуру Пушкина, вносил некоторое разнообразие и в основной тон его отношений к женщине. Элегия восполняла подчас глубокими нотами мечты и печали чувственную доминанту его жизнеощущения. Но изменить этот основной «тонос» она все же не могла.
Любовь как проникновение в духовный облик другого существа, глубоко сочувственное овладение этим сложным миром, полное слияние с ним и радость общего бытия в единстве внутренних переживаний – такое чувство было чуждо Пушкину. Любви в этом смысле он, вероятно, никогда не знал. Единственное, кажется, чистое и глубокое поклонение, проходящее через его жизнь и доныне неразгаданное, во всяком случае не было разделено и осталось в плане художественных вдохновений. Обычно он испытывал лишь страсть и ревность, но оба эти состояния переживал необычайно интенсивно и бурно. Если в лирике он поднимался до высоких и чистых поклонений «вечно женственному», в своей романической практике он был далек от культа Прекрасной Дамы, от любовной метафизики средневековья или романтизма. Скорее нечто от эпохи Ренессанса и XVIII века отразилось на его личных романах. Не Данте и не Новалис, но Аретино и Вольтер. В личности Пушкина не было ничего от рыцаря Тогенбурга и было очень много от Казановы.
Равнодушие и безразличие к духовному миру женщин определяют все его увлечения. Характерно свидетельство его брата Льва, что в разговорах с женщинами он никогда не касался вопросов поэзии и литературы. Любовь для него оставалась преимущественно сферой острых эротических переживаний и несколько отвлеченным материалом для великолепных лирических опытов, для бессмертных русских Amores. Но любви в простом человеческом смысле ему, по-видимому, никогда не пришлось испытать. Лирика чувства исключалась насмешливым скептицизмом. К Воронцовой он применяет циническую фразу о «восьми позах Гретино», – Керн для него «вавилонская блудница», Анна Вульф – смешная провинциалка, Элиза Хитрово – сладострастная Пентефриха.
В минуту откровенности он пишет этой глубоко сердечной женщине, которая тревожится за его здоровье, устраивает его судьбу, проявляет к нему поистине молитвенное благоговение:
«Я больше всего на свете боюсь порядочных женщин и возвышенных чувств. Да здравствуют гризетки – это и гораздо короче и гораздо удобнее…
Хотите ли вы, чтобы я говорил с вами откровенно? Быть может, я изящен и вполне порядочен в моих писаниях, но мое сердце совсем вульгарно, и все наклонности у меня вполне мещанские. Я пресытился интригами, чувствами, перепиской и т. д. и т. п. Я имею несчастие быть в связи с особой умной, болезненной и страстной, которая доводит меня до бешенства, хотя я и люблю ее всем сердцем. Этого более чем достаточно для моих забот и особенно для моего темперамента. Вас ведь не рассердит моя откровенность, не так ли?»
Рассердить Елизавету Михайловну, при ее беззаветной кротости, Пушкин не мог. Но мучительно ранить ее, «разорвать ей сердце» холодным или жестоким признанием, почти не замечая этого, – на это он шел бездумно и почти что безотчетно.
Переписка Пушкина показывает, что таким он обычно и был почти во всех своих романах. Взволнованные женские голоса, обращавшиеся к нему с признанием, хвалами и мольбами, почти никогда не встречали желанного отзвука. «Élégant dans ses écrits», он в любви несомненно проявлял свои «inclinations toutes tiers – état». Исследователь должен склониться перед обоими приговорами Пушкина и одинаково признать праздничный блеск его писаний и прозаическую будничность его любовных связей.
II
Так романтические нравы эпохи, зачерченные в замечательном памятнике эротической литературы – дневнике А. Н. Вульфа, приоткрываются и в переписке Пушкина с его современницами.
Высокоценные как исторический документ об интимном быте пушкинской поры, они представляют и значительный интерес со стороны литературной. Словесный памятник эпохи, когда письма господствовали в повседневном быту и ощущались их авторами как законченный жанр, они во многом вскрывают и определяют законы и правила этого вида.
Письма Пушкина и его корреспонденток это не просто признания и беседы, они почти всегда закономерно оформлены и подчинены установившимся композиционным приемам, предусмотренным кодексом эпистолярного стиля.
Характерно уже то, что в большинстве случаев они написаны на языке тогдашней культурной беседы – на французском. Особый литературный жанр – «почтовая проза» – еще не получил у нас в то время достаточного развития. Вот почему, когда Пушкин решил ввести в свой роман любовное письмо Татьяны, он стал перед трудной художественной проблемой:
Доныне дамская любовь
Не изъяснялася по-русски,
Доныне гордый наш язык
К почтовой прозе не привык…
Все условия художественного правдоподобия категорически предписывали ему дать здесь стихотворный французский текст. Мы знаем, что почти полвека спустя Лев Толстой отступил в этом случае перед трудностью отказа от иностранного языка и дал в «Войне и мире» письмо Жюли Карагиной (и диалоги великосветского общества) в безукоризненном французском оригинале.
Пушкин не скрывал трудностей передачи в русских стихах письма Татьяны, которая «по-русски плохо знала» и «выражалася с трудом на языке своем родном». И вот для своих читателей поэт дает «с живой картины список бледный», т. е. перелагает в онегинские строфы —
страстной девы
Иноплеменные слова.
Сохранилось свидетельство о том, что Пушкин действительно с трудом и после долгих колебаний разрешил эту словесную проблему. В «Московском телеграфе» 1827 г. сообщалось, со слов самого поэта, о его затруднениях при разрешении этого сложного стилистического опыта:
«Автор сказывал, что он долго не мог решиться, как заставить писать Татьяну, без нарушения женского единства и правдоподобия в слоге: от страха сбиться на академическую оду, думал он написать письмо прозою, думал даже написать его по-французски; но, наконец, счастливое вдохновенье пришло кстати, и сердце женское запросто и свободно заговорило русским языком, не задерживая и не остужая выражений чувства справками со словарем Татищева и грамматикою Меморского».
Таким образом русское письмо Татьяны оказалось смелым художественным приемом, решительно порывавшим с установившейся культурно-бытовой традицией. Мы знаем по переписке поэта, что она и лично была близка ему. Пушкин рано воспринял старинное наследье знаменитых французских «épistoliers». Есть свидетельства, что мать его писала свои письма «в безукоризненном стиле какой-нибудь Севинье». Семейные письма всех Пушкиных свидетельствуют об их общей причастности к классической культуре этого жанра.
Письма Пушкина во многом вскрывают основы его общего прозаического стиля. Здесь явственно обнаруживается его словесная близость к французскому XVIII веку с его поэтикой, идеологией, умственными уклонами и литературными вкусами. Острословье Вольтера и Бомарше, быстрая повествовательная манера Монтескье и Дидро, цинический скептицизм Кребильона. Ретифа, Парни и стольких других «малых поэтов» эпохи регентства и последних Людовиков, дух критической иронии, пристрастие к кощунству, уклоны к «веселому сладострастию», блеск, ясность, изящество и лаконичная меткость стиля – всем этим предшествующее столетие в лице его законодательной нации не переставало формировать литературную манеру Пушкина.
Это несомненно облегчило ему путь к законченной художественности его «почтовой прозы». Поэт использовал в своих письмах огромное количество литературных приемов. Анекдоты, каламбуры, исторические реченья, стихотворные цитаты и подчас целые поэтические фрагменты обильно расцвечивают здесь основной фон текущих сообщений. Письмо Пушкина часто приближается к жанру фельетона, сохраняя, впрочем, всегда специфические особенности эпистолярного стиля. Комическая реплика Арлекина, острый и неожиданный ответ Фонвизина, забавное возражение Артура Потоцкого, историческая фраза Мирабо о Сийесе, суждение Тиберия о Вибии Серене, восклицание Андре Шенье на эшафоте, возгласы Шамфора о жертвах его эпиграмм – все это цитируется среди личных признаний, придавая подчас почтовому сообщению характер живой и занимательной беседы.
«Ах, каламбур: скажи княгине, что она всю прелесть московскую за пояс заткнет, когда наденет мои поясы» (19 ноября 1826, Вяземскому).
«Жизнь жениха тридцатилетнего хуже „30 лет жизни игрока“» (Плетневу, 31 августа 1830).
«…Со злости духом прочел „Духов“. Calembour! reconnais tu le sang?» («Кюхельбекеру», 1825, дек.).
«Вот тебе мои бон-мо (ради соли вообрази, что это было сказано чувствительной девушке, лет 26). Qu’est ce que le sentiment? Un supplement du tempérament» (Кн. Вяземскому, 10 авг. 1825).
Во всем этом сказываются явственные отзвуки той французской словесной культуры, которая с такой отчетливостью внесла принципы своих изощренных бесед в теорию оформления писем.
Всеми этими приемами Пушкин владеет в совершенстве. В его почтовых обращениях к женщинам они развертываются подчас с особым блеском и силой.
Некоторые его письма к Керн – почти сплошная игра слов, веселая и легкая болтовня, врезанная повсеместно шутками, игривыми намеками и каламбурами. – «Я было принялся писать вам глупости, над которыми вы бы умерли со смеху», – определяет сам он эту манеру в одном из своих писем.