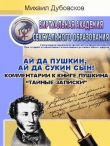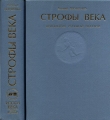Текст книги "Цех пера. Эссеистика"
Автор книги: Леонид Гроссман
Жанр:
Публицистика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 28 (всего у книги 34 страниц)
Но в биографии его имеются, к сожалению, и прикосновения иного рода к некоторым крупным литературным деятелям. Известно, что его имя выступает печальным и мрачным пятном в истории жизни Достоевского. Поступив в 40-х годах на службу в министерство внутренних дел по департаменту полиции, Липранди был главным создателем «дела петрашевцев». Ему принадлежит знаменитая докладная записка по этому «заговору», в которой он определяет кружок Петрашевского как «зловеликой важности». По именным спискам, составленным Липранди, десятки русских фурьеристов, в том числе и Достоевский, были приговорены к смертной казни расстрелянием, и лишь по соответственной конфирмации сосланы на каторгу. В ту же эпоху и в плане той же секретной полицейской службы Липранди имел отношение к аресту Огарева и заслужил от Герцена те резкие разоблачения, которые надолго придали звучной южно-романской фамилии этого официального разведчика весьма плачевный нарицательный характер.
Такова была старость Липранди. Но в начале 20-х годов, когда он встречался с Пушкиным, эти подпольные черты его натуры еще не были заметны окружающим. В то время его облик и характер должны были, напротив, привлечь внимание художника своими живописными контрастами. Личность его представляла несомненный интерес по своим дарованиям, судьбе и оригинальному образу жизни.
Липранди был мрачен и угрюм, но любил собирать у себя офицеров и широко угощать их. Источники его доходов были для всех покрыты тайной. Начетчик и книголюб, он славился бреттерством, и редкая дуэль проходила без его участия.
Уже в таком беглом очерке мы узнаем характерные черты Сильвио. Попытаемся более обстоятельно сопоставить исторические материалы о Липранди с художественными свидетельствами Пушкина. Это поможет нам выяснить любопытный вопрос о творческой системе поэта при портретировании его современников.
III
Припомним для этого, прежде всего, портрет Сильвио, зачерченный на первой странице «Выстрела».
«Один только человек принадлежал нашему обществу, не будучи военным. Ему было около тридцати пяти лет, и мы за то почитали его стариком. Опытность давала ему перед нами многие преимущества; к тому же его обыкновенная угрюмость, крутой нрав и злой язык имели сильное влияние на молодые наши умы. Какая-то таинственность окружала его судьбу; он казался русским, а носил иностранное имя. Некогда он служил в гусарах, и даже счастливо; никто не знал причины, побудившей его выйти в отставку и поселиться в бедном местечке, где жил он вместе и бедно и расточительно; ходил вечно пешком, в изношенном черном сюртуке, а держал открытый стол для всех офицеров нашего полка. Правда, обед его состоял из двух или трех блюд, изготовленных отставным солдатом, но шампанское лилось при том рекою. Никто не знал ни его состояния, ни его доходов, и никто не осмелился о том его спрашивать. У него водились книги, большею частью военные, да романы. Он охотно давал их читать, никогда не требуя их назад; зато никогда не возвращал хозяину книги, им занятой. Главное упражнение его состояло в стрельбе из пистолета. Стены его комнаты были все источены пулями, все в скважинах, как соты пчелиные. Богатое собрание пистолетов было единственной роскошью бедной мазанки, где он жил… Разговор между нами касался часто поединков; Сильвио (так назову его) никогда в него не вмешивался. На вопрос, случалось ли ему драться, отвечал он сухо, что случалось, но в подробности не входил, и видно было, что таковые вопросы ему были неприятны. Мы полагали, что на совести его лежала какая-нибудь несчастная жертва его ужасного искусства…»
Почти все черты этого портрета точно соответствуют живому оригиналу, очевидно, служившему Пушкину моделью для Сильвио. Общий облик и характерные подробности здесь одинаково совпадают. Нам необходимо проследить шаг за шагом историческую точность этого портрета, чтобы выяснить тесную связь пушкинской повести с одной забытой военной биографией.
* * *
Уже внешние детали характеристики Сильвио поддаются точному историческому комментарию.
«Он казался русским, а носил иностранное имя», – рассказывает Пушкин.
При своей европейской фамилии Липранди был вполне русским. У Вигеля читаем: «По фамильному имени надобно было почитать (его) итальянцем или греком, но он не имел понятия о языках сих народов, знал хорошо только русский и принадлежал к православному исповеданию».
На самом деле род его восходил к фамилиям испанских дворян «и, следовательно, – говорит один из мемуаристов, – в жилах его текла кровь, жаждавшая полей брани…»[116] Липранди действительно рано вступил на военную службу и в отечественную войну уже состоял офицером генерального штаба.
«Некогда он служил в гусарах, и даже счастливо», – читаем у Пушкина.
Липранди на военной службе (правда, по другому роду оружия) достиг значительных успехов. За Финляндскую войну он был отличен шестью боевыми наградами «с назначением в свиту его императорского величества». В 1809 г. он был награжден золотой шпагой. Во время заграничного похода он отличился при взятии крепости Ротенбург и даже был отмечен в реляции главнокомандующего как «искусный и храбрый офицер». Неудивительно, что в эпоху наполеоновских походов он занимал во Франции ответственные и важные посты. Мы видим, что Липранди, как и Сильвио, несомненно проходил военную службу «счастливо».
Но по возвращении в Россию Липранди пережил служебную катастрофу. Она отмечена у Пушкина:
«…никто не знал причины, побудившей его выйти в отставку и поселиться в бедном местечке…» – говорится о Сильвио.
Это – точное отражение целого этапа биографии Липранди как раз в период его первого знакомства с Пушкиным. В ноябре 1822 г. Липранди должен был выйти в отставку.
Когда Вигель в 1823 г. приезжает в Кишинев, он встречает своего блестящего парижского знакомого Липранди, «который находился тут в отставке и в бедности». Оказывается, «вскоре по возвращении в Россию из генерального штаба был он переведен в линейный егерский полк и, наконец, принужден был оставить службу…» Тайну этой отставки Вигель не раскрывает нам. Мы остановимся на ней ниже.
Возраст Сильвио не случаен у Пушкина. Герою «Выстрела» «около тридцати пяти лет». Липранди родился 17 июля 1790 г. Стало быть, в эпоху его знакомства с Пушкиным (1820–1824 гг.) ему 30–34 года.
Сильвио мрачен. Пушкин отмечает его «обыкновенную угрюмость» и выдерживает весь портрет его в рембрандтовских тонах.
Вигель пишет о Липранди: «Он всегда был мрачен, и в мутных глазах его никогда не блистала радость…» «Многим казался он страшен…» При встрече их в 1825 г. «лицо его, всегда довольно мрачное, показалось еще мрачнее…»
Но при этом Сильвио любит широко угощать. Он «держал открытый стол для всех офицеров нашего полка. Правда, обед его состоял из двух или трех блюд, изготовленных отставным солдатом, но шампанское лилось при том рекою…»
«Вечно бы ему пировать, – сообщает о Липранди его близкий знакомый и антагонист Вигель. – В нем было бедуинское гостеприимство… Я всегда находил у него изобильный завтрак или пышный обед… На столе стояли горы огромных персиков, душистых груш и дорогого винограда…»
Об офицерских приемах у себя в Кишиневе рассказывает сам Липранди: «Три-четыре вечера, а иногда и более, проводил я дома». Своими постоянными посетителями Липранди называет несколько офицеров кишиневского гарнизона и генерального штаба, а из штатских одного Пушкина, который, «впрочем, редко оставался до конца вечера…»
У Сильвио, как известно, идет крупная игра в банк, хотя сам он обычно воздерживается от игры. Липранди уверяет в своих «Воспоминаниях», что сам он в карты не играл, но, по свидетельствам мемуаристов, на сборищах у него шла азартная игра.
«Чаще всего, – рассказывает Вельтман, – я видал Пушкина у Липранди, человека вполне оригинального по острому уму и жизни. К нему собиралась вся военная молодежь, в кругу которой жил более Пушкин. Живая веселая беседа, écarté и иногда, pour varier, „направо и налево“, чтоб сквитать выигрыш. Иногда забавы были ученого рода».
Таков был общий облик одного из штаб-офицеров кишиневской дивизии, довольно отчетливо зачерченный в пушкинской повести.
IV
Но и духовная природа Сильвио явственно отражает черты Липранди. Пушкин неоднократно отмечает в своем рассказе большой ум и опытность Сильвио. Это – обычное впечатление, производимое Липранди на современников. Все знавшие его говорят о его тонком и остром уме. «Энциклопедически образованный, – определяет его в своих воспоминаниях И. А. Арсеньев, – замечательный лингвист, обладавший редкой способностью быстро понимать и соображать в известный момент силу обстоятельств и их последствий…» Неудивительно, что этот культурный военный обладал в Кишиневе интересным собранием научных книг.
Пушкин не забывает отметить в «Выстреле» библиотеку Сильвио: «у него водились книги, большею частью военные, да романы. Он охотно давал их читать, никогда не требуя их назад…»
У Липранди действительно была библиотека, составленная в значительной своей части из военных книг. Владелец ее сообщал впоследствии, что он начал собирать ее уже с 1820 года. Здесь, в частности, находились топографические карты и богатый отдел сочинений о Турции. С 1830 г., по словам Липранди, его библиотека была известна европейским ученым общества, а «в 1856 г. она, по высочайшему повелению, куплена была для библиотеки генерального штаба[117]. Таким образом, в эпоху пребывания Пушкина в Кишиневе, Липранди собирал это замечательное собрание, хорошо знакомое поэту».
В своих «Записках» Липранди сообщает, что Пушкин интересовался многими сочинениями из его библиотеки: он называет Овидия, Валерия Флакка, Страбона, Мальтебрюна, труды по истории и географии. По каталогу Липранди значится, что одна книга так и осталась за Пушкиным. Вспомним в «Выстреле» замечание о книгах Сильвио: «он охотно давал их читать, никогда не требуя их назад».
Материальное положение Сильвио «в бедном местечке», где он жил, очерчено, как и весь его образ, контрастными чертами: смесь роскоши и нужды – вот формула его жизни.
«…Жил он вместе и бедно и расточительно: ходил вечно пешком, в изношенном черном сюртуке, а держал открытый стол для всех офицеров нашего полка…»
Эта своеобразная черта Сильвио, – смесь бедности и расточительности, – оказывается также характерной для его прототипа. Кишиневский приятель Пушкина В. П. Горчаков рассказывает, что «Липранди поражал нас то изысканною роскошью, то вдруг каким-то презреньем к самым необходимым потребностям жизни, – словом, он как-то умел соединять прихотливую роскошь с недостатками. Последнее было слишком знакомо Пушкину»[118].
При этом подчеркивается таинственность его денежных ресурсов: «никто не знал ни его состояния, ни его доходов, и никто не осмеливался о том его спрашивать».
Полное соответствие этому находим в биографии Липранди. Загадочность его для многих заключалась в скрытых и непонятных источниках его широких средств. Вигель рассказывает, что довольно часто встречал в Париже одного, «не весьма обыкновенного человека: у него ровно ничего не было, а житью его иной достаточный человек мог бы позавидовать». «Карты объясняют расточительность иных бедных людей», но он не был игроком: «целый век умел он скрывать от глаз человеческих тайник, из коего черпал средства к постоянному поддержанию своей роскоши». Таков был жизненный режим Липранди в Париже.
В России его военная карьера пошатнулась, и он был вынужден выйти в отставку. «Не зная, куда деваться, – сообщает далее Вигель, – он остался в Кишиневе, где положение его очень походило на совершенную нищету». Но с назначением на юг Воронцова, под начальством которого Липранди служил во Франции, последний воспрянул духом. Он явился к своему прежнему начальнику, разжалобил его, добился денежной помощи, деловых поручений и назначений. «Тогда на разъезды из казенной экспедиции начали отпускать ему суммы, в употреблении коих ему очень трудно было давать отчеты… Вдруг откуда что взялось: в не весьма красивых и не весьма опрятных комнатах карточные столы[119], обильный и роскошный обед для всех знакомых и пуды турецкого табаку для их забавы. Совершенно бедуинское гостеприимство…»
В Кишиневе, таким образом, возродился парижский образ жизни и на этот раз, видимо, установился надолго. В октябре 1826 г. бессарабский знакомый Пушкина, Н. С. Алексеев, сообщает ему: «Липранди… живет по-прежнему здесь довольно открыто и, как другой Калиостро, Бог знает, откуда берет деньги…»
Таков общий голос удивленных современников об интригующем и непонятном источнике благосостояния Липранди.
V
Но тайна эта, неразрешимая для многих в пушкинскую эпоху, стала общим достоянием в середине столетия.
Липранди служил в тайной полиции. Еще вовремя оккупации Франции иностранными войсками он заведовал русской тайной полицией за границей. По его собственному свидетельству, дело было так. В 1816 г. образовалось во Франции злонамеренное общество «Des Epingles» (булавок). Французское министерство сообщило об этом начальникам союзных корпусов, и Воронцов возложил соответственное поручение на Липранди, который вошел в сношения с жандармскими офицерами, секретарем министра полиции в Париже и, наконец, со знаменитым сыщиком Видоком.
О том же говорит в своих воспоминаниях Вигель, описывая «лукулловские трапезы» Липранди в Париже. «И кого угощал он? Людей с такими подозрительными рожами, что совестно и страшно было вступать в разговоры». Это были парижские сыщики и агенты тайной полиции, вербуемые из подонков уголовного мира. Здесь, у Липранди, Вигель познакомился с знаменитым «главою парижских шпионов» Видоком, который «за великие преступления был осужден, несколько лет был гребцом на галерах и носит клеймо на спине…»
Вигель удивляется этому пристрастию Липранди к каторжным, высказывая предположение, что эта среда постоянно служила удовлетворению любопытства Липранди: «через них знает он всю подноготную, все таинства Парижа…» Отметим, что Вигель не догадывался о служебном характере этого «любопытства» Липранди.
Он считал его, впрочем, наиболее осведомленным источником тайной политической информации. Назначенный в 1823 г. членом верховного совета Бессарабии и имея от Блудова и Воронцова поручение сообщить им о состоянии края и «о всем любопытном, в нем происходящем», Вигель обращается к Липранди как к главному источнику соответственных сведений о Кишиневе и его обитателях.
Роль этого секретного информатора в те годы не вполне выяснена. Б. Л. Модзалевский считал, что Липранди состоял в Кишиневе «правительственным тайным агентом» («Пушкин и его современники», IV, с. 177). Другие исследователи полагают, что в Кишиневе Липранди не занимался тайным шпионажем («Пушкин»: Статьи и материалы, вып. III, с. 63). Нужно думать, что прав был Вигель, утверждавший, что Липранди «одною ногою стоял на ультрамонархическом, а другою на ультрасвободном грунте, всегда готовый к услугам победителей той или другой стороны». Это особенно сказалось в его кишиневский период, совпавший с усиленным освободительным движением в Европе.
Двойственная игра политического авантюриста развернулась в атмосфере этого революционного оживления особенно широко, и вольнолюбивый член тайного общества, пострадавший за убеждения, неожиданно стал поражать окружающих подозрительной и непонятной роскошью своего повседневного быта.
Мы знаем, что расцвет полицейской деятельности этого военного сыщика сказался значительно позже, когда он с большим умением и полным успехом организовал сложную провокацию, погубившую Петрашевского и членов его кружка.
Но нужно думать, что и в 20-е годы таинственность, окружавшая Липранди, его облик заговорщика и черты необъяснимой щедрости находят себе объяснение в секретных канцеляриях императорских штабов и министерств.
VI
Но «Выстрел» – прежде всего, повесть об одной необыкновенной дуэли. Это оригинально построенный рассказ о поединке с хронологически разобщенными выстрелами в последовательном изложении обоих дуэлянтов, из которых каждый сообщает третьему лицу о пистолетном огне своего противника.
Сильвио, прежде всего, – бреттер. Он сам говорит о себе: «Дуэли в нашем полку случались поминутно: я на всех был или свидетелем, или действующим лицом». Окружающие полагают, что «на совести его лежала какая-нибудь несчастная жертва его ужасного искусства».
Фабула «Выстрела» сводится, в основном, к рассказу Сильвио об одной своей необычайной дуэли.
Обратимся к Липранди.
Вигель рассказывает о нем: «Ко всем распрям между военными он был примешан, являясь будто примирителем, более возбуждал ссорящихся и потом предлагал себя секундантом. Многим оттого казался он страшен».
Бартенев отмечает, что Пушкин дорожил мнением И. П. Липранди в дуэльных вопросах и принимал в таких случаях его советы и распорядительство.
Сам Липранди подробно рассказал нам о повышенном интересе Пушкина к поединкам.
«Дуэль К-ва с Мордвиновым очень занимала его; в продолжение многих дней он ни о чем другом не говорил, выпытывая мнения других, на чьей стороне более чести, кто оказал более самоотвержения… и т. п.»
«Дуэли особенно занимали Пушкина. В Киеве или во время поездки его к Раевским он слышал о славном поединке Реада с поляком в Житомире и восхищался частностями оного…»
«Будучи еще в Петербурге, он услышал о двух из моих столкновений, из коих одно в декабре 1818 года, по выходе корпуса Воронцова из Франции…»
«Но о другом в 1810 году, в Або, с шведским гвардейским поручиком бароном Бломом, вызванным мною через абовские газеты, на что противник мой отвечал в стокгольмских газетах, с назначением для прибытия его в Або для встречи со мной, Александр Сергеевич знал, но неудовлетворительно, а потому неотступно желал узнать малейшие подробности как повода и столкновения, так душевного моего настроения и взгляда властей, допустивших это столкновение.
…Чтоб удовлетворить его настоянию, я должен был показать ему письма, газеты и подробное описание в дневнике моем, но и этого было для него недостаточно: расспросы сыпались».
Липранди вообще мог обильно питать этот жадный интерес поэта к знаменитым поединкам. В записках, мемуарах или исторических трудах этого военного деятеля мы находим бесчисленные упоминания и рассказы о замечательных встречах. Дуэль в Париже майора Бартенева с тремя французскими офицерами, столкновение его с генералом Алферьевым, поединок между дивизионным врачом Маркусом и драгунским капитаном в городе Тетеле, дуэль в Нантеле между бригадным командиром П. И. Каблуковым и подполковником Д. Н. Мордвиновым, трагическое столкновение подполковника Мерлиния с полковником Петрулиным в г. Вилькомире и т. д. и т. д. – таков бесконечный реестр поединков, занесенный в записи Липранди. Здесь изложены самые разнообразные случаи: дуэли на пистолетах и на саблях, с одним заряженным, а другим холостым оружием, при многочисленных свидетелях и совсем без секундантов, со смертельным или благополучным исходом. Пользуясь рассказами Липранди, Пушкин мог бы написать обширную и занимательную книгу о дуэлях наподобие старинного сборника Брантома «Duels célèbres», увлекательно повествующего о необычайных единоборствах французских вельмож и итальянских дворян.
Но Пушкин поступил иначе. Из неисчерпаемого источника бреттерских воспоминаний Липранди он выбрал один только эпизод, видимо, наиболее трагический и волнующий, чтоб разобрать его в своем излюбленном жанре «быстрой повести с романтическими переходами».
VII
Пушкин сам прозрачными инициалами отметил живой источник своей повести. В списке лиц, сообщавших Белкину сюжеты для его сказочек, имеется и такая помета:
«Выстрел» (рассказан Белкину) подполковником И. П. Л.[120]
Здесь любопытна не только точность в воспроизведении инициалов Ивана Петровича Липранди, но и полное соответствие указанного чина его рангу. «В начале пребывания Пушкина (в Кишиневе) я был подполковником, а потом полковником…», – сообщает в своих воспоминаниях И. П. Липранди.
В пушкинской литературе этот источник «Выстрела» был издавна указан. Еще в 1866 г. Бартенев категорически сообщал, что повесть «Выстрел» «слышана Пушкиным от Липранди». Прочитав это в «Русском архиве» и отвечая на статью Бартенева, престарелый Липранди не опроверг этого указания, но, правда, и не подтвердил его. «Не помню этого рассказа и желал бы знать источник». Ответа в печати не последовало, но у нас есть все основания предполагать, что Бартенев слышал это от офицера генерального штаба В. П. Горчакова, сообщавшего ему ценные устные материалы для его исследования.
Этот именно очевидец бессарабской жизни Пушкина сообщал впоследствии в печати, что поэт, много и часто беседовавший с Липранди, «от него слышал рассказ „Выстрел“»[121].
Нам остается разрешить вопрос, действительно ли в практике Липранди был дуэльный случай, рассказанный в «Выстреле»?
Но, к сожалению, дать здесь окончательный ответ пока затруднительно. Нам известно только, что у Липранди был один знаменитый поединок, о котором много писали в заграничной печати. Им-то особенно и интересовался Пушкин, требуя от Липранди обстоятельных рассказов, дневников и газет. Все, что мы знаем об этой дуэли, сводится к следующему.
В 1810 г. Липранди, считавший себя, видимо, оскорбленным, поместил в газетах Або картель шведскому поручику гвардии барону Блому, который через стокгольмские газеты принял вызов и назначил день встречи в Або. В старинных «Записках артиллериста» И. Радожицкого даются вскользь некоторые дополнительные сведения об этой дуэли. Радожицкий познакомился с Липранди в 1814 г. в Варшаве и был очарован оригинальностью, начитанностью и любезностью молодого офицера.
«Но пылкость характера, – продолжает мемуарист, – заводила его часто в безрассудства. Бывши в Або, он вызвал на дуэль одного из врагов своих через газеты; два месяца учился колоться; наконец встретился с противником и дал ему смертельный штос».
Последнее указание неверно. Липранди в своих воспоминаниях сообщает, что его противник барон Блом в 1862 г. жил полковником в отставке за ранами в Никопинге. Отметим, что он принадлежал к старинной и знатной шведской фамилии. По сообщению Липранди, родословная Бломов напечатана в книге о войне России со Швецией в 1809 г. Известно, что один из представителей этой фамилии был долголетним послом в Петербурге и встречался в 30-х годах с Пушкиным.
Вот пока все немногие сведения об этой дуэли Липранди. Аналогий с поединком Сильвио немного, но они все же есть. В обоих случаях к барьеру вызывается молодой поручик знатного рода (у Пушкина – граф). Липранди, как Сильвио в повести, особо и длительно готовится к этой дуэли, обучаясь безошибочному удару. Наконец, в обоих случаях необычайный поединок не имеет смертельного исхода.
Не будем настаивать на дальнейшей тождественности этих двух дуэлей и ограничимся бесспорным сведением о том, что «Выстрел» рассказан Пушкину Липранди. Позволительно думать, что нечто подобное происходило в его личной бреттерской практике, но это, во всяком случае, не существенно. В отношении Пушкина всякая проблема заостряется в сторону своей литературной природы, – таков и данный случай. Нам важно запомнить, что в Кишиневе Пушкин широко применяет систему собирания творческих материалов в беседах. Он документируется для творчества у многих лиц.
Офицер В. П. Горчаков рассказывал ему о сражении под Скулянами, чиновник М. И. Лекс – о гайдуке Кирджали, гетеристы Каранья, Дука и Пендадеки – всевозможные молдавские предания. Многое из этих рассказов вошло в его творчество. Но, конечно, самым ценным для него из всей этой устной литературы оказался рассказ Липранди об одном экстравагантном бое двух офицеров. Дуэль всегда привлекала Пушкина и не только как акт молодечества, но и как заманчивый литературный факт. Он глубоко ощущал благодарный композиционный материал этой темы, ее высокую сюжетную насыщенность, ее способности туго напрягать действие рассказов и резко выявлять все изломы главных характеров. Мы знаем, как разнообразно он разработал этот мотив в двух своих больших романах – в «Онегине» и «Капитанской дочке». И для нас не безразлично, что в этом направлении воздействие на его творчество незаметно шло от его кишиневского собеседника. Мы знаем, что Пушкин жадно слушал его бесчисленные рассказы об оскорблениях, вызовах, секундантах, барьерах, выстрелах и всевозможных чудесах фехтования и прицела. Все это незаметно отлагалось в его творческом сознании отважными образами, героическими эпизодами, кровавыми сценами и той головокружительной поэзией опасности и смертельной игры, которая всегда была дорога Пушкину. Недаром он так жадно вбирал в себя эти полковые истории и походные предания об удальстве, молодечестве и риске, предоставляя им свободно бродить в своем воображении или отлагаться в своей памяти. Через несколько лет мировая литература обогатилась маленьким шедевром о дуэли – повестью «Выстрел».
VIII
Обратимся к исторической концовке «Выстрела», несколько неожиданно завершающей повесть о зловещем бреттере.
«Сказывают, что Сильвио во время возмущения Александра Ипсиланти предводительствовал отрядом этеристов и был убит в сражении под Скулянами».
Пушкин придает своему герою ореол борца за вольность, возводит его в сан политических вождей, причисляет его к горсти отважных представителей европейского свободолюбия. Сильвио погибает смертью Байрона – в активной борьбе за освобождение Греции. Более высокой канонизации образа поэт, кажется, не мог бы дать.
Она должна нам показаться резко противоречащей характеру Липранди по всему, что мы теперь знаем о нем. Но это освещение нисколько не противоречит тому впечатлению, какое Липранди стремился производить в молодости на окружающих. Как многие агенты секретной полиции, как многие сыщики и провокаторы, он заигрывал с «крайней левой», прикидывался революционером, и в опасной политической игре был, видимо, готов менять свои позиции в зависимости от победы той или иной воюющей стороны. Об этом, мы видели, с полной категоричностью свидетельствует Вигель.
Сам Липранди охотно демонстрировал свои радикальные убеждения. Радожицкий, познакомившийся с ним в 1814 г., довольно прозрачно сообщает в 1835 г. в своих воспоминаниях:
«…Капитан Л***, горячий итальянец, называвший себя мартинистом, обожатель Вольтера, знал наизусть философию его и думал идти прямейшею стезею в жизни. С пламенными чувствами и острым, хотя не всегда основательным умом, он мог вернее других отличать хорошее от дурного, благородное от низкого; презирая лесть, он смеялся над уродами в нравственном мире»[122]. В эту эпоху ликвидации великой революции и господства знаменитого обывательского лозунга «c’est la faute à Voltaire», звание «вольтерианца» было почти равносильно обозначением якобинца и карбонария. Между тем, Лапранди, видимо, щеголял этим званием, подчеркивая независимость своих суждений и пренебрежение к господствующим предрассудкам.
Его таинственная отставка и опала как раз в эпоху повышенного революционного брожения в Европе, после блестящих военных успехов, объясняются прежде всего, его репутацией вольнодумца и мятежника. Вигель снова дает отдаленный намек: «Из генерального штаба был он переведен в линейный егерский полк и, наконец, принужден был оставить службу. Все это показывает, что начальство смотрело на него не с выгодной стороны».
Разгадку этой тайны дает в своих «Воспоминаниях» декабрист Сергей Волконский. Вот что он пишет о Липранди как о своем сослуживце в эпоху наполеоновских войн:
«Как молодой человек, он приобрел уважение, любовь своих товарищей и доверенность начальников; служа в генеральном штабе, состоял он при второй армии и, по неприятностям с высшим начальством по его роду службы, перешел в один из егерских полков 16-й дивизии и был, в уважение его передовых мыслей и убеждений, принят в члены открывшегося в этой дивизии отдела тайного общества, известного под названием „Зеленой книги“. При открытии в 20-х годах восстания в Италии, он просил у начальства дозволения стать в ряды волонтеров народной итальянской армии. По поводу неприятностей за это, принятое как дерзость его ходатайство, он принужден был выйти в отставку, и, выказывая себя верным своим убеждениям и прогрессу и званию члена тайного общества, был коренным другом майора, сослуживца его по 32-му егерскому полку Вл. Фед. Раевского, о котором буду говорить впоследствии при происшествиях 25-го года».
Итак, в качестве передового военного Липранди был принят в тайное общество. Под «Зеленой книгой» имелся в виду знаменитый питомник декабристов – Союз Благоденствия, статут которого занесен в зеленую тетрадь. Все это проливает свет на личность Липранди и на некоторые построения Пушкина.
Прежде всего, нам становится понятной начальная черта портрета Сильвио: «Один только человек принадлежал нашему обществу, не будучи военным… Никто не знал причины, побудившей его выйти в отставку…» и пр.
Вспомним некоторые обстоятельства из истории южных тайных обществ. В момент приезда Пушкина в Кишинев в сентябре 1820 г. Липранди еще находится на военной службе. Но в декабре 1821 г. прошла глухая молва о Союзе Благоденствия, и главная квартира настоятельно потребовала открытия «заговора»; 5 февраля 1822 г. был арестован близкий друг Липранди В. Ф. Раевский и отвезен в Тираспольскую крепость для опроса в особой следственной комиссии. Не случайно, видимо, в тревожный момент, накануне ареста Раевского, Липранди берет трехмесячный отпуск и оставляет Кишинев (30 января 1822 г.). Это, впрочем, не спасает его. 11 ноября 1822 г. он вынужден выйти в отставку. Только три года спустя, в конце 1825 г., Липранди снова был принят в войска. Таким образом, во вторую половину пребывания Пушкина в Кишиневе Липранди, как и Сильвио, находился в отставке, но продолжал вращаться в прежней офицерской среде, «не будучи военным».
Свидетельство Волконского проливает свет и на революционную роль Липранди. В военном обществе 20-х годов он – представитель «передовых мыслей и убеждений». Его принимают в состав тайного политического общества, он близкий друг «первого декабриста» (по формуле П. Е. Щеголева[123]) В. Ф. Раевского и, наконец, за верность своим убеждениям он вынужден прервать свою блестящую военную карьеру и выйти в отставку. В эпоху общего воспламенения Европы и восстаний в Италии он решается заявить о своем желании стать в ряды восставших. Мы видим, что в кишиневский период Пушкина Липранди стоял «на ультрасвободном грунте». Вспомним, что это была эпоха заразительного политического брожения на Западе, сильно увлекшего русских военных, проделавших заграничные походы.