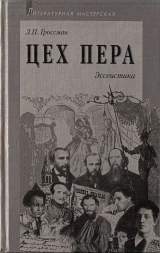
Текст книги "Цех пера. Эссеистика"
Автор книги: Леонид Гроссман
Жанр:
Публицистика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 20 (всего у книги 34 страниц)
В этом отношении особенно показательна история «Села Степанчикова».
Начатое в драматической форме, оно с неизбежностью внутренних законов творчества Достоевского быстро переродилось в «комический роман».
«Я шутя начал комедию, – сообщает он об этом произведении, – и шутя вызвал столько комической обстановки, столько комических лиц, и так понравился мне мой новый герой, что я бросил форму комедии, несмотря на то, что она удавалась собственно для удовольствия как можно дольше следить за приключениями моего нового героя и самому хохотать над ним. Короче, я пишу комический роман».
Драматическая форма не давала нужного простора Достоевскому с его вечным устремлением к авантюрному повествованию. «Даль свободного романа» не переставала привлекать его и неизменно поглощала его драматические проекты. К 60-м годам он понемногу отходит от этих драматургических мечтаний, а в начале 70-х отчетливо формулирует свое убеждение, что «эпическая форма никогда не найдет себе соответствия в драматической».
Несмотря на позднейший шумный успех инсценировок Достоевского в России и на Западе, обнаруживших полностью присущий ему драматический инстинкт, он в основе, конечно, прав. Художественность, цельность, органичность его больших философски-авантюрных романов совершенно теряется на подмостках, сохраняющих лишь острый драматизм интриги и выразительную лепку характеров. Но замысел и план романиста приносятся в жертву деспотизму сценических требований.
Вот почему Достоевский с замечательной зоркостью различает другой путь: драматизировать не роман, а определенный эпизод романа, благодарный для сцены, или же разработать в театральном плане идею романической композиции. Драматург должен творить по-своему и, заимствуя зерно замысла, обязан дать ему самостоятельный и свободный рост.
Любопытно, что Достоевский совершенно расходится с господствовавшими у нас недавно теориями «переделок». Высшей добродетелью таких переработок считалась максимальная близость к тексту писателя. Ни одного отступления, ни единого присочиненного слова. Художественный театр даже ввел чтеца, со всей буквальностью воспроизводившего перед зрителем страницы романа, уже вне всякой заботы о сценичности, образности, драматизме. Благоговейный пиэтет к тексту писателя, уместный в академии или в университетском семинарии, явно требовал иного отношения к себе в театре, поскольку сцена фатально и самовластно все равно производила свою ломку, выхватывая из цельного произведения разрозненные фрагменты.
И здесь поэтика Достоевского остается совершенно безошибочной:
«Другое дело, если вы как можно более переделаете и измените роман, сохранив от него лишь один какой-нибудь эпизод для переработки в драму, или, взяв первоначальную мысль, совершенно измените сюжет…»
Великий творец требует от вдохновленных им деятелей театра прежде всего нового творчества. Не механически делить законченный и целостный роман на акты, сцены и диалоги, а воссоздать из него новую драму, в свободном процессе художественного преображения замысла. Вдохновенный созерцатель трагических образов, мощный ваятель человеческих масок, Достоевский словно говорит режиссеру, актеру, драматургу, зачарованным его созданиями:
– Побольше смелости. Отважней и решительней вступайте в подлинный творческий план. Аранжировка романа под сценические формы – дело не хитрое. Нет, пусть роман будет лишь трамплином для вашей свободной фантазии, лишь партитурой для вашей вольной и вдохновенной игры. Поступайте с моими «Бесами», «Карамазовыми», «Раскольниковыми», как Шекспир с какими-нибудь итальянскими хрониками. Творите наново, ломайте сюжет, разбивайте вдребезги романическую форму, – ибо ей нечего делать на сцене – и в этом бунте против моего текста творите театральные ценности по законам трагедии, фарса или мелодрамы. Для всего этого я щедро бросаю вам материал, но берите его для новой ковки, для новой переплавки, для великих и отважных преображений, ибо незыблемым остается великий закон всякого искусства: «мысль не может никогда быть выражена в несоответствующей ей форме».
Салтыков – сказочник

I
Есть нечто неожиданное в том, что суровый сатирик русского общества Салтыков обратился на склоне своих лет к волшебной сказке. Писатель-публицист, глубоко захваченный социальной современностью, болевший и горевший всеми недугами своей пасмурной эпохи, отважно выступавший против носителей самодержавной власти, которых он так беспощадно заклеймил в своих убийственных памфлетах, пожелал испробовать свои силы в самом легком, безмятежном и радостном жанре, наиболее отдаленном от всякой злобы дня и даже оторванном обычно от всего реального.
С конца 70-х годов в журналах, сборниках и особенно на газетных столбцах – среди передовиц, внутренних обзоров и заграничных корреспонденций – начинают появляться небольшие художественные этюды Салтыкова, в которых обычные для него темы беззаконной власти и обывательского застоя разрабатываются в традиционных формах «бабушкиных сказок».
Что могло получиться от этого обращения политического писателя к фантастической легенде? Как отложился негодующий пафос сатирика в приемах баснословной притчи? Другими словами – какой новый словесный вид получился от сочетания этих контрастов темы и стиля? Что такое сказка Салтыкова?
Это прежде всего – глубоко своеобразный вид короткого и занимательного рассказа. Мы не найдем здесь чудес и превращений, обличенных в магическую пышность восточных видений Шехеразады. Здесь нет ничего от изящного и блестящего мира сказок Шарля Перро, где менуэты маркиз переплетаются с хороводами фей, а сердце старого сказочника исходит великой нежностью к бедной, загнанной и всеми обиженной Золушке. Веселые забавники сказок Лафонтена, зловещие и преступные герои волшебных композиций Гофмана, задумчивые и страдающие героини великих фантазий Андерсена – как весь этот обширный, загадочный и пестрый мир ученой или трогательной европейской сказки далек от строгого сборника Салтыкова!
И не нужно думать, что необычный характер этих прозаических побасенок о «премудром пискаре» или «здравомысленном зайце» был подсказан сатирику особыми свойствами русской сказки. Ведь и в ней преломились черты мирового сказочного эпоса, сообщившие ей те же признаки увлекательной фантастичности или житейского нравоучения. Узорная, лукавая и мудрая, она представляет собою особый мир повествовательного искусства, умело организованного и ярко расцвеченного. Ее роднит с европейской сказкой стремление построить беглый занимательный сказ на сплетении небывалых похождений, хитрых выдумок и чудесных перемен. Здесь постоянно сочетается неожиданность ситуаций с находчивостью развязок и живописностью повествовательного склада. Как и в западных сказаниях, здесь все заманчиво и чудесно. Лесные хищники беседуют с людьми, деревья поют, птицы говорят, кит-рыба извергает из своей пасти оснащенные корабли, море выбрасывает засмоленные бочонки с живыми детьми. Все это тревожно, жутко, полно разительных образов и не лишено своей социальной морали. Нищие странники одаривают крестьянского младенца несметными богатствами именитого купца. Бездомный бродяга пленяет красну-девицу, дочь купецкую, что сидит под окошечком и вышивает ковер разными шелками. Убогий дурачок на худой лошаденке проникает в чертоги царевны Неоцененная Красота и ухитряется поцеловать ее через двенадцать стекол.
И все это облечено в пеструю ткань неистощимой художественной выдумки и богатейшей изобразительности. Семиглавый змей уносит прекрасных женщин на своих огненных крыльях, водяной царь посылает письмо с черными печатями, угрожая сжечь непокорные города. Девушка-змея выползает из пылающего леса на казачьей пике. Страшная ведьма сидит за стеной, вдоль которой наведены струны с колокольчиками: зацепи за стену – «струны заструнят, колокольчики зазвенят», и воспарит над башнями шестикрылый конь, оседланный чародейкой. А вокруг возникают и действуют чудесные предметы – сверкает хрустальная гора, звучат гусли-самогуды, расстилается скатерть-самобранка, зреют молодильные яблоки и сочится живая вода. Поистине —
Здесь лес и дол видений полны…
И неудивительно, что юный Пушкин бросился в эти магические края, завороженный мерцающими богатствами их фантазий, и снова вернулся к ним в расцвете творческих сил, чтоб в своем зрелом стихе запечатлеть эти причудливые облики колдуний и звездочетов, говорящих лебедей, поющих белок и золотых петушков. «Что за прелесть эти сказки! – восклицает поэт в своих письмах, – каждая есть поэма».
Такова сказка Запада и Востока в своей древней неизбывной сущности. На всех широтах и во все эпохи она создается для детей и хранится в памяти старых женщин. В ней есть нечто от беспечности младенческой поры и от заботливой ласковости преклонного возраста. Недаром о классических сказках старой Франции – о притчах и побасенках «матери-Гусыни» – один восхищенный читатель писал: «Кормилицы главным образом являлись хранительницами этих рассказов. Из их крестьянской груди пролился этот млечный путь феерий, таким смутным сиянием пересекающий небо нашего детства. Шарль Перро написал свою книгу под диктовку этих легковерных муз. Естественным аккомпанементом его книги может служить шум веретена и убаюкивающее качание колыбели…»
Оставленная нам знаменитым сатириком книга русских сказок написана иначе. В ней нет той материнской нежности и убаюкивающей ласки, которыми овеяны чудесные вымыслы романских или скандинавских сказочников. Она сурова и язвительна, она судит, зовет к ответу, клеймит и бичует. Она писалась не для детей и не стремилась к волшебным видениям или увлекательным подвигам. Ее рассказы порождены негодованием страстного публициста и заострены ядовитым стрелами политической сатиры. В наивной и заманчивой форме детской сказки угрюмый бытописатель российских нравов середины XIX века изливал свое возмущение современниками, нелепым укладом их общей жизни, бессмысленными угнетениями господствующей власти, раболепным безмолвием ее подчиненных. Эту печальную картину застоя и запуганности сатирик развернул в коротких аллегорических очерках, полных презрения и желчи, отчаяния и сострадания.
Таковы сказки Салтыкова, порожденные старой монархической Россией и сохранившие на себе глубокие рубцы пережитых ею обид, насилий и унижений.
II
«Настоящая сказка, – говорил Гете, – должна вырывать человека из обычной среды его существования, открывать выход его скованным влечениям и сообщать ему забвение от тягостных оков той повседневности, в которую все мы заключены».
Но именно такое искусство, отрывающее от действительности, уводящее от окружающего быта и текущих запросов дня, было органически чуждо Салтыкову.
«Писания мои до такой степени проникнуты современностью, – заявляет сам сатирик, – так плотно прилаживаются к ней, что ежели можно думать, что они будут иметь какую-нибудь ценность в будущем, то именно и единственно как иллюстрация этой современности».
И этому основному принципу своей писательской деятельности, столь противоположному органическому закону сказочного искусства, Салтыков оставался верен почти во всей серии своих фантастических очерков от «Премудрого Пискаря» до «Орла-мецената». Как и все его писания, они насквозь проникнуты современностью и явственно перекликаются с знаменитыми страницами хроник, писем и рассказов «русского Свифта».
Разберемся в трех десятках «сказок», собранных в одной из последних книг Щедрина.
Они естественно распадаются на две основные группы: рассказов бытового содержания, иногда шутливых, иногда глубоко драматических, и собственно сказок, т. е. небольших сатирических очерков, облеченных в обычные формы сказочного эпоса.
Остановимся на первой группе. Мы находим здесь и легкий сатирический очерк о современном журналисте («Обманщик-газетчик»), и резкий памфлет на умеренно вольнолюбивого российского политика («Либерал») и острую зарисовку царских сановников («Праздный разговор»), и с глубоким трагизмом разработанные рассказы о крестьянке, у которой сгорел мальчик («Деревенский пожар»), о замученной рабочей лошади («Коняга»), о горьком житии мужиков («Путем-дорогою»), о печальной и мрачной судьбе русского писателя («Приключение с Крамольниковым»). Все это глубоко реальные, из самой жизни выхваченные образы и темы. В замечательной сказке «Коняга» дается такое живое ощущение русской природы, истории и народного быта, какие не всегда найдутся в обширных романах с развернутыми пейзажами и огромными толпами героев.
Вчитаемся в один отрывок – о безбрежных полях, которые молчаливо, веками «сторожат деревни»:
«Нет конца полям; всю ширь и даль они заполонили; даже там, где земля с небом слилась, там все поля. Золотящиеся, зеленеющие, обнаженные – они железным кольцом охватили деревню, и нет из нее никуда выхода, кроме как в эту зияющую бездну полей… Из века в век цепенеет грозная неподвижная громада, словно силу сказочную в плену у себя сторожит. Кто освободит эту силу из плена? Кто вызовет ее на свет? Двум существам выпала на долю эта задача; мужику да коняге. И оба от рождения до могилы над этой задачей бьются, пот проливают кровавый, а поле и поднесь своей сказочной силы не выдало… Нет конца полю, не уйдешь от него никуда. Исходил его коняга с сохой вдоль и поперек, и все-таки ему конца краю нет. И обнаженное, и цветущее, и цепенеющее под белым саваном – оно властно раскинулось вглубь и вширь, не на борьбу с собой вызывает, а прямо берет в кабалу. Ни разгадать его, ни покорить, ни истощить нельзя: сейчас оно помертвело, сейчас – опять народилось. Не поймешь, что тут смерть и что жизнь. Но и в смерти и в жизни первый и неизменный свидетель – коняга. Для всех поле – раздолье, поэзия, простор; для коняги оно – кабала. Поле давит его, отнимает у него последние силы и все-таки не признает себя сытым…»
Это, конечно, одна из выдающихся страниц русской литературы. Трагизм векового подневольного труда, оросившего своим кровавым потом безбрежные равнины «восточной Европы», нигде не передан с большей сжатостью и силой. Этот коротенький рассказ о крестьянской лошади достоин стать в ряд с первоклассными образцами нашей поэзии.
Такова обширная партия «сказок» Салтыкова. Мы находим здесь и фельетон, и бытовой рассказ, и писательскую исповедь, и трагическую повесть. Недаром сам автор, словно чувствуя условную «сказочность» всех этих очерков, снабдил некоторые из них особыми подзаголовками («разговор», «сказка-элегия», «поучение», «ни то сказка, ни то быль» и т. п.).
В свободной и бесконечно разнообразной форме нравоописательного рассказа сатирик словно подводит итоги своим долголетним раздумиям о российской правительственной системе и плачевной обывательской среде, о «диком помещике» и робком «либерале», о сановниках, интеллигентах и крестьянах. И эти долголетние горестные раздумия писателя о сословиях и лицах вырастают, наконец, в грандиозный символ целого народа, воплощенный в потрясающем явлении замученной лошади, в чьем рабочем остове «целая масса живет, неумирающая, нерасчленимая и неистребимая…»
III
Но несмотря на все своеобразие замыслов и тем, сказочные опыты Салтыкова целым рядом своих образов и приемов близки к народной русской сказке.
Это прежде всего сказывается на зачинах повествования: «Жил-был пискарь», – начинает свою сатиру на современного обывателя Щедрин. «В некотором царстве, в некотором государстве жил-был прокурор», – открывает он другой очерк, «В старые годы, при царе горохе…» «В некотором селе жили два соседа…» «В некоторой стране жил-был либерал…» и т. д., и т. д.
Иногда это дает себя знать в заключении сказки или прорывается в привычных прибаутках и присловиях: «…по щучьему велению, по моему хотению очутились на необитаемом острове». «Он там был, мед-пиво пил, по усам текло» и проч. Или же: «ни в сказке сказать, ни пером описать». Иногда герой выступает в качестве «мальчишечки», а героиня зовется «Милитрисой Кирбитьевной». Таков внешний рисунок этого повествовательного склада.
Главные образы салтыковской сказки родственны народному эпосу. «Самоотверженный заяц» или «бедный волк», «Медведь на воеводстве» или «Лиса-кляузница» вышли из общего цикла сказаний о животных. Это те отголоски средневековых поэм о кознях лисы, которые разработаны Гете в его «Рейнеке-Фуксе». Сюда же относятся пискари, караси, щуки и ерши, играющие такую видную роль в сказках Салтыкова. Они обращают нас к «байке о щуке зубастой», «о карасе, который рассматривает жалобу леща» или о «злом ябеднике Ерше-Щетиннике», который «собою мал, а щетины у него, аки лютые рогатины – и теми острыми своими щетинами подкалывает наши бока и прокалывает нам ребра» (ср. у Салтыкова вопрос ерша карасю: «А хочешь, я тебе за этот самый вопрос иглой живот проколю?..»).
Эта родственность ощущается и на человеческих образах. Сказка Салтыкова «Соседи» («В некотором селе жили два соседа: Иван Богатый да Иван Бедный») близка к народным преданиям о правде и кривде, о Марке Богатом и Василии Бессчастном, о Шемякином суде (два брата: богатый и убогий). В ней разрабатывается старинная тема о двух мужиках, из которых «один жил кое-как, колотился всеми неправдами, горазд был на обманы и приворнуть его было дело, а другой шел по правде, как бы трудами век прожить». Наконец в сказке «О том как мужик двух генералов прокормил» словно слышатся отголоски народных анекдотов о смышленности русского простолюдина (вроде сказки о поповом работнике, о русском и мордвине и проч.).
И уже вполне в духе народных повестей разработана салтыковская сказка «Дурак». Она верна общему духу эпических приемов, о которых говорит собиратель русской сказки Афанасьев: «Старшие братья называются умными в том значении, какое придается этому слову на базаре житейской суеты, где всякий думает только о своих личных интересах; а младший – глупым в смысле отсутствия в нем этой практической мудрости: он простодушен, незлобив, сострадателен к чужим бедствиям до забвения собственной безопасности и всяких выгод… Народная сказка всегда на стороне нравственной правды, и по ее твердому убеждению выигрыш постоянно должен оставаться за простодушием, незлобием и сострадательностью меньшого брата». Таков и салтыковский «дурачок», чистый сердцем и высокий помыслами, не умеющий понять, что такое «собственность», «порядок наследования» или «накопление богатств».
К сказочной традиции близка и лучшая из салтыковских сказок – «Коняга». Тема замученной лошади вообще свойственна старинной европейской сказке. Из народных легенд почерпнул этот сюжет немецкий романтик Людвиг Тик, написавший историю лошади, которую толкали в воду, навьючив ее тяжелыми жерновами, но которая постоянно выплывала из воды, чтоб ласкаться к своему хозяину, пока, наконец, не погибла в волнах, после того как он ушел, и она тщетно искала его.
Таков сказочный фонд салтыковских очерков. Из обширного репертуара народной сказки он усвоил своим поздним сатирическим опытом некоторые приемы традиционного сказа, трафаретную роспись вековой «складки», несколько образов, два-три положения. Русский фольклор послужил ему скорее обрамлением для основных тем его журнальной работы, чем непосредственным источником для нового повествовательного мастерства. Если в народной сказке автор «Головлевых» и мог найти подчас сатирические темы или социальные поучения, они едва ли могли служить его гневному публицистическому темпераменту и воинствующему писательскому сарказму, направленному против современников.
Жесткие темы его поздних очерков диктовала ему все та же русская современность, а общую манеру для их новой разработки могли подсказать ему великие памфлетисты прошлого, родственные ему по своим заданиям, творческим целям и характеру дарований.
IV
Салтыков-сказочник всего ближе к Свифту и Вольтеру. Сатира русского писателя на ученых утопистов («Карась-идеалист» и другие) или на священника («Деревенский пожар») примыкает к классическим памфлетам на представителей науки и духовенства, разработанным автором Гулливера в его «Сказке о бочке».
Но еще явственней обнаруживается связь Салтыкова с аналогичными опытами Вольтера. В целом ряде щедринских очерков ощущается ироническая традиция, восходящая к знаменитому «Кандиду».
Вольтер в своей философской сказке резко противопоставил благодушные отвлеченности современных германских учений кровавой политической действительности. Он ополчился, как известно, на философию Лейбница, чей отвлеченный оптимизм представлялся ему опаснейшим усыплением человечества. Творцы успокоительных систем погружают своих современников в бездействие и словно не слышат раздирающих стонов истории. В эпоху жестоких войн и обостренной политической борьбы, французскому мыслителю представлялась чудовищной эта философия всеобщего благополучия. Учитель Кандида, доктор Панглосс, среди величайших бедствий и катастроф, спокойно и методически учит своего питомца, что каждая причина ведет к благоприятнейшему концу, и что все совершается к лучшему в этом лучшем из миров.
Традиция этой политической сатиры явственно ощущается в сказках Салтыкова. Рыбы, верящие в гармонию и всеобщее счастие, или зайцы, считающие, что «всякому зверю свое житье предоставлено», варьируют, в сущности, знаменитое положение доктора Панглосса. Жестокая действительность, в виде щуки или лисы, подрывает все основы их оптимизма.
К этим старинным памфлетам-сказкам ближе всего опыты Салтыкова. Они продолжают по своим темам, пафосу и задачам революционную или антирелигиозную традицию, резко отметившую «Сказку о бочке» и «Кандида». В различной степени, в разных проявлениях, с неодинаковым напряжением своего боевого задора, они, несомненно, служат тем же заданиям и слагаются в аналогичной форме.
Необходимо отметить, что «сказки» Салтыкова вообще не равноценны. Есть среди них повторения, попадаются разработки одинаковых тем, сказочник нередко возвращается к сказанному, иногда он несколько затягивает свой рассказ, подчас недостаточно заостряет его. Было бы преувеличением считать все написанные им сказки образцовыми, а некоторые из них можно признать и не вполне удавшимися. Попадаются среди них и страницы, отмеченные явными дефектами. Так, несомненным пятном следует считать в сказке «Пропала совесть» изображение еврейской семьи, где малолетние дети совершают в уме банковские операции, а младенцы «инстинктивно тянутся к золотым браслетам». Писатель, обычно чуткий к детской душе и в этой именно сказке прекрасно возвеличивший «сердце русского дитяти», мог проявить больше художественного такта и должен был, конечно, воздержаться от этой фальшивой и несправедливой сатиры на ребенка чужой национальности.
Но не этими перебоями определяется книга Салтыкова. Она сильна отчетливыми формулами, верными органическому мировоззрению замечательного писателя, развернувшего в своей сказочной журналистике неизменные качества своего острого юмора и богатого языка. А в некоторых местах своей книги сатирик поднимается на исключительную высоту и доводит свой голос до резкого и возмущенного крика, придающего особую силу его художественной проповеди.
И все же, написав свои тридцать сказок, Салтыков не стал сказочником. Он не развернул перед нами вереницы забавных или поучительных похождений, не приобщился к богатейшему миру волшебных романов или шутливых повестей, не развлек, не облегчил и не утешил. Он остается как бы вне великой традиции русской сказки, которая веками, от народных легенд, через Жуковского и Пушкина, до Лескова и Ремизова, нижет узорчатую вязь своих прибауток и присказок. Салтыков не на этом пути. Он стоит с жестким словом обличителя в стороне от великих слагателей и мастеров русского сказочного стиля, накоплявших веками многоцветную сокровищницу чудесных образов, живописных присловий и смиренномудрых поучений.
Но книга его остается в нашей литературе замечательным и живым явлением. Салтыков сумел внести новый тон в русскую публицистическую прозу и выработать у нас новый жанр социальной сатиры. В этом несомненное значение его сказок. И если эти страницы, неразрывно связанные с эпохой их создания, во многом отошли от нас и служат свидетельством ушедшего времени, они живы до сих пор великими обобщениями своих типов, подлинным трагизмом своих центральных образов и меткой формой фантастической притчи, бичующей нравы современности и смело восстающей на ее господствующие силы.
Россия Салтыкова

I
Историческая сатира знает один особенно ответственный и трудный вид: пародию на летопись целого народа. Недовершенная «История села Горюхина» Пушкина, «Остров пингвинов» Анатоля Франса или «Русская история от Гостомысла» Алексея Толстого являют ярко выраженные образцы того сложного жанра, умело выбирающего из хронологической смены событий наиболее характерные эпизоды и колоритные фигуры.
Такие сатирические обзоры народных судеб создаются обычно в моменты крутых поворотов истории, когда прошлое страны неожиданно выступает перед нами в отчетливых и выпуклых образах. Смена эпох как бы вызывает из глубины столетий фигуры деятелей былого времени, представляя нам облики трафаретных «героев» в озарении новой, свободной и смелой переоценки.
В такое время создаются широкие историко-художественные обобщения, обнимающие целые эпохи в обширных синтезах негодующего пафоса или едкой иронии.
Один из самых совершенных образцов этого жанра возник у нас в эпоху первого решительного кризиса самодержавия. В те дни один зоркий наблюдатель сложных путей российской истории дал свой памфлет на грандиозно нелепые события нескольких столетий, скрыв под шутливой оболочкой веселых побасенок мрачнейшую эпопею политических интриг, дворцовых переворотов, бессмысленных произволов и поистине железного угнетения запуганного и безмолвствующего народа. «История одного города» Салтыкова в смене блистательных карикатур на виднейших представителей дома Романовых дает смелую и резкую пародию на официальную историю государства Российского.
II
Книга Салтыкова писалась в сложную, смутную и тревожную эпоху. Перелом в принципах и тактике власти, вызванный неумолимым ходом исторической логики, сказался в полной мере. Огромная страна, застывшая в своем вековом молчании, «чудовищна, как броненосец в доке», наконец, колыхнулась и грузно двинулась в неведомые пространства.
Шли шестидесятые годы.
Они открывались бравурно и торжественно. Помимо «великих реформ» в 1862 году праздновалось тысячелетие России. Необычайный юбилей протекал в напряженной атмосфере патриотического безвкусия, казенной торжественности, выспренней лести газетных передовиц и глухой общественной оппозиции. Только что отпылали знаменитые петербургские пожары, только что затушили – Смоленск, Могилев, Чернигов, Малый Ярославец, только что затопили в крови Бездненское крестьянское восстание за отказ освобожденных крепостных выходить на барщину, и вслед за тем сослали в Соловки группу лиц, отслуживших демонстративную панихиду по убитым крестьянам. И все же казенные одописцы ежедневной печати неутомимо возглашали о «благозаконии» и «благоустроении» страны и плели легенду «о кротком правителе и благоденствующем народе».
«История одного города» тесно связана с празднованием тысячелетия России. Официальным поминкам «благочестивейших правителей», строивших «российское единодержавие», Салтыков как бы противопоставляет свои биографии глуповских градоначальников. Летопись сатирика словно стремится обнажить мрачную изнанку пышного и лицемерного юбилея.
Поминки легендарного зачатия страны в момент «призвания варягов» справлялись с громоздкой торжественностью. Правительство отметило необычайную дату открытием в Новгороде грузного и антихудожественного памятника работы Микешина, состоящего из семнадцати бронзовых фигур, призванных изображать – по словам правительственных эстетов – «главнейшие эпохи, через которые суждено было пройти России, чтобы занять почетное место в среде всемирных держав».
Публицисты надрывались над восхвалением «десяти столетий нравственного и гражданского развития России» и наперерыв изощрялись в прославлении «мужей-героев, правителей и просветителей народа русского». Митрополиты сочиняли особые молитвенные возгласы «в похвалу новосозидавшим основателям Российского царства, расширившим и прославившим оное…» Депутации приветствовали царя, «ставшего на рубеже двух тысячелетий нашей дорогой отчизны», – как будто в этом была его личная заслуга, – и «достойно закончившего минувшие десять веков», словно в этом сказалась его субъективная воля. Восторг по приказу носил все признаки своего канцелярского происхождения.
«Сегодня в 8 часов утра пушечная пальба на берегу Волхова возвестила начало нового тысячелетия России», – сообщали столичные газеты в день открытия микешинского монумента. Новгородские празднества носили обычный штамп военных и богослужебных церемоний. Торжества были поделены между парадами и молебствиями. Общение царя с народом инсценировалось в приеме всевозможных депутаций, в рядах которых проходили «удельные, государственные и временно-обязанные крестьяне» в парадных кафтанах, с медалями на бронзовой цепи, поднося властям хлеб-соль и куличи.
Если правительственный праздник оставался чужд населению, самый факт тысячелетия страны вызывал несомненное оживление интереса к ее прошлому. Неожиданно стала модной и злободневной русская история в ее целом, и если в официальном истолковании она приобретала театрально-принаряженный стиль дешевого украшения и показного щегольства, сквозь всю эту бутафорию юбилейных прикрас прорывался все же возбужденный общими толками живой интерес к минувшим столетиям, их быту, общественным формам, искусству, обычаям и характерам. Один газетный корреспондент подслушал в вагоне по пути в Новгород на открытие микешинского памятника такие взаимные расспросы:
– Чем знаменит Ордын-Нащокин? Какое значение имел Какорин в деле развития строительного искусства в России? Что сделал для России князь Щеня? Сколько лет жила Марфа-Посадница?..
Всюду цитировались суждения писателей, – от Нестора и Никоновских летописей до последних лекций Костомарова.
Этот интерес докатился и до крестьянской массы. «Мужички составляли группы на покупку брошюрок, объясняющих содержание монумента, и жадно вслушивались в чтение», – сообщает тот же корреспондент.
Если памятник Микешина являлся своеобразным скульптурным обзором русской истории, печать юбилейного года давала обширные сводки «десяти столетий» в установленном сусальном стиле царских манифестов.








