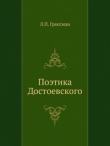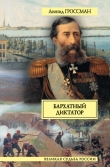Текст книги "Цех пера. Эссеистика"
Автор книги: Леонид Гроссман
Жанр:
Публицистика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 33 (всего у книги 34 страниц)
♦ Nenikeas, o Gelaio! – Ты победил, о Гелай (греч.).
♦ Tractatus politicus – политический трактат (лат.).
♦ Études historiques – исторические штудии (фр.).
♦ Deh, parla basso! – Эй, говори потише (ит.; начало цитируемого выше четверостишия Микеланджело).
♦ Symphonia heroïca – героическая симфония (лат.).
♦ Tout cela me fait l’effet d’une rêve – Все это оставляет ощущение сна (фр.).
♦ «Chartreuse de Parme» – «Пармская обитель», «Rouge et Noir» – «Красное и черное» (фр.).
♦ Der Krieg ist erklärt – Война объявлена (нем.).
♦ Pas un pouce de notre terrain, pas une pierre de nos forteresses! – Ни пяди нашей земли, ни камня наших крепостей! (фр.).
♦ «Kunstwerk der Zukunft» – «Художественное произведение будущего» (нем.).
♦ Indépendance Belge – независимость Бельгии (фр.).
♦ Paris muss bombardiert werden – Париж надо подвергнуть бомбардировке (нем.).
♦ Sarmatische Thier, slavischer Koth, sarmatischer Schmutz – сарматское животное, славянское дерьмо, сарматская гадость (нем.).
♦ Gentilhomme et honnête homme – дворянин и честный человек (фр.).
♦ En badaud – как зевака (фр.).
♦ Voilà un livre incendiaire – вот зажигательная книга (фр.).
♦ Den politischen Pathos – политического пафоса (фр.).
♦ Scène rustique, fable champêtre, paysannerie, Dorfgeschichte – деревенская сцена, сельская побасенка, пьеса из крестьянской жизни, деревенская история (фр. и нем.).
♦ Rendre les impressions… – передавать наиболее тонкие, наиболее летучие впечатления в ясной, четкой, доходчивой манере и уметь обрисовывать все – вплоть до запахов и малейших шорохов (фр.).
♦ a la Teniers – в духе Тенирса (фр.).
♦ «Coeur simple» – в традиционном переводе «Простая душа» (фр.).
♦ «Bête humaine» – «Человек-зверь» (фр.).
♦ «La Terre» – «Земля» (фр.).
♦ «Bel Ami» – «Милый друг» (фр.).
♦ «Une vie» – «Жизнь» (фр.).
♦ Rien de plus cher que la chanson grise, / Ou l’indécis au précis se joint… – Нет ничего более драгоценного, чем пьяная песенка, где неопределенное смешивается с ясным (фр.)
♦ Esprit gaulois – галльский дух (фр.).
♦ Je tiens la critique… – Я считаю критику самым характерным признаком, по которому различаются истинно интеллектуальные возрасты… Я считаю ее одной из самых благородных ветвей, которыми украсилось в прошлом сезоне одряхлевшее древо литературы. Анатоль Франс – «Литературная жизнь», II (фр.).
♦ Pompadour! Ton crayon divin… – Помпадур! Твой божественный карандаш / Обрисовал бы твое лицо. / Никогда доселе более прелестная рука / Не смогла сотворить ничего более прекрасного (фр.).
♦ Imitons de Marot l’élégant badinage – Попытаемся подражать элегантной болтовне Маро (фр.).
♦ C’est ici Madame du Tort… – Вот она, мадам дю Тор. / Кто ее видит и при этом не влюбляется, тот неправ. / Но тот, кто ее слышит и не впадает в обожание, / Тот неправ во сто раз сильней (фр.).
♦ Le madrigal plus simple… – Мадригал, самый простой и, в свою очередь, самый благородный, / Дышит нежностью, мягкостью и любовью (фр.).
♦ Une rose d’automne est plus qu’une autre exquise – Осенняя роза изысканней всех прочих (фр.).
♦ Reimspielereien – игра рифмами (нем.).
♦ «Mémoires sur la versification française» – «Заметки о французском стихосложении» (фр.).
♦ Tempo di valso – темп вальса, tempo di mazurca – темп мазурки (ит.).
♦ Amorem canat aetas prima – О любви пусть поет юный возраст (лат.). Sed alia tempora – Но времена иные (лат.). Reveillez-vous, belle endormie – Вставайте же, уснувшая красавица! (фр.). Qu’écrivez-vous sur ces tablettes? – Что вы пишете на этих листах? (фр.). Pour Yorick! – Бедный Йорик! (англ.). Idol mio! – Мой кумир (ит.).
♦ «Principes de la philosophie de l’histoire» – «Основания философии истории» (фр.).
♦ Le vers iambique… – Ямбический стих – это тот, что наиболее приближается к прозе, а ямб – размер быстрый, как о том сказал Гораций (фр.).
♦ Causerie – непринужденный разговор (фр.).
♦ Rajeunir le doux sonnet en France – возродить сладостный сонет во Франции (фр.).
♦ «Médailles d’argile» – «Глиняные медали», «La cité des eaux» – «Город на водах» (фр.).
♦ «Soir de bataille» – «Вечер в день сражения» (фр.).
♦ Sur le ciel enflammé l’Imperator sanglant – На фоне пламенеющего неба окровавленный Император (фр.).
♦ Ni qu’un mot déjà mit osa s’y remontrer – И чтобы уже использованное слово не тщилось туда проникнуть (фр.).
♦ Grand Dieu, tes jugements sont remplis d’équité! – Великий Боже, твои приговоры исполнены справедливости (фр.).
♦ Doris qui sait qu’aux vers… – Дорис, которая знает, что я нахожу удовольствие в стихах, / Требует от меня сонета – и это приводит меня в отчаяние… (фр.).
♦ Defendit qu’un vers faible… – Он требует, чтобы слабый стих не знал туда дороги. / И чтобы уже использованное слово не тщилось туда проникнуть (фр.).
♦ C’est palpitant comme la gazette d’hier – это волнует, как вчерашняя газета (фр.).
♦ Surtouts de table – настольные вазы (фр.).
♦ Critique d’art – художественная критика (фр.).
♦ Lo maestro е l’autore – учитель и вожатый (ит.).
♦ Nulla dies sine linea – Ни дня без строчки (лат.).
♦ Weihnachtsbaum – рождественская елка (нем.).
♦ «Dichtung und Wahrheit» – «Поэзия и правда» (нем.).
♦ Écarté – экарте, pour varier – ради разнообразия (фр.).
♦ «Duels célèbres» – «Знаменитые дуэли» (фр.).
♦ C’est la faute à Voltaire – виноват Вольтер (фр.).
♦ Narré rapide – рассказанное быстро (фр.).
♦ Amores – здесь: истории любви (лат.).
♦ Élégant dans ses écrits – элегантный в своих писаниях, inclinations toutes tiers-ètat – навязчивую склонность к третьему сословию (фр.).
♦ Épistoliers – авторы пространных писем, предназначенных для публикации, романов в стихах (фр.).
♦ Calembour! reconnais tu le sang? – Каламбур? A кровь ты заметил? (фр.).
♦ Qu’est ce que le sentiment? Un supplement du tempérament – Что есть чувство? Дополнение к темпераменту (фр.).
♦ Pauvre France! Malheureuse patrie! – Бедная Франция! Несчастная родина! (фр.).
♦ …Lesquels ont par ces présentes certifié et attesté… – кои присутствующие засвидетельствовали и подтвердили для важных лиц, к коим он сам принадлежит, согласно чему г-н Жорж де Геккерен холост и прежде никак не был связан узами брака (фр.).
♦ Mes antécédents – мое прошлое (фр.). Les révélations – откровения (фр.).
♦ Wanderjahre – годы странствий (нем.).
♦ Odessa par Richelieu / Est d’origine française – Одесса стараньями Ришелье / Стала французским городом (фр.).
♦ Contini con diversi vini – обеды с разнообразными винами (ит.).

notes
Примечания
1
Гроссман Л. П. Метод и стиль, см. настоящее издание (далее ссылки на эту статью даются в тексте предисловия).
2
Ср.: «Если простое подражание зиждется на спокойном утверждении сущего, на любовном его созерцании, манера – на восприятии явлений подвижной и одаренной душой, то стиль покоится на глубочайших твердынях познания, на самом существе вещей» (Гете И. В. Простое подражание природе, манера, стиль // Собр. соч.: В 10-ти т., М., 1980).
3
Статья «Тютчев и сумерки династий» (см. настоящее издание).
4
Доходящие до нас сведения о работе европейской литературной науки за последние годы свидетельствуют, что основное направление здесь сводится к изучению художников слова в цельном и полном охвате их творчества. Вот почему наряду со специальными исследованиями по стиху того или иного поэта, в подавляющем большинстве выходят работы, глубоко захватывающие духовную структуру словесного искусства. Таковы в Италии работы Бенедетто Кроче «Поэзия Данте», «Ариост, Шекспир и Корнель», книга о Стендале, работа Джузеппе Джильи «Бальзак в Италии», книга Пассерини «Il ritratto di Dante», в Германии работа Стефана Цвейга о французской поэтессе Дэборд-Вальмор, Эрнста Кассирера «Идея и форма» (о Гете, Шиллере, Гельдерлине, Клейсте); в Англии – исследования о Свифте, Верлене, новая биография Гете, работа о «Данте в Англии»; во Франции такие исследования, как «Французские писатели в Голландии», «Альфред де Виньи и Фридрих II», «Itineraire intellectuel» (о Шарле Пеги) и мног. др.
5
Соч. Пушкина, изд. Академии наук. Переписка. I, 83. В следующем году в новом черновике письма к тому же корреспонденту Пушкин возвращается к этому отзыву: «Никто более меня не любит прелестного André Chénier. Но он из классиков классик – от него так и несет древней греческой поэзией». (123).
6
Правдивость пушкинского отзыва санкционировал впоследствии знаменитый сонетист Жозэ Мария де Эредиа, много проработавший над рукописями Шенье для критического издания его буколик. «В своих стихах, отмеченных такою новизною, он сосредоточил сущность античности и навсегда охватил ее благоуханием французскую лирику». Так ранний отзыв Пушкина через восемь десятилетий освящается авторитетом одного из самых замечательных поэтов и эрудитов конца столетия. J.M. de Hérédia «Le Manuscrit des Bucoliques». Предисловие к изд. стихотв. Шенье – Maison du Livre, 1906.
7
Трудно согласиться с мнением академического издания сочинений Пушкина (VI, 184), что этот «перевод почти дословно верен подлиннику». Сближение этого отрывка с фрагментом Шенье было сделано впервые П. О. Морозовым (Соч. Пушкина, I, 339; Венгеров II, 614).
8
Несколько произвольный и едва ли правильный комментарий к «Музе» дает С. Любомудров («Античные мотивы в поэзии Пушкина», 1901, с. 24 – см. Соч. Пушкина, ак. изд., II, прим. 23). По словам исследователя, при переделке Пушкин заменяет какого-то неизвестного учителя французского оригинала грациозным образом Музы, и пьеса оживает. Что рисует нам Шенье? Тесная комната, пюпитр с нотами, играющий учитель, прилежный ученик; как это все прозаично, как это все пригляделось! «У Пушкина – это урок Моцарта, подобно тому, как в пьесе Шенье – урок Сальери»… Но в стихотворении Шенье нет решительно никаких упоминаний «тесной комнаты, пюпитра с нотами», ни даже отдаленных оснований предполагать их; и, конечно, представившийся здесь исследователю образ музикуса в длиннополом сюртуке и стиль менцелевского «Концерта в Сан-Суси» не имеют ничего общего с антологическим фрагментом Шенье. Это один из его лучших отрывков в древнем роде, темой которого служит буколическая сценка античного мира; это не прозаичный, приглядевшийся – «будничный урок музыки конца 18 в.» (заметим, кстати, что Шенье менее всего склонен к такой жанровой живописи современного быта), а такой же фрагмент античной, как и прочие, идилии Шенье. Это не стиль менцелевского концерта, а полная свежести идиллическая картинка из древнего мира. «Сальеризма» здесь так же мало, как и «моцартизма» в пушкинской Музе. Имена композиторов 18 в., хотя бы и в философском отвлечении, нельзя примешивать к этим образцам антологического рода.
9
Впервые замечено Анненковым. (Соч. Пушкина, I, 312). Стих этот взят из XXV элегии Шенье (Венгеров, II, 547).
10
Это совпадение отмечено Юрием Верховским в его очерке «Пушкин и Шенье». Соч. Пушкина, ред. Венгерова. II, 581–584.
11
П. Е. Щеголев. Пушкин, 291–292.
12
Уже в классическую эпоху старый александриец подвергался некоторым изменениям. Наиболее утонченные поэты той поры – Расин и Лафонтен – действительно позволяли себе обращаться свободно с этим неподвижным и строгим стихом. Они ввели в него ряд новшеств, признанных только романтиками. Но сферу применения этих свобод они сами ограничили: Расин пользовался разбитыми александрийцами преимущественно для комедий, стремясь придать своему стиху прозаичность и юмор разговорной речи; Лафонтен ввел свой освобожденный alexandrin в басню и сказку. Во всех остальных случаях классический стих сохранял все строгие свойства, предписанные Буало, и отступления от них нужно рассматривать как поэтические вольности.
13
Брюсов отмечает, что Пушкин в 20-х годах всего охотнее применял александрийский стих к стихотворениям антологическим: «В этом должно видеть влияние стиха Андре Шенье, которым Пушкин в те годы увлекался» (Валерий Брюсов. Стихотворная техника Пушкина. Соч. Пушкина, ред. Венгеров, VI).
14
Влад. Эрн. «Философия Джоберти», с. 262–263.
15
Идеям Жозефа де Местра суждено было щедро оплодотворить русскую историко-философскую мысль. Безусловно установлено его влияние на Чаадаева. Остается еще установить его роль в нарождении убеждений Тютчева, Достоевского, Владимира Соловьева. «Три разговора», например, написаны под несомненным впечатлением «Петербургских вечеров».
16
Катков в некрологе Тютчева пишет: «Общество было для него необходимостью; он постоянно был в людях. Но он также постоянно умел быть один и в шумной толпе. Он обильно принимал впечатления извне, но они подчинялись течению его мысли. В разговорах, возникавших случайно, он поражал яркими просветами разумения, которые вдруг озаряли целые горизонты. Речь его оживлялась, сыпала искрами. Выражения, удивительные по меткости, остроумию и нередко глубине, порождавшие мгновенно ряд ярких мыслей и новых настроений в слушателях, вырывались у него так неожиданно, так внезапно, так добровольно. Душа его отзывалась на все». (Русский Вестник, 1873 г., кн. VI–II, с. 835).
17
Язык Стендаля представляет любопытный пример влияния войны на литературный стиль. Военный опыт, излечивающий от всех иллюзий, совершенно избавил слог Стендаля от претензий на красоту и сообщил ему точность и простоту военного донесения или гражданского уложения. Он утверждал, что для окончательной выделки своего стиля он ежедневно читает свод законов. Отсюда специфические стендалевские приемы описаний: «Есть четыре рода любви: 1) любовь-страсть; 2) любовь-вкус; 3) любовь физическая; 4) любовь-тщеславие». Или: «Есть семь эпох любви: 1) восхищение; 2) предчувствие наслаждения; 3) надежда» и т. д. Вероятно, под его влиянием Толстой разбивает на рубрики свои описания: «Есть три рода любви: 1) любовь красивая; 2) любовь самоотверженная и 3) любовь деятельная» («Юность»). Такова же классификация по типам русских солдат в «Рубке леса». «Главные эти типы с их многими подразделениями и соединениями следующие: 1) покорных; 2) начальствующих и отчаянных. Покорные подразделяются на: a) покорных хладнокровных, b) покорных хлопотливых. Начальствующие подразделяются на: a) начальствующих суровых и b) начальствующих политичных» и т. д.
18
Paul Boyer. Le Temps, 28 août, 1901. – П. Бирюков. «Л. H. Толстой». T. I, с. 270, La Revue, 1911 août.
19
«Нечто о Шиллере». Время, 1861 г., II. Критич. обозр., с. 13. Заметка эта принадлежит Страхову, но последний абзац («Вообще многие поэты…» и пр.) приписан к ней Достоевским. Она перепечатана в «Критических статьях» Страхова (т. II, с. 251) с указанием на авторство Достоевского.
20
О степени его интереса к старой европейской живописи можно сулить по следующему его свидетельству: «Лет десять назад я приехал в Дрезден и на другой же день, выйдя из отеля, прямо отправился в картинную галерею».
21
Замечательно, что Мейербером восхищался и один из первых наших вагнерианцев, близкий друг и сотрудник Достоевского, Аполлон Григорьев: «Мейербера и Мендельсона, как вы знаете, я страстно люблю, – пишет он из Флоренции. – В Пальяно ревут и орут „Гугенотов“, и все жидовски-сатанинское, что есть в музыке великого маэстро, выступает так рельефно, что сердце бьется и жилы на висках напрягаются. Меня пятый раз бьет лихорадка – от четвертого до конца пятого. Это вещь ужасная, с ее фанатиками, с ее любовью на краю бездны, с ее венчанием под ножами и ружейным огнем». (Эпоха. 1865 г., II, 157).
22
Сближение Достоевского с импрессионистами стало обычным явлением в новейшей художественной критике. Сравнивая творческие приемы Сезанна и Достоевского, Мейер-Греффе отмечает их общую способность творить новые символы из отрывочных ходов мысли или из контрастов красочных пятен. Он признает их общей творческой атмосферой страсть, но не как средство прежних художников слова и кисти, а как самоцель, раскрывающую сущность нового героизма и новой мистики.
23
Время, 1862 г., март, с. 182.
24
Время, 1862 г., кн. 3, 7; 1863 г., кн. 2; Эпоха, 1864 г., кн. 5, 6, 7, 8, 12; Гражданин, 1873 г., с. 30, 395, 1148, 1181.
25
Достоевский не называет имени профессора, произнесшего эту фразу, но восклицание это стало в 1870 г. распространенным лозунгом среди немецких ученых, проф. Иегер (Jäger), например, заявил: «Нравственность засчитает новую победу, когда Париж будет разрушен». См.: Faguet «Le pacifisme», р. 147.
26
Таковы, например, в различных отделах Гражданина заметки: «Полиция и народное образование в Берлине, Вене и С.-Петербурге», «Часовой и наследник престола» и др. В одной из передовиц император Вильгельм I характеризуется, как огромная историческая личность, как «человек, опирающий свои действия на твердые нравственные начала и высокие идеи христианства и патриотизма». «Нам, русским, которые вечно всем недовольны, – говорится в другой статье, – можно поучиться у нынешних немцев умению уважать существующее и понимать его смысл» (Гражданин, 1873 г., №№ 2, 3, 15–16, 39, с. 49, 82, 1055).
27
Вот какие соображения убеждают нас в принадлежности этой анонимной заметки перу Достоевского. Почти все редакционные заявления Гражданина за 1873 г., по своему тону и слогу, не оставляют сомнений в том, что они написаны его ответственным редактором. Таким образом, эти непосредственные обращения редакции к читателям почти всегда брал на себя Достоевский. В приведенной заметке имеются также типичные для его языка обороты, подтверждающие наше предположение: таковы, например, следующие выражения: «восторженное состояние оплодотворит многие души»; «выйти из положения школьников и избежать презрения»; «задатки крепкой, многообещающей жизни» и пр. Язык заметки отличается тем напряжением, которое сказывается в склонности к некоторой гиперболизации выражений – к превосходным степеням, усилениям, логическим подчеркиваниям: «сильнейшее влияние», «самая вершина политического положения», «самые высокие стремления» и пр. Обращает на себя внимание частое употребление обычного в публицистике Достоевского эпитета существенный. В сравнительно короткой статье он встречается три раза: «существенная сторона дела», «существенная важность», «существенный вопрос».
Но, помимо данных стиля, имеются и внутренние указания на авторство Достоевского. Такие фразы, как: «нужно обратиться к духовной жизни народа, ибо народ держится не войском и живет не хлебом и мануфактурами, а теми идеями, которыми питаются его сердца и души»; или: «немцы, которые бывало смотрели на англичан и французов почти с такою же завистью, с какой лакей смотрит на знатного барина, теперь уже не имеют причины завидовать», – такие фразы и словесно и идейно, несомненно, вполне соответствуют тогдашним писаниям Достоевского.
Наконец, две фразы этой заметки почти буквально повторяются в «Дневнике писателя». В заметке говорится: «Начиная с тридцатилетней войны, немцев только били, все били, даже турки, и вдруг – немцы побили первую в мире по своей воинственности нацию». В «Дневнике писателя» Достоевский пишет о франко-прусской войне: «народ, необыкновенно редко побеждавший, но зато до странности часто побеждаемый, – этот народ вдруг победил такого врага, который почти всех всегда побеждал». (Соч., изд. Маркса, XI, с. 187). В заметке: «Нельзя не согласиться, что не только немцы знают, чем следует гордиться, но что у них есть чем гордиться». В «Дневнике писателя»: «Народ этот даже слишком многим может похвалиться, даже в сравнении с какими бы то ни было нациями» (X, с. 243). Если принять во внимание, что «Дневник писателя» приводит эти положения почти в той же форме через три и через четыре года после Гражданина («Дневник писателя», 1876 и 1877 гг.), станет невозможным предположение, что Достоевский повторяет здесь запомнившиеся ему чужие мысли. Ясно, что в обоих случаях он высказывает свое установившееся по данному вопросу убеждение.
28
Возможно, что Достоевский видел Бисмарка. В 1873 г., в год редактирования Гражданина Достоевским, состоялось торжественное посещение Петербурга Вильгельмом I, во главе свиты которого находились Бисмарк и Мольтке. Журнал Достоевского уделяет особенное внимание германскому канцлеру: «Вслед за членами императорской фамилии шли фельдмаршал Мольтке и Берг, за ними канцлер князь Бисмарк, в своем белом кирасирском мундире с андреевскою лентою через плечо», – описывает Гражданин церемонию дворцового приема. – «Что делает свита в промежутках между официальными появлениями? – спрашивает один из следующих номеров Гражданина. – Князь Бисмарк занимается делами, ездит по гостиным, от времени до времени садится в общественный дилижанс и гуляет en badaud, прислушиваясь к говору толпы: князь Бисмарк говорит немного и хорошо понимает по-русски». Наконец, в одном из следующих номеров сообщается о визите, который князь Бисмарк сделал пастору Мазингу, единственному из всех пасторов Петербурга, произносящему свои проповеди по-русски. Гражданин, 1873 г., №№ 17, 18, с. 496, 498, 532.
29
Сам Тургенев прекрасна выразил это в одном из писем к графине Ламберт. «В человеческой жизни есть мгновенья перелома, мгновенья, в которые прошедшее умирает и зарождается нечто новое. Горе тому, кто не умеет их чувствовать, – и либо упорно придерживается мертвого прошедшего, либо до времени хочет вызвать к жизни то, что еще не созрело». (Письмо VI от 3/15 ноября 1857 г. И. С. Тургенев. Письма к гр. Е. Е. Ламберт. М., 1915, 16. – Ср. также: Ю. Николаев. Тургенев, 1894, с.95).
30
Полное собр. соч. И. С. Тургенева, СПб., 1911 (изд. 5-е, Глазунова), 51. Последующие цитаты приводятся по этому изданию.
31
Литературные и житейские воспоминания. Соч. X, 42.
32
Письма С.Т., К. С. и И. С. Аксаковых к И. С. Тургеневу (1851–1852). «Русское Обозрение», 1891, VIII, 476.
33
«Русская Старина», 1883 г., X, 214.
34
В интересных «Воспоминаниях Е. М. Феоктистова», особенно близкого к Тургеневу в начале 50-х годов, находим ряд существенных свидетельств о коренной «аполитичности» писателя вместе с любопытной оценкой «Записок охотника»: – «Зная его (Тургенева) очень близко, я мог заметить, что не политические ереси, а только ереси в области искусства заставляли его выходить из себя…» Тургенев говорил о Цицероне: «Он родился быть литератором, а политика для литератора – яд». Заявление Тургенева о данной им «Аннибаловой клятве» Феоктистов считает «довольно странным в устах Ивана Сергеевича»: «Уж конечно никогда Тургенев борьбу с крепостным нравом задачей для себя не ставил». Затронув в своих «Записках охотника» обычную для того времени литературную тему, «Тургенев более чем кто-либо производил впечатление на читателей, но это потому, что он был неизмеримо талантливее других: никогда, однако, несмотря на Аннибалову клятву, он не увлекался тенденцией, не жертвовал для нее требованиями искусства, ибо был исключительно художником и всякого рода политические стремления и цели были ему совершенно чужды. Среди тогдашнего избранного кружка не встречал я человека, который, по самой натуре своей, был бы так мало склонен заниматься политикой, как Тургенев, и он сам сознавался в этом. „Для меня, главным образом, интересно не что, а как и кто“ – вот фраза, которую беспрерывно приходилось слышать от него близким ему лицам» и проч. – Из воспоминаний Е. М. Феоктистова. С предисловием и объяснениями Б. Л. Модзалевского. «Тургеневский сборник», под ред. А. Ф. Кони. СПб. 1921, с. 175, 181, 187.
35
«П. В. Анненков и его друзья», 553.
36
П. В. Анненков. «Литературные воспоминания». СПб., 1909, 470.
37
И. А. Гончаров. «Необыкновенная история», 115.
38
Письмо к гр. С. А. Толстой. «Вестник Европы», 1908. I, 211.
39
И. С. Тургенев. Письма к г-же Виардо и его французским друзьям. М., 1900, с. 18, 26, 29, 37, 73.
40
Соч., 1911. X 20.
41
Письмо к Полине Виардо 17/5 января 1848 г.
42
Как отмечает автор небольшого экскурса «Теньер в русской литературе», это имя привлекается у нас в первой половине столетия для определения характера писателя, «реального по направлению, бытового по содержанию». Еще Нарежный получает у нас прозвание «русского Теньера», впоследствии Н. Ковалевский в рассказе «Гоголь в Малороссии» (в «Пантеоне», ред. Ф. Кони 1841, ч. I, 16–29) обращается к имени фламандского художника для характеристики своей темы, а Белинский обозначает именами Рафаэля и Теньера два противоположные полюса художественного восприятия жизни («Ответ Москвитянину»). В духе теньеровской живописи изображают крестьянскую жизнь Григорович, Даль, Слепушкин, Ф. Н. Глинка, даже Кольцов. Теньер становится символом реализма в русской литературе и в таком смысле имя его доживает до 40-х гг. См. о нем также «Отечественные Записки» 1821 г., XII; «Литературная газета», 1831, № 32. – Вл. Данилов. Мелочи литературного прошлого. «Русский Архив»; 1915, I, 164–168.
43
Сближая «Записки охотника» с Шварцвальдскими рассказами Ауэрбаха, А. Е. Грузинский отмечает здесь некоторую близость в литературной манере, сходство в приемах стиля. Так начало рассказов «Татьяна Борисовна и ее племянник» или «Ермолай и Мельничиха», где автор вступает в прямое общение с читателем, приглашая его к совместному наблюдению, сильно напоминает начало ауэрбаховского рассказа «Брози и Мони», где применен тот же прием. (А. Е. Грузинский «И. С. Тургенев». М., 1918, с. 87–88).
44
Соч., I, 341, 359–361.
45
Другой пример такого же композиционного развертывания имеем в истории текста «Двух приятелей». В первой редакции (1853) смерть Вязовнина изображена в трех строках: «…вдруг у него закружилась голова и он упал в море. Пароход тотчас остановили, спустили лодки, но Вязовнин исчез навеки». Через шестнадцать лет, в окончательной редакции повести (1869) необходимая в композиционных целях смерть героя развертывается в пространный драматический эпизод с целым рядом новых лиц (m-elle Жюли, капитан Лебеф, лейтенант Барбишон, Лекок и Пиношэ) на фоне парижских бульваров, ресторанов, Шато де Флера и Венсенского леса, где и происходит фатальный поединок на шпагах.
46
Письма Тургенева к его немецким друзьям. «Вестник Европы», 1909, III, 267–268.
47
Письмо И. С. Тургенева к доктору И. Ф. Миницкому. «Вестник Европы», 1909, VIII, 631, 633.
48
Письма к Виардо, 49.
49
Письма, I, 48. 207, 404.
50
Письма, 197, 286; IV, 242, 256, 414, 502.
51
Письма, IV, 327, 420, 484, 507.
52
Из отдельных совпадений Мопассана и Чехова отметим монолог Тригорина о трагизме писательской судьбы («ловлю себя и вас на каждой фразе, на каждом слове и спешу скорее запереть все эти фразы и слова в свою литературную кладовую»)… Он находится полностью у Мопассана: «Мы без конца анализируем против собственной воли сердца и лица, жесты и выражения, и даже в страданиях делаем о них заметку и классифицируем в своей памяти»… (Sur l’eau, 108).
53
Речь в Российской Академии художественных наук в день празднования 50-летия Валерия Брюсова.
54
Серг. Соловьев. Воспоминания об Александре Блоке. «Письма Блока». Л., 1925, с. 38.
55
В новой книге М. А. Бекетовой «Александр Блок и его мать» имеется указание, что в «Признаниях», заполненных 21 июня (3 июля) 1897 г., Пушкин упоминается Блоком дважды в ответах на вопросы о его любимых русских поэтах и прозаиках. В том же 1897 г. он выставляет эпиграфом к своему переводу 1-й песни «Энеиды» пушкинский стих: «Люблю с моим Мароном»…
56
В цитированных выше «воспоминаниях» С. М. Соловьева имеются следующие указания на интерес Блока к Пушкину. На тетради стихов конца 90-х годов автор «Прекрасной Дамы» надписал в виде эпиграфа:
Он имел одно виденье…
В одном письме 1903 г. он цитирует Сонет («Суровый Дант не презирал сонета»). Летом 1911 г. «Блок предавался онегинскому сплину, говорил, что Пушкина всю жизнь рвало от скуки, что Пушкин ему особенно близок своей мрачной хандрой».
57
Перелом этот был правильно отмечен еще в 1908 году Модестом Гофманом: «Снежной маской что-то завершилось… Закончился первый период творчества Блока – романтический… И в спокойных, строгих, простых и величавых белых стихах „Вольные мысли“ Блок всходит на те вершины поэзии, где душа его роднится с душою Пушкина… Как странно и магически действует эта ясность тишины после снежных метелей и истерических криков!»
58
См.: Paul Stapfer «Dernières variations sur mes vieux thèmes». P., 1914. – G. Larroumet «Marivaux». P., 1910. – Brunet «Création et critique», «Mercure de France», 1924 (№ 622).
59
Письмо к издателю [ «Современника»], Атеней, 1924, I–II.
60
Весьма примечательно, что наша музыкальная критика строилась по образцам литературной, воспринимая ее традиции, формы и стиль. Интересны наблюдения в этой области Л. Л. Сабанеева: «Белинский, пользовавшийся в интеллигентных кругах 40-х и последующих годов непререкаемым влиянием как художественный мыслитель и критик, повлиял на русскую музыкальную критику, которая в эту самую эпоху впервые создавалась, повлиял на музыкальную эстетику в том смысле, что в нее невольно (и из подражания) перенесены были эстетические установки, сделанные в литературе Белинским, „по образцу и подобию“ его литературной критики. Даже самый слог Серова – подражание Белинскому, даже в недостатках он копирует „отца русской критики“. Но главный центр – не в этом, а в перенесении в музыку типа художественного анализа, установленного Белинским, и его эстетических предпосылок… Серов вышел из Белинского, вышел целиком и вполне, а ведь из Серова вышла вся музыкальная критика позднейших эпох, почти вплоть до наших дней, когда, наконец, в свои права вступает музыкальный анализ, и не только в музыке, но и в литературе». Л. Сабанеев. «Белинский и музыка». Сб. «Венок Белинскому», под ред. Н. К. Пиксанова, 107–108.
61
Оно дошло до нас в известном изложении Достоевского: «Однажды, разговаривая с покойным Герценом, я очень хвалил ему одно его сочинение – „С того берега“… Эта книга написана в форме разговора двух лиц, Герцена и его оппонента. – „И мне особенно нравится, заметил я между прочим, что ваш оппонент тоже очень умен. Согласитесь, что вас во многих случаях ставит к стене“. – „Да ведь в том-то и вся штука, – засмеялся Герцен. – Я вам расскажу анекдот. Раз, когда я был в Петербурге, затащил меня к себе Белинский и усадил слушать свою статью, которую горячо писал: „Разговор между господином А. и господином Б“. В этой статье господин А., т. е., разумеется, сам Белинский – выставлен очень умным, а господин Б., его оппонент, поплоше. Когда он кончил, то с лихорадочным ожиданием спросил меня: – „Ну, что, как ты думаешь?“ – „Да хорошо-то, хорошо, и видно, что ты очень умен, но охота тебе была с таким дураком свое время терять“. Белинский бросился на диван лицом в подушки, и закричал, смеясь что есть мочи: – „Зарезал! Зарезал!““» («Дневник писателя», 1873).