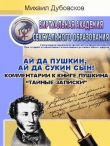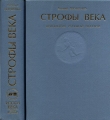Текст книги "Цех пера. Эссеистика"
Автор книги: Леонид Гроссман
Жанр:
Публицистика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 24 (всего у книги 34 страниц)
Точно так же нигде не чувствуется стремление Анны Григорьевны прикрасить самое себя, выставить свою личность в наиболее выгодном свете, утаить или хотя бы затушевать слишком повседневные черты своей биографии. С мудростью долголетнего жизненного опыта она не скрывает многих прозаических обязательств своей жизни, свойственных почти каждому человеческому существованию. Мы узнаем, как ей случалось подслушивать под дверьми, передавать «скабрезные анекдоты», сердиться, негодовать, подчас отказывать в помощи, придавать чрезмерное значение денежным вопросам и проч. Но откровенность и простодушие рассказчицы здесь невольно подкупают в ее пользу и придают ее воспоминаниям характер большой жизненности и правдоподобия.
II
Этими чертами определяется и литературный стиль книги.
А. Г. Достоевская явно стремится излагать факты с большой простотой, без всяких претензий на литературность.
Правильно взятый с первых же страниц спокойный и сдержанный тон летописного жанра почти нигде не изменяет ей. Она тщательно избегает словесной красивости, звучной фразы, эффектов композиции. Об этом свидетельствуют местами зачеркнутые в рукописи выражения вроде «в душе зазвучали струны», или же варианты к таким фразам, «вонзить нож в мое сердце», замененным более простым «огорчить меня смертельно». Все это свидетельствует о большом художественном такте и правильном понимании своей задачи. Работая пятнадцать лет над рукописями Достоевского, Анна Григорьевна прошла хорошую школу, научившую ее видеть высокое литературное совершенство в видимом отсутствии литературы. Вот почему на всем протяжении мемуаров мы нигде не чувствуем претензий автора на глубокомыслие или стилистический блеск. Ровно струящийся рассказ привлекает своей незастенчивостью, ясностью и строгой экономией словесных средств.
Но некоторый повествовательный дар, хотя бы и в изложении «семейной были», несомненно свойствен А. Г. Достоевской. Он сказывается в живом юморе некоторых описаний, и в естественной разговорности диалогических отрывков, и в драматизме отдельных сцен, и в меткой жизненности многих характеристик. Анна Григорьевна рассказывает легко и занимательно, с ней нескучно. Она прекрасно понимает ценность анекдотического штриха или остроумной реплики в культивируемом ею жанре и не упускает случая оживить и расцветить ими ткань своего повествования. При этом она обнаруживает зоркий взгляд и незаурядную наблюдательность. Она умеет мимоходом начертить пейзаж, костюм, лицо или обстановку характерными и четкими штрихами. Она понимает, что верное отражение конкретных мелочей ушедшего быта имеет самостоятельную ценность, представляет живой интерес для читателя, и в свою историю житейских отношений она охотно вводит эти забытые названия исчезнувших вещей.
Эта способность к живописному изображению здесь благодарно сочетается с широтой интересов и разнообразием личных отношений, которыми жила семья Достоевских. За свою долгую жизнь Анна Григорьевна видела не мало исторических перемен и часто имела возможность близко подходить к видным деятелям своей эпохи. Пережив четыре царствования и протянув нить своего повествования от канунов революции 1848 г. до канунов революции 1917 г., она мимоходом зачертила не мало лиц, мод, картин, событий и бытовых укладов. Мы находим здесь фигуры политических деятелей от Гарибальди и Победоносцева до депутатов Государственной думы и членов Государственного Совета, представителей литературы от Льва Толстого и Владимира Соловьева до полузабытых журналистов середины прошлого столетия. Бытовые черты из жизни русского зажиточного семейства эпохи Николая I – патриархальные обычаи, вкусы, политические убеждения, пирушки и празднества – здесь сменяются картинами трудного жизненного режима русского писателя второй половины XIX в., а скромные пейзажи северных губерний России и виды провинциальных уголков вроде Старой Руссы чередуются с декорациями Дрездена и Праги, Флоренции и Милана 60-х годов, т. е. с видами художественных центров старой Европы, еще не пережившей франко-прусской войны и не познавшей соблазнов позднейшего «американизма».
Так, наряду с интимной летописью, попутно и фрагментарно, разворачивается история нравов, не забывающая костюмов и мебели, специфических словечек эпохи и ее модных умственных вкусов, безделушек и анекдотов, газет и спектаклей. Все это мелькает в главах «Воспоминаний» в конкретных и живописных деталях, отвечая особым требованиям историзма в гонкуровском понимании этого слова. В этом отношении мемуары Анны Григорьевны могут послужить не только биографу Достоевского.
Но для историка литературы, для исследователя судеб русской книги – это особенно важный и нужный материал. Специалист здесь найдет в изобилии интересные и точные сведения по истории русского книжного дела и журналистики середины прошлого столетия, по вопросам издательской деятельности, взаимоотношений редакционной среды, литературных гонораров и проч. Имена писателей: Некрасова и Майкова, Огарева и Страхова, Гончарова, Тургенева и Толстого здесь переплетаются с фамилиями редакторов и издателей: Каткова, Стелловского, Кашпирева, Маркса. История русской печати здесь освещается с различных сторон и получает не мало ценных дополнительных сведений.
III
Но, разумеется, все это отступает на второй план перед основной и центральной темой – личностью Достоевского.
«Нигде так ярко не выражается характер человека, как в обыденной жизни, в своей семье», – формулирует свое глубокое убеждение автор «Воспоминаний». И обладая в этой области всей полнотой материалов, Анна Григорьевна раскрывает нам неведомые и неожиданные черты в личности своего мужа. Достоевский баюкающий детей, устраивающий им рождественскую елку, танцующий с женою вальс, кадриль и даже мазурку, как «завзятый поляк», под аккомпанемент детского органчика; творец «романа-мистерии», обнаруживающий тонкое понимание дамских нарядов вплоть до выбора туалетов для своей жены, питающий вообще пристрастие к изящным вещам – хрусталю, богемскому стеклу, вазам, художественным surtouts de table – все это дополняет неизвестными и характерными чертами доныне загадочный жизненный облик писателя.
А наряду с этими вкусами и склонностями Достоевского нам раскрывается не мало нового и области его духовных запросов и творческой работы. Мы узнаем, как Достоевский простаивал часами, умиленный и растроганный, перед Сикстинской Мадонной, а Христос Гольбейна вызывал на лице его выражение ужаса, как перед припадком эпилепсии. Интерес Достоевского к архитектуре московских церквей, венецианских соборов и дворцов, его любимые картины в Дрезденских, Флорентийских и Базельских галереях, приемы и методы его литературной работы, его книжные вкусы и любимые авторы – все это, частично известное и ранее, получает здесь развитие, углубление, дополнения и значительно укрепляет базу для точных исследований.
Наконец, столь темная до последнего времени история рукописей Достоевского получает в этой автобиографии свое исчерпывающее разрешение. Описанная Анной Григорьевной и полная глубокого драматизма сцена дрезденского сожжения рукописей «Идиота», «Бесов» и «Вечного мужа», так же объясняет нам общее состояние рукописного фонда Достоевского, как и рассказ о найденной по возвращении в Петербург, после четырехлетнего пребывания за границей, корзины с первоначальными набросками «Преступления и наказания» и других произведений 60-х годов.
Воспоминания Анны Григорьевны прежде всего, конечно, дневник женщины, в котором вопросы любви, ревности, материнства, домашнего быта со всеми его мелочами и трудностями ложатся основным грунтом повествования и повсеместно окрашивают его. Но вместе с тем эта книга наряду с письмами Достоевского представляет важнейший источник для его биографии в самый значительный период его творческих сил, идущий от «Игрока» и «Преступления и наказания» к «Братьям Карамазовым» и «Речи о Пушкине».
IV
Личность автора этих мемуаров заслуживает специального внимания. Анна Григорьевна не только «жена Достоевского», она имеет свои личные и немаловажные заслуги перед русской культурой. Ее большое жизненное дело еще ждет обстоятельного обзора и всесторонней оценки.
Натура А. Г. Достоевской была создана для широкого восприятия разнообразных жизненных впечатлений. В ней счастливо сочетались противоположные и, казалось бы, часто несовместимые свойства: поклонница 60-х годов, причисляющая себя к «освободительному» поколению, и в то же время ревностная исполнительница обрядов православной церкви, она совмещала повышенную нервность, быть может даже экзальтированность с железной волей и смелой решимостью в трудных житейских случаях. Широкие умственные и художественные интересы в ней уживались рядом с большим практицизмом и несомненной деловитостью. Свойственный ей некоторый мистицизм (вера в чудеса, в знамения свыше и вещие сны) нисколько не нарушал ее поразительной способности к систематизации всех житейских дел, всегда обдуманных у нее, рассчитанных и организованных до последних мелочей. Все это разнообразие свойств и вкусов направленное в сторону культа Достоевского, дало плодотворные результаты и заслуживает нашу благодарную память, а выполненное ею большое жизненное дело должно вызвать интерес и к ее личности.
Анна Григорьевна Достоевская (1846–1918) была представительницей особого типа русских женщин второй половины XIX века, – культурных, активных, фанатически преданных пленившей их идеологии. Неоднократно на протяжении своих воспоминаний она называет себя «современницей 60-х годов, твердо стоявших за право и независимость женщин», представительницей либерального поколения и проч. Это декларируется обычно не без некоторой гордости, и нужно признать, что Анна Григорьевна имела на это право. Она по натуре своей была родственна эпохе бурного оживления русской мысли и до конца сохраняла пленительные черты неутомимой деятельности и горячей преданности вдохновившему замыслу. На жизнь свою она смотрела как на принятый долг, постоянно стремясь превратить ее в подвиг. Если в юные годы Неточка Сниткина мечтала о естествознании и медицине, поступала в числе первых слушательниц на женские курсы, изучала стенографию, чтоб быть вполне независимой и не обременять собой маленькую семью, обладавшую несколькими домами в Петербурге, впоследствии выйдя замуж за Достоевского, она нашла свое призвание в служении творчеству великого писателя, связанного с ней судьбою. Через руки Анны Григорьевны прошли все произведения Достоевского от «Игрока» до «Братьев Карамазовых», и стенографические познания жены писателя оказались огромным облегчением в художественной работе Достоевского, совершенно преобразившим ее методы и систему.
Со смертью писателя, Анна Григорьевна принимается за распространение идей своего мужа, «всегда возвышенных и благородных», и с редкой неутомимостью выпускает одно за другим издания полного собрания его сочинений. Попутно она организует в Старой Руссе школу имени Достоевского и учреждает при Московском Историческом музее специальный отдел, в котором сохраняются вещи, принадлежавшие писателю, огромное количество его рукописей, полная иконография в оригинальных портретах и гравюрах, все издания произведений Достоевского и за немногими исключениями почти вся критическая литература о нем на самых разнообразных европейских и восточных языках. Основанный ею Музей побуждает Анну Григорьевну взяться за сложный и обширный библиографический труд – описание всего собранного ею, т. е. другими словами, к полному перечню всех изданий Достоевского и всех произведений о нем. Опубликованный ею в 1906 году «Библиографический указатель сочинений и произведений искусства, относящихся к жизни и деятельности Ф. М. Достоевского», обнимающий до 5000 нумеров представляет собой уникум русской литературной библиографии. Наконец, в довершение этого огромного, ответственного и трудного дела – организации литературного наследия и памяти Достоевского – Анна Григорьевна заполнила последние годы своей долголетней жизни работой над своими воспоминаниями, мимо которых не пройдет ни один писатель, интересующийся личностью и судьбой творца русского философского романа.
У Анны Григорьевны еще при жизни ее создалась репутация человека делового, практического, оборотистого, подчас даже доводящего до крайних пределов свою деловитость. Сложному издательскому делу, в котором она самоучкой достигла блестящих результатов, у нее приходили учиться совершенно незнакомые люди, вроде графини С. А. Толстой. В опубликованных недавно воспоминаниях ее дочери Любови Федоровны Достоевской говорится: «Достоевский был удивлен легкости, с которой моя мать складывала большие числа и владела тяжелым нотариальным языком».
Но эта практическая умелость Анны Григорьевны вызывала не мало нареканий по ее адресу и в конечном счете даже бросила довольно густую тень на ее облик, совершенно заслоняя от нас подлинные заслуги этой редкой труженницы. Еще при жизни Анны Григорьевны создалось мнение о ней, как о прижимистом дельце, и даже в печати появились памфлетические рассказы о жене знаменитого писателя, жившего и умершего в крайней нужде, но оставившего своей вдове литературное наследие, превращенное ею в огромный капитал. До сих пор принято характеризовать А. Г. Достоевскую, как сухого дельца, опытного бухгалтера и активного инкассатора. Если такие характеристики, видимо, не лишены оснований, ими во всяком случае далеко не исчерпывается личность и деятельность нашей мемуаристки.
Человек деловой, практический, знающий счет деньгам, Анна Григорьевна, конечно, в этом отношении была полной противоположностью детски наивного в денежных делах Федора Михайловича. Но этот контраст в их натурах, несомненно шел на пользу их общей жизни. Если сам Достоевский мог, как свидетельствует Анна Григорьевна, подписывать фиктивные векселя на огромные суммы, не решаясь отказать просителю, а подчас и ловкому дельцу, эксплуатирующему его доверие и младенческую непрактичность, Анна Григорьевна уже не только обережет его от таких сделок, но начнет активную борьбу с кредиторами, которую поведет умело, энергично и победоносно. Об этом свидетельствует целый отдел ее воспоминаний, в котором изложена тяжелая, упорная, изнурительная «борьба с кредиторами», обнаруживающая в жене писателя редкую энергию, сообразительность и даже, подчас, мужественную смелость.
Во всем этом, конечно, не мало практического умысла. Но едва ли можно упрекнуть за него Анну Григорьевну. Если мы вспомним, что этой «деловитостью» она не только оберегала спокойствие Достоевского, но, освобождая его от тяжелых забот, несомненно спасла его творчество, у нас едва ли хватит духу корить ее за излишний «практицизм». И если мы вспомним, прикинув соображения самого элементарного подсчета, что на 14 лет брака Достоевского падают 7 томов его полного собрания (т. е. больше половины всего написанного им за всю жизнь), то едва ли мы откажем деловитой Анне Григорьевне в нашей признательности и уважении. Если в результате ее житейской рассудительности для нас спасены хоть бы только несколько глав «Карамазовых» или «Бесов», которые могли бы при иных условиях никогда не увидеть света, то думается, что их переписчица заслуживает полного оправдания за свое умение наладить сносный жизненный режим своему мужу.
Да, конечно, Анна Григорьевна упорно и настойчиво вела свои счетоводные книги, покупала бумагу, бегала по типографиям, спорила с кредиторами, вела переговоры с издателями и книгопродавцами, стенографировала, переписывала, объявляла подписки, подводила балансы, становилась сама издателем, книгопродавцем, бухгалтером и даже простым писцом при творческой работе своего мужа. Это может показаться смешным и некрасивым, и это в сущности глубоко трогательно, как всякий незаметный, неэффектный и повседневный жизненный подвиг. Невольно вспоминается тот жонглер в рассказе Анатоля Франса, который принес Мадонне единственное, что он умел и мог, – свои прыжки, фокусы и акробатические выверты. Но когда строгие жрецы закричали о кощунстве в храме, статуя сошла со своего пьедестала и отерла краем одежды чело утомленного жонглера.
Так и Анна Григорьевна делала, что могла и умела, в том храме мысли, в который привела ее судьба. Она не ломала своей натуры, действовала, боролась, устраивала дела своего мужа и в результате служила великому творческому духу, горевшему в нем. Поблагодарим же ее за это и запомним с признательностью ее имя в летописях нашей духовной культуры.
V
Быть может, несколько личных воспоминаний о встречах и беседах с А. Г. Достоевской окажутся полезными для дополнения ее хроники.
Мне пришлось встречаться с Анной Григорьевной зимой 1916–1917 гг. в Петербурге и в Сестрорецком курорте, видеть ее уже после революции и, стало быть, беседовать с ней приблизительно за год до ее кончины.
Несмотря на свои преклонные годы, Анна Григорьевна отличалась редкой умственной свежестью и бодростью. Беседы с ней доставляли глубокое наслаждение. Она могла долгими часами, почти без перерыва рассказывать о событиях минувшего, о семейных преданиях, о людях прошлого и особенно, конечно, о том, кто в течение пятнадцати лет был ее жизненным спутником и стал для нее навсегда предметом благоговейного культа.
– «Я живу не в двадцатом веке, я осталась в 70-х годах девятнадцатого. Мои люди – это друзья Феодора Михайловича, мое общество – это круг ушедших людей, близких Достоевскому. С ними я живу. Каждый, кто работает над изучением жизни или произведений Достоевского, кажется мне родным человеком».
Труд своей жизни Анна Григорьевна далеко не считала завершенным. «Мне 72 года, – говорила она, – но я еще не хочу умирать. И иногда надеюсь, что проживу, как покойница мать, до конца девятого десятка. Много еще работы впереди, далеко еще не завершены задача и труд моей жизни».
И седая женщина в наколке, с увядшим, но все еще чарующим лицом, ясными, умными серыми глазами и сохранившейся юной улыбкой, показывала вам, как всякому, кто интересуется творчеством Достоевского, рукописи своих мемуаров, драгоценные реликвии ее личного архива и обширной переписки ее мужа.
– «Мне всегда нужна была какая-нибудь „идея“ в жизни, – продолжала с некоторым подъемом Анна Григорьевна. – я всегда была занята каким-нибудь делом, которое захватывало меня всецело. Даже наше имение на Кавказе я приобрела для своих внуков с особой целью: в жизни каждого бывают минуты, когда необходимо уединиться, вырваться из обычной колеи, пережить свое горе в стороне от обычной суеты. Пусть же мои внуки, – думала я, – имеют такое убежище, пусть оно послужит им в трудные минуты и поможет им пережить их. – И я глубоко убеждена, что в таком постоянном осуществлении своих замыслов – единственный путь к счастью. И я не могу пожаловаться, – я познала его. Иногда по вечерам на Кавказе, сидя в тишине сада и любуясь закатом, я мысленно спрашиваю: Господи! за что ты мне дал такую счастливую жизнь? Боже, как мне благодарить тебя за нее?»
– «Конечно, и мне знакомы тяжелые удары. Последний из них постиг меня сравнительно недавно, – заметно омрачается Анна Григорьевна, переходя к тяжелому впечатлению своей старости. – Вы можете себе представить, – продолжает она с заметным волнением, – какое ужасное впечатление произвело на меня несколько лет назад опубликование письма Страхова (об изнасиловании Достоевским малолетней), в котором он называет Феодора Михайловича злым и развратным человеком. У меня потемнело в глазах от ужаса и возмущения. Какая неслыханная клевета! И от кого же она исходит? От нашего лучшего друга, от постоянного нашего посетителя, свидетеля на нашей свадьбе – от Николая Николаевича Страхова, который просил меня после смерти Феодора Михайловича поручить ему написать биографию Достоевского в посмертном издании его сочинений. Если бы Николай Николаевич был жив, я, несмотря на мои преклонные годы, немедленно бы отправилась к нему и ударила бы его по лицу за эту низость».
Бледные щеки Анны Григорьевны заливает при этих словах румянец негодования, глаза загораются молодым огнем, голос звенит от возмущения и обиды. В эту минуту из-за ее благообразного облика милой старушки явственно выступает образ молодой женщины, по известному портрету-заметке Виктора Боброва на полях лучшего гравюрного изображения Достоевского. Тот же пристальный горящий взгляд вспыхивает под четко очерченными бровями.
– «Я решила тогда не выступать с опровержениями в печати. Но ответ Страхову я даю в моих „Воспоминаниях“ – книге, которая увидит свет только после моей смерти. Она объяснит многое в личности моего покойного мужа. Мне хотелось бы повторять всем то, что я ответила Льву Толстому на его вопрос: „Какой человек был Достоевский“? – „Это был, – ответила я, – самый добрый, самый нежный, самый умный и великодушный человек, каких я когда-либо знала…“ И недавно мне пришлось повторить это в совершенно других обстоятельствах».
И Анна Григорьевна с улыбкой передает эпизод, которому, видимо, придает значение.
– «Вы знаете, что в Мариинском театре готовятся теперь к постановке оперы молодого композитора Сергея Прокофьева на сюжет „Игрока“ Достоевского. Композитор не осведомился об авторских правах нашей семьи, и нам пришлось заявить об этом. Дело уладилось. Но в прошлое воскресенье Прокофьев нанес мне визит, чтобы лично загладить ошибку. Он привез мне партитуру своей оперы с авторским посвящением. В обмен он попросил меня написать что-либо в его альбом. Напрасно я отказывалась, пришлось уступить его настояниям. Но когда я уже взялась за перо, молодой музыкант заявил мне: „Должен предупредить вас, Анна Григорьевна, что альбом этот посвящен исключительно солнцу. Здесь можно писать только о солнце“. И знаете, что я написала?»
Я вспомнил об излюбленных Достоевским косых лучах заходящего солнца, о большом, пышном и славном закате в рассказе юродивой, о закатывающемся солнце у английского собора в «Подростке», где солнце – как мысль Божия, а собор – как мысль человеческая.
Но Анне Григорьевне не нужно было вспоминать. – «Нет, – сказала она мне, – я просто написала: „Солнце моей жизни – Феодор Достоевский. Анна Достоевская“».
Нужно было слышать, с какой сияющей гордостью и счастьем произнесла Анна Григорьевна эти слова, чтобы понять, какая глубокая жизненная правда дышала в них.
В последний раз я виделся с Анной Григорьевной уже после революции, в средних числах марта 1917 г. В своем сестрорецком уединении она показывала мне комнату и коридоры, ставшие также одной из арен происходивших событий.
– «Мы, конечно, знали здесь о всех событиях в Петрограде, но не ожидали, что они перебросятся к нам. Между тем, на третье или четвертое утро мы видим из окна нашего пансионата, как огромная толпа рабочих сестрорецкого оружейного завода направляется к курорту, вооруженная, с флагами, как на осаду. С какой целью – мы не могли понять. К нашему ужасу, толпа направлялась прямо к нашей гостинице, и через несколько минут мы услышали внизу хлопанье дверей и топот ворвавшейся массы, заполнившей весь нижний этаж нашего здания. Я заперлась здесь, в моей комнате, с ужасом думая о том, что все эти дорогие для меня вещи, все эти портреты, кипы рукописей, письма и книги обречены на гибель. Через несколько минут я слышу, как шум перебросился и к нам во второй этаж, и как мимо моей комнаты с шумным говором, криками и восклицаниями проносится толпа. Еще несколько мгновений и за дверью моей определенно сосредоточивается шумное оживление. До меня доносится обрывок фразы с именем Достоевского. В дверь мою раздается, к удивлению моему, сдержанный и почтительный стук. Перекрестившись, я открываю дверь и обращаюсь к шумной ватаге с мольбой отнестись по-человечески к старой женщине. Один из вожаков поторопился успокоить меня. „Мы знаем, кто вы, и ничего дурного не причиним вам. Нам необходимо только взглянуть в вашу комнату“. И действительно, они ограничилась простым внешним обзором, не производя обыска».
– «Оказывается, рабочие искали скрывшегося Протопопова. Кем-то был пущен слух, что он прячется в сестрорецком курорте. Слух оказался ложным. Протопопова не нашли, но зато неожиданно разыскали у нас Макарова. Здесь в пансионе многие были свидетелями тяжелой сцены, как бывший министр пробовал скрыться, высылая к рабочим свою жену с иконой».
Странно было слышать спокойный в даже сочувственный рассказ о таких замечательных сценах мартовских дней из уст той, которая переписывала в свое время гневные прорицания Достоевского о будущей русской революции.
Надежды Анны Григорьевны на долгую «до девятого десятка жизнь» не исполнились. Она скончалась 9 июня 1918 г. в Ялте семидесяти двух лет. Предполагаемые планы новых работ этой неутомимой труженицы оказались невыполненными[106].
Но Анна Григорьевна может безмятежно покоиться вечным сном на далеком южном кладбище. Она прожила свою жизнь недаром. В тишине, в тени, в неизвестности она с юных лет творила свое большое дело и сумела довести его до конечных результатов. Разнообразие ее занятий так же поражает, как и неослабная интенсивность ее деятельности. Книгоиздатель и книгопродавец, стенограф и библиограф, архивариус и коллекционер, мемуаристка и биограф, комментатор и основательница музея и школы – Анна Григорьевна не мало поработала на своем веку.
А главное – она сумела переплавить трагическую личную жизнь Достоевского в спокойный и счастливый период его последней поры. Анна Григорьевна, несомненно, продлила жизнь своему мужу и этим спасла для нас несколько великих книг. Недаром Достоевский называл ее в письмах к друзьям своим «ангелом-хранителем» и посвятил ей свое последнее завершающее произведение «Братья Карамазовы». Анна Григорьевна заслужила эту великую честь, и, конечно, имя ее стоит недаром на первой странице одного из величайших творений мировой литературы. С глубокой мудростью любящего сердца ей удалось разрешить труднейшую задачу – быть жизненной спутницей нервнобольного человека, бывшего каторжника, эпилептика и глубоко трагического творческого гения.
«Воспоминания А. Г. Достоевской» – свидетельство о жизни, полной заслуг, благородной активности, неутомимой культурной работы, часто в тяжелых и неблагоприятных условиях. Но вместе с тем они могут служить замечательным образцом того трудного и редкого жизненного явления, которое зовется деятельной любовью.
Беседы с Леонидом Андреевым

В критической литературе о Леониде Андрееве мы находим немного сведений о его художественных вкусах и читательских интересах. Обычные указания критики на его пристрастие к Эдгару По, Гюго или роману приключений относятся скорее к выводам исследователей, чем к свидетельствам самого писателя. Быть может, предлагаемые страницы воспоминаний о нескольких встречах с Андреевым смогут отчасти пополнить этот пробел и в некоторых пунктах определить с его собственных слов главные вехи пройденной им литературной школы, в центре которой неизменно находился Достоевский.
* * *
Знакомство мое с Андреевым относится к осени 1916 г. Писатель жил в то время в Петербурге, на углу Мойки и Марсова поля. С чувством признательной памяти я должен отметить, что появившаяся тогда в «Вестнике Европы» моя статья о композиции романов Достоевского обратила на себя внимание Андреева. Ему показалась близкой и, вероятно, отвечающей его собственной поэтике формула «авантюрно-философского романа» и попытка установить связь между знаменитыми созданиями Достоевского и забытым бульварным творчеством, уголовным фельетоном, литературой ужасов, «школой кошмара» и проч. Мысль о том, что роман Достоевского представляет собой как бы философский диалог, раздвинутый в эпопею приключений и словесно сливающий Платона с Эженом Сю, заинтересовала Андреева и стала предметом нашей первой беседы.
Но прежде всего – несколько слов об обстановке разговора и внешнем облике моего знаменитого собеседника.
Андреев, достигший в то время 45-летнего возраста, находился как бы на переломе, отделяющем эпоху зрелости от первых прикосновений близящейся старости. В фигуре его – грузной и даже несколько тучной – уже не было ничего молодого, гибкого или стройного. Тяжесть тела, быть может, деформированного сидячей жизнью, отражалась на свободе движений и особенно на походке Андреева. Во время беседы он любил расхаживать большими шагами по серебристому бобрику своего огромного кабинета, высоко откидывая голову и отбрасывая нервными движениями пряди падающих волос.
Лицо писателя сохраняло всю пленительность его ранних портретов. При первой же встрече, увидев фигуру, знакомую по стольким изображениям, я невольно залюбовался редкой красотой этого сильного и одухотворенного облика.
Бледное лицо в рамке черных волос, лишь в немногих местах прорезанных белыми нитями, поражало сочетанием правильности, энергии и напряженной выразительности своих резких черт.
Портрет Серова, кажется, лучше всех передает задумчивую и несколько страдальческую прелесть этой прекрасной мужской головы.
В обращении с окружающими Андреев держал себя на редкость просто и благожелательно. В беседе его не было ничего патетического, в манерах – ничего величественного. Человек, относящийся с вниманием и симпатией к своему новому собеседнику, словно стремящийся всячески забыть о своей славе и никого не подавлять ею – таков был общий тон разговора и манеры.
Письменный стол находился в глубине комнаты. Над ним висела огромных размеров картина в черной раме: не то сатана, не то падший ангел простирал большие крылья над остроконечными горными уступами (передаю лишь запомнившееся общее впечатление). Никаких красок – все было зарисовано густым черным углем по серому фону. Возможно, что это была одна из работ самого писателя, который, как известно, увлекался подчас живописью.
У одного из окон стоял длинный дубовый почти пустой стол, напоминающий верстак. На нем небольшая электрическая лампа с особым металлическим абажуром, пишущая машинка и кипа приготовленных больших листков чистой бумаги.
– Вот мой, рабочий стол, – указал Андреев. – Теперь я работаю почти исключительно ночью. Раньше приходилось с увлечением работать и днем. «Мысль», «Василия Фивейского», «Рассказ о семи повешенных» я писал днем[107].
Почерк у меня скверный. – как видите, пользуюсь машинкой. И считаю, что оно и в стилистическом отношении лучше. Какое-нибудь слабое, неудачное выражение в рукописи легко проскочит и прикроется почерком, а на машинке не простучишь его. Ляжет печатью на бумагу и станет нестерпимым для глаза. И помучишься, и отыщешь то единственное настоящее слово, которое соответствует оттенку твоей мысли.