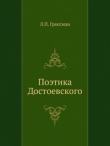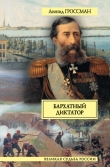Текст книги "Цех пера. Эссеистика"
Автор книги: Леонид Гроссман
Жанр:
Публицистика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 34 страниц)
I
У Блока, как у каждого великого художника, были свои предки. Открывая новые пути лирическому искусству, он в то же время замыкал его вековую традицию. Предтечи и учителя его поэзии восходят к далекому прошлому.
Из обширного круга европейской лирики к нему нередко неслись оплодотворяющие токи. Данте и Шекспир, Брентано и Гейне поднимали в нем «лирические волны». Жуковский и Лермонтов, Фет и Влад. Соловьев – вот его генеалогия в русской литературе. Об этих поэтах он любит вспоминать, называть их своими учителями, выбирать из них эпиграфы, откликаться подчас в своей лирике явственными отголосками на их темы. Это подлинная его духовная родословная.
Но в Пантеоне юного Блока имя Пушкина остается в тени. Автор «Прекрасной Дамы» зреет, растет, углубляет свои задания и обновляет лирические темы вне прямой зависимости от воздействий нашего первого поэта. Путь Блока идет мимо Пушкина.
В анкете, написанной 23 января 1915 г., на вопрос «какие писатели оказали наибольшее влияние» Блок отвечал: «Жуковский, Владимир Соловьев, Фет». Это именно та линия развития русской поэзии, которая идет параллельно пушкинской, приближаясь к ней подчас, но никогда не скрещиваясь и не сливаясь. Любопытно, что в графе «кредо или девиз» Блок выписал строфу из того же Соловьева («В царство времени все я не верю»…). Поэзия Пушкина и тут не послужила ему.
Сам Блок определил ранний этап своей поэтической культуры: «Первым вдохновителем моим был Жуковский… Запомнилось имя Полонского и первое впечатление от его строф:
Снится мне: я свеж и молод,
Я влюблен; мечты кипят.
От зари роскошный холод
Проникает в сад.
В университете всем существом моим овладела поэзия Владимира Соловьева»…
И как характерно сделанное им в эту эпоху заявление о Грибоедове: «он мне дороже Пушкина»[54].
К этой плеяде относится, конечно, Лермонтов. Он ощущается и в ранних стихах Блока, и в «Снежной маске». О нем Блок мимоходом оставил замечательную страницу – свидетельство о своем глубоком проникновении в лермонтовскую стихию. Это видение поэта о поэте, родном, мучительно-близком и неизменно вдохновляющем:
«Лермонтов восходил на горный кряж и, кутаясь в плащ из тумана, смотрел с улыбкой вещей скуки на образы мира, витающие у ног его. И проплывали перед ним в тумане ледяных игол самые тайные и знойные образы: любовница, брошенная и все еще прекрасная, в черных шелках, в „таинственной холодной полумаске“. Проплывая в туман, она видела сны о нем, но не о том, что стоит в плаще на горном кряже, а о том, кто в гусарском мундире крутит ус около шелков ее и нашептывает ей сладкие речи. И призрак с вершины с презрительной улыбкой напоминал ей о прежней любви.
Но любовница и двойник исчезали, крутясь, во мгле туманной, и возвращались опять, кутаясь в лед и холод, вечно готовясь заискриться, зацвести небесными розами, и снова падая во мглу. А демон, стоящий на крутизне, вечно пребывает в сладком и страстном ужасе: расцветет ли „улыбкой розовой“ ледяной призрак»?
Так умел говорить Блок о своих любимых. Осталась ли в записях его ранних раздумий аналогичная страница о Пушкине?[55]
II
Блоку в то время пришлось работать в области пушкинизма. Хотя в его новых книгах среди эпиграфов из Лермонтова, Тютчева, Фета, Вл. Соловьева, Шекспира мы не находим имени Пушкина, он принимает в 1906 г. предложение Венгерова прокомментировать ряд лицейских стихов поэта для нового критического издания его текстов.
В своей значительной части комментарии эти компилятивны и мало характерны для автора. История текста, проблема датировки, сводка мнений пушкинистов от Анненкова до Майкова, изложение контроверз, беглая установка современного состояния вопроса – вот главный состав этих «примечаний». Единственная оригинальная черта их – наблюдения поэта над стилем, инструментовкой, эвфонией Пушкина. Замечания эти кратки и носят случайный характер – не изучения, а скорее впечатления – но они вносят новый принцип в комментаторскую традицию, и в этом отношении представляют несомненную ценность.
Блок не любил этих лицейских опытов Пушкина. В стихотворении «Любовь одна…» он отмечает небрежность рифм, размера, эпитетов: «в этот период Пушкин не раз говорил о своем „слабом даре“ и, по-видимому, много мучился и отчаивался в стихах своих. И позднее, впрочем, он только ничтожную часть лицейских стихов признал годными для печати…»
По поводу «Окна» Блок высказывает предположение, что сам Пушкин, вероятно, здесь заметил чувственность, чуждую его душе, и потому сделал пометку «не надо»…
Относительно Элегии («Я думал, что любовь угасла навсегда») комментатор дает смягчающее заключение: «небрежность некоторых стихов, обычные эпитеты и римские имена Вакха, Амура и Дельфиры – все это указывает на то, что элегия для самого Пушкина не была серьезным отголоском душевных переживаний». – Стихотворение «К ней», – читаем далее, – «не принадлежит к лучшим стихотворениям этой поры, и „взыскательный художник“, окидывая его, был прав».
Ранняя поэзия Пушкина, органически связанная с французским поэтическим стилем XVIII века, оказалась чуждой творческому строю молодого Блока.
III
Но попутно поэт-пушкинист разбрасывает ряд ценных замечаний о звуковой и метрической стороне раннего пушкинского стиха. Так он отмечает преобладание плавных согласных в стихотворении «Лиле», однозвучное повторение «торжественных слов» в «Унынии»; «медлительно… мой… миг… множит… тяжкое… тревожит…»; инструментовку на а в начальных строках «К ней», дающую впечатление печальной торжественности:
В печальной праздности я лиру забывал;
Воображение в мечтах не разгоралось…
или, наконец, многократное повторение плавного л в вариантах «Слова милой» («считая десятой строкой заглавие, не менее творческое, чем сами стихи»).
Интересны более обширные экскурсы в область формального анализа. В стихотворении «Окно» Блок отмечает разрыв между строфами, немногочисленность эпитетов, их свойство «не обессиливать стих», характерные признаки сентиментальной манеры.
Отвечая Шевыреву, усомнившемуся в подлинности стихотворения «К Наташе», Блок отмечает, что «небрежность в рифмах скорее подчеркивает свежесть и легкость образов, так свойственную Пушкину, а простота и краткость выражений заставляют забывать чисто внешнее сходство с Дмитриевым или Мелецким».
Наконец анализируя стихотворение «Осеннее утро», Блок дает обширный стилистический комментарий:
«Из исправлений видно, что Пушкин исключил неловкие выражения и шероховатости стиха. Заботясь об единстве картин, он заменил „волны охладелые“ – „нивами пожелтелыми“, но зато, в ущерб конкретности, написал, „мертвый лист“ вместо „желтый лист“, по-видимому, только для того, чтобы не повторялось слово „желтый“ в двух стихах, стоящих рядом. Отметим еще замену архаического родительного падежа… Во всяком случае, видно, что Пушкин не придавал большого значения „Осеннему утру“ и писал его без „холода вдохновения“. Только в отдельных стихах слышится стремительность и сжатость пушкинского стиха, и в одном из них – любимая поэтом и свойственная преимущественно лирике – замена наречия прилагательным» и проч.
По поводу стихотворения «Наслаждение» Блок приводит интересную параллель между Пушкиным и своим любимым поэтом Жуковским. Он отмечает, что слово «дружба», замененное впоследствии словом «любовь» говорить об «amitié amoureuse», свойственной Жуковскому, но чуждой Пушкину: в любовных разочарованиях «поэт утешается только своим „скромным даром“ и „счастием друзей“» – традиционными утехами поэтов своего времени. Точно также и в «Наслаждении» воспоминание о Бакуниной проходит лишь легкой тенью; Пушкин, неспособный к одной amitié amoureuse в духе Жуковского, задает только элегические вопросы, и едва ли действительно надеется, что когда-нибудь его «мрачный путь озарится улыбкой спутницы…»
Работа Блока над пушкинскими текстами производилась задолго до появления «Символизма» Андрея Белого, установившего новые приемы «формального изучения» стиха. Разбросанные и отрывочные замечания Блока представляют несомненный интерес в нарождении и развитии у нас морфологического метода. Но в своем общем составе они свидетельствуют скорее об отчужденности младшего поэта от своего великого предшественника и ни в чем не проявляют той интимной близости к нему, которая так обычна в отношении к Пушкину для всех поколений русских лириков[56].
IV
Но когда закончилось брожение лирической стихии, когда Блок достиг «полпути земного бытия», когда молодость поэта сменилась золотой порой творческой зрелости, – этот романтик и музыкальнейший из наших лириков, русский Верлен или преемник воздушного Фета почувствовал непреодолимую тягу к чеканной бронзе пушкинской строфы[57].
В лирике Блока возникают понемногу пушкинские темы. Одна из них относится, впрочем, еще к 1904 г. Это «Медный всадник».
Он спит, пока закат румян,
И сонно розовеют латы,
И с тихим свистом, сквозь туман
Глядится змей, копытом сжатый.
Сойдут глухие вечера.
Змей расклубится над домами,
В руке протянутой Петра
Запляшет факельное пламя.
………………………………
Он будет город свой беречь,
И, заалев перед денницей,
В руке простертой вспыхнет меч
Над затихающей столицей.
Та же тема гораздо позже прозвучала и во 2-й гл. «Возмездия».
Другая пушкинская тема у Блока – это русский дендизм: Аи, соболя, рестораны, темные ложи – все это «онегинское» возрождается в «Снежной маске» и «Ночных часах». Правда, четкие облики ампирного Петербурга здесь захвачены метельными туманами зыбких и жутких годов начала нового столетия – предвестия «страшных лет России»… В одной из своих последних статей Блок с пристальным вниманием вгляделся в это своеобразное, интригующее и утонченное явление, пленившее Пушкина. Его статья о «русских денди» как бы замыкает круг, открытый в 1823 году первыми строфами «Онегина».
К этим пушкинским мотивам относится и тема Дон-Жуана, превосходно разработанная Блоком в 1910/1912 гг. Его «Шаги Командора» – один из интереснейших вариантов вековой легенды о Дон-Жуане, введенной в русскую поэзию Пушкиным.
В немногих строфах – своеобразная и острая характеристика трех персонажей трагедии:
Что теперь твоя постылая свобода,
Страх познавший Дон-Жуан?
……………………………………
Что изменнику блаженства звуки?
Миги жизни сочтены.
Донна Анна спит, скрестив на сердце руки,
Донна Анна видит сны.
Чьи черты жестокие застыли,
В зеркалах отражены?
Анна, Анна! сладко ль спать в могиле?
Сладко ль видеть неземные сны?
……………………………………
Тихими, тяжелыми шагами
В дом вступает командор.
Настежь дверь. Из непомерной стужи
Словно хриплый бой ночных часов —
Бой часов: – Ты звал меня на ужин.
– Я пришел. А ты готов?
В небольшом стихотворении Блока замечательно вскрыт глубокий трагизм этой вечночеловеческой темы, обращающей нас к таким же напряженным и сосредоточенным трактовкам ее у Моцарта и Пушкина.
Острый и обжигающий стиль «Каменного Гостя» отступает перед характерным блоковским синтезом метели, бреда и мрака. Это сообщает его «Шагам Командора» тот жутко-новый и современно-нервный колорит, в котором солнечный Мадрид легенды застилается черными туманами петербургской поэмы.
V
Последний период жизни Блока проходит под знаком Пушкина. К этому времени относится «Возмездие» – поэма наиболее близкая к классической традиции, – речь Блока о Пушкине и стихотворение его, посвященное «Пушкинскому Дому».
29 января (11 февраля) 1921 г., в 84-ю годовщину смерти Пушкина, Блок произносит в Доме литераторов свое слово «О назначении поэта». За полгода до смерти, как некогда Достоевский, он воздает свою хвалу поэту в таком же синтетическом тоне, в каком была произнесена автором незаконченных «Карамазовых» знаменитая речь 8 июня 1880 г.
«Наша память хранит с малолетства веселое имя: Пушкин. Это имя, этот звук наполняет собою многие дни нашей жизни. Сумрачные имена императоров, полководцев, изобретателей орудий убийства, мучителей и мучеников жизни. И рядом с ними это легкое имя Пушкин.
Пушкин так легко и весело умел нести свое творческое бремя, несмотря на то, что роль поэта не легкая и не веселая, она трагическая; Пушкин вел свою роль широким, уверенным и вольным движением, как большой мастер; и однако, у нас часто сжимается сердце при мысли о Пушкине: праздничное и триумфальное шествие поэта, который не мог мешать внешнему, ибо дело его внутреннее – культура, это шествие слишком часто нарушалось мрачным вмешательством людей, для которых печной горшок дороже Бога.
Мы знаем Пушкина – человека, Пушкина – друга монархии, Пушкина – друга декабристов. Все это бледнеет перед одним: Пушкин – поэт».
Не ограничиваясь этой речью, Блок тогда же (5 февраля 1921 года) обращается к тени поэта в своем посвящении «Пушкинскому Дому». В первых же строфах возникает вечно знакомый образ: «всадник бронзовый, летящий на недвижном скакуне»…
Пушкин! Тайную свободу
Пели мы вослед тебе.
Дай нам руку в непогоду,
Помоги в немой борьбе.
Не твоих ли звуков сладость
Вдохновляла в те года?
Не твоя ли. Пушкин, радость
Окрыляла нас тогда?
Вот зачем такой знакомый
И родной для сердца звук —
Имя Пушкинского Дома
В Академии Наук.
Вот зачем в часы заката,
Уходя в ночную тьму,
С белой площади Сената
Тихо кланяюсь ему.
Эти строфы считаются последним стихотворением Блока (во всяком случае – одним из его последних стихотворений). В его заключительных строфах чувствуется грусть расставанья и все оно звучит как прощальный привет земному. Образ Пушкина и явление пушкинской культуры, как великий стимул бодрости духа и указание для его дальнейших творческих устремлений, – с таким заветом отошел от нас Блок.
* * *
Почему же так труден был для него этот приход к Пушкину? Отчего таким медленным и длительным путем шло это восхождение поэта к поэту?
В русской поэзии отчетливо выделяются лирики двух типов – германского и романского. Латинский, галльский, французский дух образует у нас поэтов, глубоко отличных от группы северного, англо-саксонского или немецкого типа. Батюшков, Пушкин, Брюсов – создались римской или парижской культурой; Жуковский, Фет, Андрей Белый – германской. Блок в своих «Скифах» говорит о приятии обеих стихий:
Мы любим все: и острый галльский смысл,
И сумрачный германский гений…
Но поэтическая культура Франции была ему чужда. Вообще романский мир, несмотря на прекрасные «Итальянские стихи» Блока, был бессилен преодолеть его тягу к готике. В 1909 г., приехав из Милана в Наугейм, он приходит к заключению, что в Италии нельзя жить, и не перестает восхищаться – «красотой и родственностью Германии», считая, что эта «страна наиболее близкая России»…
Эта исконная тяга Блока к духовному типу Германии должна была отводить его от высшего выразителя у нас «острого галльского смысла»… И только в последнюю эпоху, пережив всемирно-историческую трагедию, приблизившись к последним граням земного бытия, Блок отрешился от своих расово-культурных пристрастий и воспринял Пушкина, как величайшее явление мировой лирики.
В «испепеляющие годы» смены двух культур произошла эта творческая встреча двух поэтов. Великая поэтическая эпоха, начатая Пушкиным, завершилась со смертью Блока.
БОРЬБА ЗА СТИЛЬ
Опыты по критике и поэтике
1927
I
Жанры художественной критики

Je tiens la critique pour la marque la plus certaine par laquelle se distinguent les âges vraiment intellectuels… Je la tiens pour un de plus nobles rameaux dont soit decoré dans l’arrière saison l’arbre chenu des lettres.
Anatole France – «La vie littéraire», II.
I
В истории русской критики давно уже не все обстоит благополучно. Точнее – изучение нашей обширной и богатой критической литературы, выдвинувшей ряд классических писателей с длительным и глубоким влиянием, производится по совершенно случайным принципам и направляется по произвольному выбору. До сих пор здесь не определен точно предмет изучения и не выработаны его основные приемы. Теория поэзии, столь оживившаяся за последние годы, сюда не заглядывает, и художественная критика остается по-прежнему какой-то Золушкой в семье литературных жанров, тщетно ожидающей своего возведения в ранг полноправного словесного вида.
Главное зло – полная неопределенность материала, подлежащего изучению и, в связи с этим, беспримерная расплывчатость понимания самого термина «критика». В существующие у нас обзоры, в соответственные главы «историй», учебников или монографий по отдельным авторам неизменно включается самый разнообразный и случайный материал. Под видом критики изучается философия, политическая публицистика, филологическая наука, подчас популяризация естествознания или теоретическая педагогика, т. е., другими словами, почти все виды прозы, не входящие в беллетристику. Критика как литературный жанр sui generis до сих пор не осознана исследовательскою мыслью.
Этим объясняется, по-видимому, то, что у нас история критики принимала характер какой-то универсальной научной энциклопедии, обнимающей все виды знания. Поистине наши обзоры литературно-критических явлений превращались в своеобразные «синтезы наук». Так, в известной «Истории русской критики» Ив. Иванова широко изучается эстетика, чистая публицистика, философия, социология и т. д. Такие темы, как научные идеи сенсимонизма, судьбы западной философии в России, «вопрос о русском среднем сословии», «славянофильство и западничество» или «психология нигилизма», входят в качестве самостоятельных частей в обзор критической литературы. У нас считалось, и, кажется, до сих пор считается, вполне естественным покрывать это пестрое разнообразие тем и изучений термином одного литературного жанра.
В этом смысле показательна «История русской литературы XIX ст.» Ник. Энгельгардта, где под термином «критика» производится смешение не только литературы, науки и общественности, но даже быта и нравов. Мы прекрасно знаем, что книга Энгельгардта вообще далека от совершенства. Но все же примечательно, что в других ее отделах (роман, драма, поэзия и т. д.) мы подобной теоретической анархии не встречаем. Между тем, в злополучном отделе критики мы найдем не только «оды Державина» или «Историю русского народа» Полевого, но и такие темы, как «прусский министр Штейн на русской службе», «русский католицизм», «славянский вопрос», «сатира Щедрина», и даже такие курьезы, как «трусость Смирдина», «балерина Фанни Эльслер и ее влияние на судьбу Каткова», «железнодорожная вакханалия», «театр Буфф» и проч. и проч. Все это поистине газетное разнообразие тем по политике, общей журналистике, театру и даже скандальной хронике обнимается единым универсальным и многострадальным термином – «критика».
Совершенно очевидно, что ни один литературный жанр не выдержал бы такого бурного напора разнородных материалов и не мог бы стать объектом таких безграничных исследовательских притязаний. Ни поэзия, ни драма, ни роман никогда бы не потерпели подобного вторжения в свои четко очерченные владения самых разнообразных проблем, тем и дисциплин, представленных подчас в чистейшем их виде и беспримесных образцах.
Почему же в таком совершенно ненормальном состоянии пребывает до сих пор литературная критика? И нет ли возможности вывести ее из этого хаотического брожения теорий и мнений и восстановить, наконец, в ее утраченных и бесспорных правах на звание самостоятельного литературного жанра?
II
Что же такое литературная критика? Имеет ли она вообще право притязать на высокое звание литературы?
Долгое время критика считалась каким-то низшим видом писания, не достойным вхождения в подлинную «литературу». Известный мемуарист Вигель говорит в своих записках, что в его время критикой считали «брань и поношение». Еще раньше Новиков в «Покоящемся трудолюбце» изображал критиков как людей «угрюмых и свирепых». Имена античных литературных судей – Зоила и Аристарха – получили явно сатирический характер и применялись в качестве позорящей клички к современным журнальным обозревателям.
Это мнение утвердилось надолго, и отдаленное его воздействие сказывается вплоть до наших дней. Незадолго до войны вышел специальный сборник, объединивший ответы видных беллетристов на анкету о критике. Почти все сходились на мнении, что критиков следует приравнять к слепцам, мешающим лошади работать. И, наконец, уже совсем недавно, на одном из съездов пролетарских писателей высказывалось старинное мнение о том, «что критики – просто неудавшиеся художники и что поэт должен идти своей дорогой, не прислушиваясь к их голосу».
В основе этих отрицательных оценок лежит противоположение творческих и аналитических умов. Поэзия и критика представляются часто двумя полярными областями. Способность наблюдать, понимать и судить исключает, по мнению многих, дар создавать, выдумывать и творить живые образы. Эти творческие устремления, в свою очередь, несовместимы с особым умственным уклоном к логизирующим суждениям и критическим оценкам.
Против такой антитезы решительно восстает литературная практика. История словесного искусства не знает этого разделения на творческие и критические сознания. Мы находим превосходные страницы подлинной критики у Пушкина, Гоголя, Достоевского, Гончарова, Тургенева. Нужно ли настаивать на том, что «Речь о Пушкине», «Мильон терзаний», или «Гамлет и Дон Кихот» принадлежат к шедеврам русской критики? Приходится ли доказывать, с другой стороны, что классические статьи наших критиков-профессионалов представляют высокие образцы словесного искусства? И не следует ли признать вслед за Реми де Гурмоном, что всякое ценное достижение в любом литературном жанре – в поэзии ли, романе или критике неизбежно принимает творческий характер? Если всякое живое искусство заключается в особом даре создавать «новое», нельзя усматривать в одном жанре сплошное проявление созидательных способностей автора, в другом – исключительное теоретическое «понимание»; гораздо правильнее, по мнению автора «Книги масок», исходить из другого более простого и более верного разделения писателей на своеобразные и малооригинальные умы. И это, конечно, вне зависимости от литературных областей, ими разрабатываемых. Наличность творческого момента не может определяться жанровыми признаками.
Традиционные разделы литературы явно не соответствуют подлинному смыслу нашего представления о творчестве. Многие западные исследователи давно протестуют против того условного и явно искажающего понимания «творчества», при котором Ренан или Тэн оказываются лишенными звания творцов, в то время как Дюма или Эжен Сю получают на него неотъемлемое право. «Чтоб создавать, как Тэн, – замечает один новейший исследователь, – нужно обладать своеобразным видением мира, глубоко личным воззрением на человека, жизнь и природу. Для написания Трех мушкетеров всего этого не требуется».
Не так ли и в плане нашей литературы многие критики, историки и философы являются, очевидно, носителями тех подлинно творческих сил, которых бывают нередко лишены беллетристы. Не ясно ли, что Белинский, Апполон Григорьев, Ключевский или Гершензон – в большей степени творцы, чем Крестовский, Данилевский или даже Боборыкин и Эртель? Перевес чисто художественной стоимости, не говоря уже об идеологической, здесь, конечно, на стороне «теоретиков».
Но для того, чтобы стать рядом с романистом, поэтом или драматургом, критик должен так же заботиться об артистической стороне своих писаний, как и они. Чтоб оправдать свое право на звание литературного жанра, критика должна быть творчески насыщенной. Художник в области суждений и оценок так же стремится к живым словесным созданиям, как и авторы повестей или драм. О живых произведениях искусства необходимо давать живые оценки. В качестве особого вида искусства критика обладает той жизненной мощью, которая придает своеобразный характер изучаемым ею произведениям. Писатель об искусстве вбирает в себя эти жизненные силы искусства, которые отражаются и как бы длятся в его словах. В этих случаях изучение искусства перестает быть «объективным анализом» и становится подлинным воссозданием отраженной жизни. Критика, порожденная искусством, т. е. явлением глубокой жизненной силы, также представляет собой живое искусство. Она воссоздает атмосферу художественного создания, схватывает и передает целостное впечатление о нем. Она рассматривает произведения искусства, независимо от эпохи их создания, как актуально живые силы, формирующие современность. Ибо понять произведение искусства, значит, прежде всего уловить в нем живые отзвуки на голоса новых поколений. Подлинный критик вскрывает творческую драму художника под знаком своего времени, – ему нужно для этого высокое писательское ощущение текущей эпохи и подлинные свойства драматического изображения. Такая критика не только не вредит пониманию художественного создания, она поддерживает беспрерывную связь между шедевром и новыми поколениями. Ибо создание искусства живет в столетиях только благодаря возобновляющимся отражениям творческой критики.
Это сообщает нам необходимый материал для определения. Под критикой следует понимать особое словесное искусство, задача которого судить о свойствах художественного объекта как в литературе, так и в других областях изящного творчества. Особые научные приемы (критика текстов, критика источников, составление «критических» изданий и проч.) не относятся, конечно, к области критики, как литературного жанра.
Необходимо только помнить, что критика – как, впрочем, и всякое иное художество, – ни в какой мере не исключает логики, понимания, известной доли рационализма. Право рассудка совершенно неотъемлемо от всякого художественного процесса. Недаром, по тонкому замечанию Ницше, суждение художника, необыкновенно обостренное и опытное, не перестает отбрасывать, выбирать и комбинировать. Так по черновым тетрадям Бетховена видно, что он лишь понемногу создавал свои самые знаменитые мелодии и как бы извлекал их из бесчисленных набросков. Ставшие теперь доступными нам, записные книжки к романам Достоевского свидетельствуют о такой же критической работе романиста, беспрерывно бросающего на бумагу все новые и новые замыслы, из которых лишь строго отобранные и необходимые фрагменты входили в состав законченного романа. Критическое чутье художника здесь работало с необыкновенной напряженностью и неутомимой зоркостью.
Этот элемент, конечно, необходим и в критике. И это словесное искусство исходит из разума и синтезирует интуитивную природу всякого творчества с рассудочными основами познавания. В свое время мне пришлось писать об Аполлоне Григорьеве:
«Интуитивное понимание литературных явлений при самой тщательной проверке критических интуиций всеми средствами рассудочного познавания – такова постоянная схема григорьевского метода. Стремление найти безошибочные формулы для всех своих художественных восприятий и высказать их будящими и волнующими словами, новый метод беспрестанно проверяемого импрессионизма, новая литературная манера страстного и вдумчивого комментария, постоянная порывистость, нервность и живость критических впечатлений, при вечной заботе о их точности и правдивости, беспрерывная работа рассудка, вооруженного хронологией, лингвистикой, психологией – целыми арсеналами цифр, терминов и имен с попутными исканиями чутья, угадывания, прозрения, – таковы основные приемы его метода. От опыта, от протокола, от дисциплины и анализа к свободному угадыванию и творческому прозрению, от памяти к воображению, от рассудка к интуиции, – таковы пути его критики».
Думается, что только такое гармоническое сочетание знания и творчества отвечает подлинной природе литературной критики.
III
Но обращаясь к знанию, к опыту и рассудку, критика никогда не должна стремиться стать наукою. Здесь необходимо самое отчетливое и строгое разграничение. Необходимо признать, что критика не призвана заменять ни филологию, ни поэтику, ни лингвистику, ни историю литературы. У нее есть своя природа и своя область действия. Соприкасаясь с целым рядом дисциплин и питаясь многими из них, литературная критика никогда не может заменить их и не должна стремиться с ними слиться. В так называемой «научности» критических писаний кроется опасность подменить подлинную природу литературного жанра посторонним и чуждым составом.
По поводу засилия эрудиции в критике возражал еще в середине XIX века Сент-Бёв: «В случае преувеличения этой ученой части, критик оказался бы чрезмерно освобожденным от мнений, идей и особенно от таланта. Ценою какой-нибудь неизданной страницы можно было бы считать себя освобожденным от необходимости иметь вкус. Точка зрения, эта легкая вещь, рисковала бы потонуть в документах».
И нужно признать, что дальнейшая эволюция критики подтвердила правильность опасений Сент-Бёва. Тенденция к наукообразности в критике явно искажала ее природу и понижала ее значение. По верному наблюдению французского исследователя Поля Стапфера, наиболее преходящая сторона писаний литературного критика является именно та «научная» часть, в которой многие видят все достоинство его работы: исторические и биографические изыскания, критика текстов и проч. – словом все, что претендует на так называемую научную солидность. Ибо эта ученая основательность в критике – одна видимость. Истина, которая казалась точно установленной, подвержена беспрерывным пересмотрам; изыскания вечно возобновляются, выводы беспрерывно меняются и отменяются: последнее издание, новейший авторитет – вот единственно с чем считаются: так что если что-нибудь обладает подлинной длительностью, то это, конечно, не документальный фонд работы критика, а та живая литературная форма, в которую она облекается, т. е. именно то, в чем его мысль, развиваясь свободно и творчески, привносит личный момент к внешним и объективным данным.
История критики дает тому разительные примеры. Белинский писал свою обширную монографию о Пушкине, не зная, вероятно, целой трети пушкинских текстов, ставших известными лишь впоследствии: – сюда относятся все письма поэта, его дневники, ряд его критических статей, Гаврилиада, многие шедевры его лирики. Со стороны текстовой полноты (т. е. документального фонда работы) труд Белинского, конечно, совершенно устарел; и он тем не менее жив до сих пор своими творческими оценками, своими художественными характеристиками, своим живым динамическим и взволнованным стилем, который открывал нам в этой работе прекрасную и, может быть, неугасимую зарю русского пушкинизма. Труд, устаревший с научной стороны, живет до сих пор своей словесно-художественной мощью.
И так всегда. То, что называется современным состоянием науки, неумолимо кассирует ученые положения критика, никогда не посягая на литературно-ценные части его работы. Диссертации дряхлеют, художественные этюды остаются.