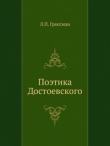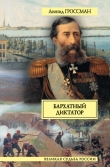Текст книги "Цех пера. Эссеистика"
Автор книги: Леонид Гроссман
Жанр:
Публицистика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 17 (всего у книги 34 страниц)
Хоть поздно, а вступленье есть (VII, 55)
Иногда то же значение имеет законченное, полновесное сравнение, подчас тоже не лишенное налета шутки: «Как Чацкий с корабля на бал»; «Как ты, божественный Омир»; или же:
Подобный ветреной Венере,
Когда, надев мужской наряд,
Богиня едет в маскарад (I, 25)
Наконец, помимо афоризма и эпиграммы, онегинская pointe отмечена подчас признаком усиленной картинности, образной или звуковой живописности, зрительного или мелодического эффекта, который удачно срезает строфу. Такие гармонически-организованные строки, как «Язык Петрарки и любви» или «Напев Торкватовых октав», «Как на лугу ваш легкий след», «Хвалебный гимн отцу миров» – служат таким же естественным финалом, как и более картинные, часто конкретно-живописные:
Меж сыром лимбургским живым
И ананасом золотым (I, 16)
Сюда гусары отпускные
Спешат явиться, прогреметь,
Блеснуть, пленить и улететь (VII, 51)
Или же – образ необыкновенной глубины и пленительности:
И даль свободного романа
Я сквозь
магический кристалл
Еще неясно различал (VIII, 50)
Таково богатое разнообразие строфических окончаний в «Онегине»; то изречение или отточенная максима, которая как бы создана для цитации, для эпиграфов и готова стать поговоркой, как стих «Горя от ума», столь оцененный в своей афористичности Пушкиным; то легкая словесная карикатура или ироническая арабеска, подчас дружески безобидная, порой дразнящая, а нередко намеренно язвительная; то поражающая своим эффектом чисто гармоническая или образная картина, разрывающая неожиданным ярким видением разговорную ткань повествования, – таково важное значение онегинской коды, понимаемой в ее стилистической функции, как строфическая pointe.
3. Аналогия с сонетом
Количество стихов в онегинской строфе – четырнадцать, и возможность ее деления по принципу двух четверостиший и двух трехстиший соблазняет на сближение ее с формой сонета.
В синтаксическом отношении онегинская строфа часто распадается на такие четыре как бы сонетных части:
1-й катрен: Он знак подаст: и все хлопочут;
Он пьет: все пьют и все кричат;
Он засмеется: все хохочут;
Нахмурит брови: все молчат:
2-й катрен: Он там хозяин, это ясно.
И Тане уж не так ужасно,
И любопытная теперь
Немного растворила дверь…
1-й терцет: Вдруг ветер дунул, загашая
Огонь светильников ночных.
Смутилась шайка домовых,
2-й терцет: Онегин, взорами сверкая,
Из-за стола гремя встает;
Все встали: он к дверям идет (V, 18)
Такие же терцеты нисходящей части естественно получаются в целом ряде строф:
Ни Скотт, ни Байрон, ни Сенека,
Ни даже дамских мод журнал
Так никого не занимал:
То был, друзья, Мартын Задека,
Глава халдейских мудрецов,
Гадатель, толкователь снов (V, 22)
Четкие разделения нисходящей части на терцеты находим и в других строфах:
Он рыться не имел охоты
В хронологической пыли
Бытописания земли;
Но дней минувших анекдоты
От Ромула до наших дней
Хранил он в памяти своей (I, VI)
Или:
У скучной тетки Таню встретя,
К ней как-то Вяземский подсел
И душу ей занять успел.
И близ него ее заметя,
Об ней, поправя свой парик,
Осведомляется старик (VII, 49)
Обычное разделение восходящей части на два катрена едва ли требует доказательств.
Мы видим, что в целом ряде случаев нисходящая часть распадается ритмически и синтаксически на два отчетливых терцета по рифмовке abb – acc. Поэтому предлагаемое деление строфы по принципу 4+4+3+3 также оправдывается в ряде случаев ритмико-синтаксической композицией, как и принимаемое обычно деление 4+4+4+2[73]; оно действительно имеет широкое применение в романе, но далеко не исключительно в нем. Статистический подсчет показывает, что на общее количество строф романа целая треть распадается в своем Abgesang’е на терцеты[74].
Таким образом онегинская строфа зачастую распадается на два четверостишия и два терцета, естественно образующих строфический рисунок сонета.
Но отличительный признак этого «стихотворения с закрепленной формой» (Poéme à forme fixe), как известно, – принцип рифмовки, вне которой нет подлинного сонета. Оба четверостишия должны быть написаны во всяком случае на одни и те же две рифмы, каковы бы ни были их сочетания. Та же формула АВ охватывает оба кватранта. Первые восемь строк подчинены двум рифмам.
Как правило, мы этого, конечно, не находим в онегинской строфе. Но ее тяготение к сонетной форме выражается в том, что в романе попадаются правильные сонеты не только в смысле строфического сечения, но и в чисто рифменном отношении. Некоторые строфы «Онегина» дают нам типичные сонеты, разбитые на два кватранта и два терцета, при чем начальные четверостишия написаны целиком на две одинаковых рифмы.
Татьяна, по совету
няни
Сбираясь ночью
ворожить,
Тихонько приказала в
бане
На два прибора стол
накрыть
;
Но стало страшно вдруг
Татьяне,
И я – при мысли о
Светлане
Мне стало страшно – так и
быть,
С Татьяной нам не
ворожить.
Татьяна поясок шелковый
Сняла, разделась и в постель
Легла. Над нею вьется Лель.
А под подушкой пуховой
Девичье зеркало лежит.
Утихло все. Татьяна спит (V, 10).
Помимо естественного строфического сечения, мы имеем здесь обязательную сонетную рифмовку в кватрантах: няни – бане – Татьяне – Светлане; ворожить – накрыть – быть – ворожить, т. е. по четыре консонирующих в рифмах стиха (вместо обязательных двух[75]).
Точно так же в другой главе:
Не мадригалы Ленский пишет
В альбоме Ольги молодой;
Его перо любовью дышит,
Не хладно блещет остротой;
Что ни заметит, ни услышит
Об Ольге, он про то и пишет:
И полны истины живой
Текут элегии рекой.
Так ты, Языков вдохновенный,
В порывах сердца своего
Поешь, Бог ведает, кого,
И свод элегий драгоценный
Представит некогда тебе
Всю повесть о твоей судьбе (IV, 21).
Рифмовка кватрантов сохраняет и здесь сонетный принцип: пишет – дышит – слышит – пишет; молодой – остротой – живой – рекой, т. е. два четверостишия выдержаны в двух рифмах.
Близость онегинской строфы к сонетному построению представляет интерес и для определения тематической композиции каждой строфы, т. е. чередования в ее пределах нескольких тем.
При всем разнообразии пушкинской стансы в «Онегине», в ней часто темы распределяются по принципу сонетного расположения: 1-й кватрант – основная тема, 2-й кватрант – ее развитие, или же новая, но родственная тема; 1-й терцет – перелом в рассказе и новая тема, захватывающая часто и 2-й терцет, чтоб разрешиться в заключительном двустишии или последнем стихе, замыкающем и завершающем все течение рассказа.
Возьмем для примера строфу 20 главу VI – Ленского перед поединком:
1-я тема
: Домой приехав, пистолеты
Он осмотрел, потом вложил
Опять их в ящик и раздетый
При свете Шиллера открыл;
2-я тема
: Но мысль одна его объемлет;
В нем сердце грустное не дремлет;
С неизъяснимою красой
Он видит Ольгу пред собой.
3-я тема
: Владимир книгу закрывает,
Берет перо; его стихи,
Полны любовной чепухи,
Звучат и льются.
Кода
:
Их читает
Он вслух в лирическом жару,
Как Дельвиг пьяный на пиру (VI, 20).
Таким образом, три сменяющихся темы: осмотр пистолетов – видение Ольги – писание стихов – замыкаются кодой, образом пьяного Дельвига на пиру, при чем это сонетное расположение тем придает большую стройность и устойчивость всей строфе.
Такое же тематическое расположение, близкое к сонетному типу, мы находим, например, в строфе 43-й главы I: «И вы, красотки молодые…» Мы имеем опять три темы: красотки молодые – литературные опыты «Онегина» – их бесплодие и, наконец, заключительная шутка о «цехе задорном», которая замыкает типической pointe всю строфу.
Характерна в этом отношении и строфа 6-я главы VII, описание памятника Ленского: первая и основная тема – лесной пейзаж («Меж гор, лежащих полукругом…»); далее развитие первой темы и новая деталь – гробница («Там соловей, весны любовник…»); третья тема – эпитафия («Владимир Ленский здесь лежит…»). И наконец, кода: краткий заключительный возглас надгробной надписи, завершающей не только строфу, но как бы целую жизнь: «Покойся, юноша-поэт!».
При большой свободе и разнообразии онегинской строфы мы не всегда находим в ней этот принцип тематического построения; мы и здесь можем говорить только о большей или меньшей типичности данного приема, имея в виду бесконечную подвижность и пестроту строф романа. Совершенно очевидно, что онегинская строфа не выдерживает сравнения с классическим типом строгого канонического сонета, например Петрарки или Эредиа. Но необходимо иметь в виду, что практика сонетного искусства знает немало других выявлений той же формы. Сонеты разговорные, шутливые, каламбурные, краткостопные (вплоть до единой односложной стопы, как в известном сонете | фокусе: Fort | Belle | Elle | Dort | Sort| Frêle | Quelle | Mort! и т. д.) – все это достаточно показывает, насколько сонетная форма не стеснялась признаками тематики или художественного стиля, а широко охватывала самые разнообразные задания и жанры.
При этом сонет далеко не всегда являл тенденции к изолированной замкнутости в своей композиции. Группировка сонетов в циклы, форма венка сонетов, где каждая часть органически спаяна со всеми звеньями цепи, строфическая роль сонета в больших поэмах, как, например, в «Venezia la Bella» Аполлона Григорьева – все это выдвигает значение сонета как строфы. Это необходимо иметь в виду при сближении онегинской стансы с сонетом.
Вообще речь может идти здесь не об отождествлении этих двух стихотворных типов, а лишь о некоторых общих приемах их построения. Неизменные четырнадцать строк, естественное распадение пьесы на два кватранта и два терцета, кода, соответствующая сонетному замку, распределение тем внутри фрагмента и замыкание его заключительным стихом – все это как в чисто строфическом, так и в тематическом отношении сближает онегинский куплет с каноном классического сонета.
II
СТРОФИЧЕСКОЕ ENJAMBEMENT
В большинстве случаев онегинская строфа представляет собой стансу, т. е. завершенное и законченное целое. Но часто тема строфы в ней не только не исчерпана, но определенно перебрасывается в дальнейшее строфическое построение. Стихотворная фраза, выходя из пределов данной строфы, продолжает развиваться в следующей, иногда даже в двух последующих. Получается строфическое enjambement.
Так в главе III имеется перенос строфы 38-й в 39-ю:
И задыхаясь, на скамью
Упала…
«Здесь он! Здесь Евгений!».
В главе IV строфы 32-я и 33-я:
Пишите оды, господа,
Как их писали в мошны годы,
Как было встарь заведено…
В главе V, стр. 5-я и 6-я:
…Вдруг, увидя
Младой двурогий лик луны
На небе с левой стороны,
Она дрожала и бледнела.
В главе VI строфа 30-я захватывает и следующую 31-ю.
…пробили
Часы урочные: поэт
Роняет молча пистолет,
На грудь кладет тихонько руку
И падает…
В той же главе последние строфы:
Среди бездушных гордецов,
Среди блистательных глупцов,
Среди лукавых, малодушных,
Шальных, балованных детей.
В главе VIII строфа 15-я оригинальным приемом перебрасывается в следующую:
Того, что модой самовластной
В высоком лондонском кругу
Зовется vulgar. Не могу…
Люблю я очень это слово,
Но не могу перевести.
Или же ниже enjambement строфы 39-й на 40-ю:
Играет солнце: грязно тает
На улицах разрытый снег.
Куда по ним свой быстрый бег
Стремит Онегин?
Иногда такой строфический перенос – простая деталь повествования. Но часто он является результатом тонкого и трудного ритмико-композиционного приема, замечательно усиливающего и углубляющего тон рассказа нарочитым игнорированием междустрофной паузы, которая тем не менее ощущается и сильно повышает драматический темп последующего рассказа. В этих случаях строфическое enjambement является своеобразным и смелым художественным приемом, который в «Онегине» дает ряд удачнейших композиционных эффектов.
III
СИСТЕМА РИФМОВКИ
Мы видели, что основным формирующим принципом онегинской строфы является рифма. Расположение рифм по единому общему и неизменному закону определяет композиционный рисунок и тематическое построение строфы и регулирует ее ритмико-синтаксический ход[76].
Вот почему изучение онегинской рифмы представляет первостепенную важность при анализе строфики романа.
Рифмовка «Евгения Онегина» представляет ряд своеобразных черт, в значительной части не свойственных поэмам Пушкина и его лирике. Здесь нет единого типа рифмовки, напротив – принципом романической композиции следует признать возможное разнообразие рифменных типов и стилей, от самых обычных, будничных и доступных до наиболее трудных, избранных и богатых.
Как общий рифменный закон романа выдвигается все тот же принцип легкой рифмовки, заведомо доступной и незатейливой, придающей наиболее разговорный характер повествованию. Пушкин словно стремится опровергнуть в «Онегине» все традиционные каноны учения о рифме. Сложные запреты и правила, положенные в основу европейской просодии еще в XVIII веке знаменитыми «поэтами-законодателями» Мальербом и Буало, здесь на каждом шагу нарушены и опрокинуты. «Евгений Онегин» почти на всем своем протяжении как бы служит протестом против освященного веками учения о рифме.
Здесь прежде всего нарушен запрет рифмовать составное слово с его простым, вообще слово с его частью и даже слов одинаковых корней или родственных грамматических образований. Пушкин смело рифмует ненавидеть – видеть (VII, 14), человек – век (VI, 4, VII, 22, VIII, 10), кумир – мир (VI, 11), Невы – вы (1, 2, VIII, 16, 27), шум – ум (II, 7); сюда же относятся себя – тебя (I, 1), того – его (I, 17), суждено – но (IV, 16), никто – то (IV, 17), приговоров – разговоров (VI, 47). Или же: занемог – мог (I, 1), прочла – предпочла (II, 30), прикажи – откажи (III, 34), расскажем покажем (VII, 42), наобум – ум (VII, 48)[77].
Обширную категорию таких созвучий составляют глагольные рифмы, уснащающие ткань романа своими обильными «забавлять – поправлять», «хранила – ходила», «бранил – водил», «писал – танцовал», «знала – читала», «найдете – прочтете» и проч. и проч.
Иногда целые фрагменты в 4–6 стихов написаны сплошь на глагольные рифмы:
Минуты две они
молчали,
Но к ней Онегин
подошел
И молвил: Вы ко мне
писали,
Не отпирайтесь.
Я прочел…
(IV, 12)
Или же серия рифм: увядает – молчит – занимает – шевелит и более пространные отрывки: крестила – брала – драла – кормила – твердят – летят (VII, 44).
Словом, правило не гнушаться «рифмой наглагольной», провозглашенное в «Домике в Коломне», получило широкое применение еще в «Евгении Онегине»; и, может быть, именно благодаря этому «роману в стихах», Пушкин мог в 1830 году заявить по поводу глагольных рифм:
По большей части так и я пишу.
Наряду с глагольными рифмами в «Онегине» широко представлена и другая категория доступных и нетрудных рифм, составленных из отглагольных существительных: признанья – свиданья (I, 11), прикосновение – заточение (I, 31), творенье – уединенье (V, 23), вниманье – страданье (VII, 10) и проч. Обилие их в романе очевидно и без доказательств.
Нередко Пушкин допускает вместо рифм ассонансы, придающие рассказу характер большей прозаичности, а стало быть, и разговорности. Таковы частые случаи приблизительной рифмовки: друзья – меня (I, 32), мои – любви (I, 49), героиней – Дельфиной (III, 10), Кремля – моя (VII, 37), колеи – земли (VII, 34), любви – дни (III, 14), меня – моя (III, 19)[78].
Сюда же относятся такие спорные созвучия, как голод – молот (Путеш. Онег.), все – Руссо (II, 29), свете – Гете (II, 9).
Затем следует обширная категория рифм, хотя и не глагольных, но очевидно не менее доступных, как любовь – вновь (VIII, 21), любовь – кровь (II, 9), искусство – чувство[79], печаль – даль (II, 10), бремя – время, встречи – речи (III, 14), скромный – томный (IV, 34), мальчик – пальчик (V, 2), тень – день (VIII, 13), участья – счастья (VII, 47) и проч. Все это создает общий фон не затрудненной, не звонкой, обычной разговорной речи, что, по-видимому, и входило в задание автора.
Некоторые рифмы, сознательно введенные с той же целью, в сущности так же недопустимы с точки зрения строгой просодии. Так осуждаются слова слишком схожие; в «Онегине» рифмуются пальцы и пяльцы (II, 26), клавикорды и аккорды (VI, 19), топать и хлопать (I, 22), блещут и плещут (I, 20), холодный и голодный (IV, 41), Полину – Селину (II, 33), Ричардсона – Грандисона (II, 30), Львовна – Петровна (VII, 45), магнетизма – механизма (VIII, 38).
В равной мере и слова, прямо противоположные по смыслу и потому представляющие некоторую парность, считаются слабыми рифмами, так как каждое из них по естественной ассоциации влечет за собою другое (напр., по-французски: bonheur и malheur, ami и ennemi и т. д.). В «Онегине» встречаем рифмы этой именно категории: старине – новизне (I, 44), родной – чужой (II, 52), по-французски – по-русски (III, 26), дворянский – мещанский (подгот. строфы к VIII гл.), нас – вас (письмо Татьяны) и т. д.
Мы видим, что гораздо более, чем об октавах «Домика в Коломне», Пушкин мог бы сказать об онегинской строфе:
Мне рифмы нужны; все готов сберечь я…
Но этот намеренно матовый фон рифмовки Пушкин своеобразно оживляет различными приемами. Богатая рифма в самых разнообразных ее видах как бы уравновешивает ценными образцами это обилие рифм приблизительных, легких, достаточных, обычных и проч. Прежде всего Пушкин вводит в свои рифмы омонимы, что считается тонким и благодарным случаем рифмования[80].
В «Онегине» эти омонимические рифмы нередко создают намеренно шутливый эффект:
Защитник вольности и
прав
В сем случае совсем не
прав
(I, 24).
И не заботился о
том,
Какой у дочки тайный
том
Дремал до утра под подушкой.
И прерывал его
меж тем
Разумный толк без пошлых
тем…
Или в подготовительных строфах:
Подумала, что скажут
люди
И подписалась: Твердо,
люди.
Здесь уже создается впечатление некоторой игры рифмами. Богатая рифма имеет свойство вырождаться в особые приемы каламбурной рифмовки[81], так что в известном контексте слишком звонкая и полнозвучная рифма представляется некоторой шуткой, забавным трюком (отсюда особого типа богатые рифмы в «фельетонных» пьесах Некрасова, в куплетах Минаева). В «Онегине» мы находим такие типичные Reimspielereien. Поэт, по выражению, которое он охотно употреблял в своих дружеских отзывах, как бы «шалит» в своей рифмовке. Это особенно явствует из таких jeux de rimes, как:
И вот уже трещат морозы
И серебрятся средь полей…
(Читатель ждет уж рифмы: розы,
На, вот возьми ее скорей!)
Или же:
Мечты, мечты! где ваша сладость?
Где вечная к ней рифма младость?
К тому же разряду можно отнести особый прием, созданный Пушкиным и примененный им только в «Онегине». Это – рифмовка букв, инициалов, вензелей:
На отуманенном стекле
Заветный вензель О. да Е.
Или же: Элиза К. – паука; R. С. – все; княжны S. L. – цель (Альб. Онег.). Все это раскрывает особенный полушутливый прием в рифмовке стихотворного романа.
Другой прием оживления безразличного рифменного грунта – прием неожиданной рифмовки иностранных слов с русскими: дыша – entrechat (1,17), детьми – endormie (V, 27), et cetera – добра (VII, 31), tête-à-tête – лет, benedetta – поэта (VIII, 38), неутомима – prima, позволено ль – do-re-mi-sol (Путеш. Онег.). В подготовительных строфах к роману встречаем: мечте – руте, quinxe – elle va – права, na – papa, vinaigrette – котлет.
Другую родственную группу рифм представляют иностранные слова, вошедшие в состав русского языка, но все же менее привычные в нем, не вполне обрусевшие: боливар – бульвар (I, 15), не раз – васисдас, брегет – обед (I, 15). Все это создает оригинальную, почти всегда, как бы неизданную рифмовку. Целый ряд этих терминов вполне соответствует одному из принципов «богатой рифмы» – широкому использованию неологизмов.
Ряд таких же новых, свежих и неиспользованных рифм дают сочетания иностранных имен собственных с русскими словами. Странные, звучные, малознакомые имена являются также одним из принципов теории «богатых рифм»[82].
В «Онегине» обычны такие рифмы, как дама – Бентама; Парни – они (III, 29), Фрейшиц – учениц (III, 31), роман – Шатобриан (IV, 26), Грим – перед ним (I, 24), картин – Расин (V, 22), лицея – Апулея (VIII), Мель – мотом – патриотом (VI–II, 8), разбора – Шамфора (VIII, 35), Вери – три (VI, 5), пола – Эола (I, 20), виды – Киприды (IV, 27), Гораций – акаций (VI, 7), синий – Россини (Путеш. Онег.), лимоном – Оттоном (Путин. Онег.), Фоблас – вас.
Некоторые из рифм этой категории рассчитаны на определенный комический эффект, построенный на контрастном сочетании иностранных имен и русских слов. Таковы, напр., Мальвиной – полтиной (V, 23), Гильо – белье, (VI, 25), Walter Scott – расход (IV, 43), Трике – колпаке (VI, 2), Приамы – дамы (VII, 4), Малек-Адель – постель (подгот. строфы), Финмуш – муж (VII, 45), Грандисон – сон. Сюда же можно отнести: Сенека – Мартын Задека (V, 22). Все эти рифмы определенно поддерживают тот стиль игривой и легкой шутки, который окрашивает основную ткань романа.
Нередко, впрочем, Пушкин злоупотребляет этим приемом рифмовки иностранных имен и создает обширную группу рифм однородных (иностранные имена, рифмующие между собой), т. е. свободных от эффектов неожиданности, контрастности, редких сочетаний. Таковы Беля – Фонтенеля (VIII, 35), Тиссо – Руссо (VIII, 35), Вольмар – де Линар (III, 9) и проч. Здесь прием не достигает цели в силу отсутствия контрастного столкновения, вызывающего удивление и улыбку.
Помимо приведенных французских и английских фамилий здесь фигурируют в немалом количестве и русские (Княжнин, Шаховской, Каверин и ряд вымышленных – Буянов, Флянов, Петушков, Харликов, Дурина и др.). В этом отношении рифмовка романа вполне оправдывает замечание Кюхельбекера: некоторые строфы свидетельствуют о том, «что Александр Сергеевич – родной племянник Василия Львовича Пушкина, великого любителя имен собственных»[83].
Но это обилие имен античных и в частности мифологических, знаменитых иностранных фамилий или выдуманных ad hoc (Гильо, Трике), русских исторических или придуманных имен, наконец большое обилие географических терминов (города, реки, губернии, области) – все это перегружает подчас рифмовку романа обилием собственных имен, но зато ярко и разнообразно окрашивает основную будничную канву созвучий.
В «Онегине» имеется, впрочем, небольшая категория рифм, богатых или «сочных», основанных на опорной согласной и не претендующих на игру или шутку: каблуков – париков, пером – гром, Терпсихоры – хоры, княгиней – богиней, рада – маскарада, огнем – в нем. Небольшое количество таких рифм свидетельствует, что поэт, во всяком случае, за ними не гнался и вводил их в свои строфы по мере их естественного появления. К этой же категории можно отнести и некоторые редкие рифмы, впервые вводимые в оборот, вроде: кровью – Прасковью, доволен – колоколен, коварство – лекарство.
Наконец, мы имеем в «Онегине» и несколько образцов особенно редких, трудных и полнозвучных рифм («богатейших» по терминологии французских парнасцев). Таковы Чайльд-Гарольдом – со льдом, капать – лапоть. Но здесь трудность и изысканность созвучия обращает нас опять к рифменному каламбуру.
Так, нередко, в «Онегине», как в раннюю пору, Пушкина прельщала
Странность рифмы новой.
Неслыханной дотоль.
Таков в общем обширный репертуар рифм в онегинских строфах; он исключительно разнообразен, многокрасочен, намеренно разностилен и, по-видимому, отвечает определенному заданию: на общем фоне текучей, естественной, почти, прозаической по своей беглости и легкости речи создать ряд ярких вспышек, неожиданных блесток, бросить несколько словесных драгоценностей и стихотворных парадоксов и этим выработать нужный тон легко струящейся беседы, заостренной с различных концов шутками, цитатами, остротами, неожиданными сопоставлениями образов, терминов и имен, прихотливой игрой слов, звуков и рифм[84].
IV
МЕЛОДИКА
I. Мелодика в пушкинскую эпоху
Определение строфического построения предполагает и анализ мелодического строя строфы. Наряду с элементами рифмы, паузы, синтаксиса, тематического сечения и общей строфической композиции здесь необходимо проследить и законы внутреннего движения строфы, принципы ее выразительности, те начала интонирования данного стихотворного фрагмента, которые возникают при его произнесении и придают ему совершенно определенный тон и мелодический рисунок.
В последнее время вопросы мелодики стиха выдвинуты у нас интересной работой Б. М. Эйхенбаума[85], давшего ряд ценных наблюдений над интонационной системой в стихах Пушкина, Лермонтова, Тютчева, Жуковского и Фета.
Но не следует думать, что проблемы «мелодической речи» и сложные вопросы о связи музыки со стихом возникли в научной литературе лишь в последние годы. В пушкинское время эти вопросы были определенно поставлены (главным образом в европейской литературе) и оживленно дебатировались в статьях и монографиях тогдашних ритмоведов, вызывая некоторые отклики и у нас. Так уже в 1811 г. аббат Скоппа в своей большой трехтомной работе, которая считается первым научным исследованием о французском стихе[86], ставит вопрос о сравнительной близости романского стиха к музыкальной композиции. Через несколько лет, в 1819 г., Кастильблаз в ряде работ наново ставит вопросы о связи стихотворной рецитации с музыкой и пением в связи с переводом моцартовского текста «Свадьбы Фигаро»[87].
Тогда же Джузеппи Баини устанавливает тождественность музыкального и стихотворного ритма, считая, что в пении, например, музыкальный ритм получает такое же воздействие от стихотворного, какое танец получает от музыки[88].
Тех же вопросов касается Луи Бонапарт в своей классической работе 1819 г. «Mémoires sur la versification française»[89]; и наконец, уже специально к вопросам стихотворной рецитации обращается Dubroca в нескольких до сих пор не утративших своего значения трудах[90].
Это новое направление в изучении стиха сказалось в 20–30-х годах и у нас. Мы имеем в виду замечательную и вполне забытую работу Алексея Кубарева «Теория русского стихосложения», первоначально напечатанную в «Атенее» в 1828 году и в «Московском Вестнике» 1829 г., а затем вышедшую в 1837 г. отдельным изданием[91].
Книга Кубарева – первая попытка у нас связать версификацию с музыкой и построить русское стихосложение на принципе музыкального такта. В этом смысле Кубарев является несомненным предшественником у нас теории Вестфаля и Гинзбурга, отчасти и С. Боброва. Он выдвигает впервые положение, что Ломоносов и Тредиаковский положили в основу русской версификации совершенно чуждую ей греко-латинскую теорию (по примеру немцев); и если мы все же имеем при ложной теории прекрасные стихи, то произошло это только потому, что «стихотворцы наши писали стихи, совсем не думая о теории, которую спокойно оставляли в книгах и слушали одного естеством внушенного такта, нимало не заботясь о том, чисты ли их ямбы и хореи». Основываясь на исследовании Воссия «De poëmatum cantu et viribus rythmi», в котором стихосложение древних рассматривается со стороны музыкальной, ссылаясь на «Dictionnaire de Musique» Руссо, особенно под словом Rythme, Кубарев выдвигает тезис о тесном соединении музыки с версификацией не только в античном искусстве, но и в новейшем. Язык как предмет метрики тесно связан с музыкой данного народа: поэтому необходимо в музыкальном ритме искать правил для версификации и признать основой метрики понятие такта, как оно принято в музыке. Русская поэзия в этом отношении представляет большое разнообразие, и часто в стихах, которые, по общему мнению, принадлежат к одному размеру, мы встречаем сочетание различных тактов.
Кубарев приходит к заключению, что «язык русский имеет свойство в высокой степени музыкальное и представляет совершеннейший образец тонической версификации».
Все эти сложные и разнообразные вопросы – о принципах рецитации стиха, о связи живой стихотворной речи с музыкой и пением, о родственности музыкального и стихотворного ритма, о значении пауз и музыкальных тактов в деле определения принципов версификации – все эти проблемы, дружно поднятые в начале XIX века целой плеядой европейских ученых и нашедшие отзвуки у нас, ставили изучение стиха на совершенно новую базу, и выдвигали на первый план значение мелодического строя стихотворной речи. Мелодика как одна из важнейших проблем стихотворчества уже существовала в эпоху написания «Евгения Онегина».
Попытаемся определить некоторые мелодические особенности онегинской строфы.
Прежде всего, необходимо отметить тот разговорный стиль, который чрезвычайно характерен для романа и в большом количестве строф является безусловно господствующим. Задание легкой беседы, порхающей болтовни, шутливой и интимной causerie определенно чувствуется в больших фрагментах романа (например, почти вся I глава). Поэт не упускает ничего из того, что по его собственному определению, —
придает
Большую прелесть разговору…
На всем протяжении романа, чередуя описательно-повествовательные части с чисто лирическими, автор поддерживает этот увлекательный разговорный стиль приемами непосредственных обращений, вопросов, как бы заигрываний с читателем, всевозможных отступлений, различных à parte, внезапных признаний, воспоминаний, посвящений и проч. Поэт беседует, «забалтывается», шутит, расспрашивает, и потому вся ткань повествования взрезана беспрестанными обращениями к невидимым собеседникам автора.
Это, прежде всего, читатели романа: «Друзья Людмилы и Руслана», «достопочтенный мой читатель», «и вы, читатель благосклонный», «„поклонник мирных Аонид“, кто б ни был ты, о мой читатель», «друзья мои, вам жаль поэта»… и проч. Вообще «мой читатель» и «друзья» постоянно служат поэту объектами обращения для придания более близкого и непосредственного тона всей беседе.
Друзья-поэты составляют особую группу: «Так ты. Языков вдохновенный» или же дважды в различных главах обращение к Боратынскому: «Певец пиров и грусти томной» (III) и «Певец финляндки молодой» (V).
Многочисленны обращения к различным женским образам, нередко придающие строфе характер анонимного посвящения, но чаще принимающие общий тон разговорной шутки: «мой друг Эльвина», «Зизи, кристалл души моей» или в общей формуле: «мои богини!», «Причудницы большого света» и проч. Не редки такие непосредственные обращения к своим же героям: «Татьяна, милая Татьяна!» или:
Прости ж и ты, мой спутник странный,
И ты, мой верный идеал…
Наконец, целый ряд явно шутливых, иронических и насмешливых обращений: «Но вы, блаженные мужья»… «Вы также, маменьки»… «О вы, почтенные супруги». Иногда целые фрагменты составлены из таких обращений:
………добрые ленивцы,
Эпикурейцы – мудрецы,
Вы, равнодушные счастливцы,