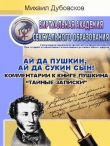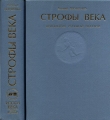Текст книги "Цех пера. Эссеистика"
Автор книги: Леонид Гроссман
Жанр:
Публицистика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 34 страниц)
Annotation
Книга включает статьи и эссе известного историка литературы Леонида Гроссмана, ранее изданные в составе трех сборников: «От Пушкина до Блока: Этюды и портреты» (1926), «Борьба за стиль: Опыты по критике и поэтике» (1927) и «Цех пера: Статьи о литературе» (1930).
Изучая индивидуальный стиль писателя, Гроссман уделяет пристальное внимание не только текстам, но и фактам биографии, психологическим особенностям личности, мировоззрению писателя, закономерностям его взаимодействия с социально-политическими обстоятельствами.
Данный сборник статей Гроссмана – первый за многие десятилетия.
Л. П. Гроссман
Дмитрий Бак. «Художественные этюды остаются…»: литературная жизнь Леонида Гроссмана
ОТ ПУШКИНА ДО БЛОКА
Метод и стиль
Пушкин и Андре Шенье
Пушкин – новатор
«Пиковая дама» и новелла Ренье
Лермонтов – баталист
Тютчев и сумерки династий
Стендаль и Толстой
Достоевский и Европа
Ранний жанр Тургенева
Натурализм Чехова
Брюсов и французские символисты[53]
Блок и Пушкин
БОРЬБА ЗА СТИЛЬ
I
Жанры художественной критики
Мадригалы Пушкина
Онегинская строфа
Поэтика русского сонета
II
Достоевский и театрализация романа
Салтыков – сказочник
Россия Салтыкова
Лесков
Анна Ахматова[105]
III
А. Г. Достоевская и ее «Воспоминания»
Беседы с Леонидом Андреевым
Последний отдых Брюсова
Гершензон – писатель[109]
Пушкин или Рылеев?
Из книги
Исторический фон «Выстрела»
Культура писем в эпоху Пушкина[131]
Портрет Лувеля
Пушкинский уголок
Женитьба Дантеса
Дантес и Николай I
Пушкин в 1823 году[154]
Перевод иноязычного текста
notes
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
Л. П. Гроссман
ЦЕХ ПЕРА
Эссеистика
Дмитрий Бак. «Художественные этюды остаются…»: литературная жизнь Леонида Гроссмана

Для известного историка литературы Леонида Гроссмана 1920-е годы были исключительно плодотворны. Жанровое и тематическое разнообразие его работ столь же поразительно, как и объем написанного. Среди книг, опубликованных Гроссманом за десять лет, – библиографические труды («Библиотека Достоевского. По неизданным материалам. С приложением каталога», 1919; «Семинарий по Достоевскому», 1923) и монографии («Театр Тургенева», 1924; «Поэтика Достоевского», 1925); исследования литературного быта («Вторник у Каролины Павловой. Сцены из жизни московских литературных салонов сороковых годов»; 2-е изд., 1922) и творческие биографии русских классиков («Путь Достоевского», 1924), а также «литературные расследования» («Преступление Сухово-Кобылина»; 2-е изд., 1928) и даже беллетристика (стилизованная под мемуары повесть «Записки д’Аршиака», 1930).
Однако излюбленным жанром Гроссмана стали в это время «этюды», выполненные на грани академического литературоведения и эссеистики; «Портрет Манон Леско (Два этюда о Тургеневе)», 2-е изд., 1922; «Три современника (Тютчев, Достоевский, Аполлон Григорьев)», 1922; «Этюды о Пушкине», 1923.
В двадцатые годы в русском литературоведении наблюдалось явное оживление, соперничали друг с другом различные, нередко резко противостоящие друг другу исследовательские школы. Для сторонников традиционного описательного литературоведения особенно непривычны были работы последователей «формального метода», в недальнем будущем подвергшиеся официальному остракизму за отступления от марксистских догм. Виктор Шкловский, Юрий Тынянов, Борис Эйхенбаум и другие члены Общества изучения поэтического языка (ОПОЯЗ) создали принципиально новый жанр литературоведческого исследования, в котором главное внимание уделялось эволюции литературных жанров и художественных приемов, законам построения литературного произведения. Классическое разграничение «формы» и «содержания» опоязовцы последовательно заменили противопоставлением «материала» и «приема», в научном обиходе «формальной школы» центральное место заняли понятия «литературного быта», «сказа», «единства и тесноты стихового ряда». Многим энтузиастам от поэтики казалось, что на смену «истории идей» окончательно и бесповоротно приходит «история литературных форм».
Гроссман был одним из тех, кто, рискуя впасть в эклектику, искал «путь, способный благодетельно провести мимо Сциллы „истории идей“, минуя в то же время Харибду исключительного формализма»[1]. Опорным для гроссмановского подхода к изучению истории литературы было понятие стиля, поскольку именно стиль, по мнению ученого, «примиряет два враждующих начала теории литературного исследования <…>, одинаково охватывает типическую для данного художника определенность формы и сущность его творческого мировосприятия» (с. 13).
По Гроссману, стиль не может быть сведен ни к сумме языковых особенностей литературного произведения, ни к набору приемов повествования, композиционного построения художественного текста. Гроссман толкует понятие стиля предельно широко, по его мнению, возможно и необходимо говорить не только о «стиле произведения», но и о «стиле жизни» определенной эпохи, об «индивидуальном творческом стиле» художника и т. д. Особенно важно, что изучение индивидуального стиля писателя, согласно Гроссману, предполагает пристальное внимание не только к текстам как таковым, но и к фактам биографии, психологическим особенностям личности, мировоззрению писателя, закономерностям его взаимодействия с современными социально-политическими обстоятельствами.
Нельзя не отметить очевидную связь подобных построений с воззрениями Гете, под стилем понимавшего высшую ступень творческого подражания реальности. Гете настаивал на том, что художник обретает в стиле не только основной закон собственной деятельности («манеру»), но и ключ к адекватному познанию «существа вещей»[2]. Среди более близких по времени исследователей-предшественников и современников Гроссман называет Ренана и Сент-Бёва, Кроче и Ст. Цвейга. Этот перечень можно было бы дополнить именами Ю. Айхенвальда. Д. Мережковского, М. Гершензона, В. Розанова, работавших на грани литературоведения и эссеистики, философии культуры и беллетризованной биографии.
Несомненно, что гроссмановские «этюды» об отечественных классиках во многом родственны знаменитым «силуэтам русских писателей» Юлия Айхенвальда. В основе сходства «силуэтов» и «этюдов» – поэтика жанра эссе, одним из создателей которого был Монтень, автор знаменитых «Опытов». Слово «essai» переводится с французского именно как «проба», «попытка», «опыт»; применительно к литературе – синтетический жанр, «сочинение на свободную тему», повествование, не связанное канонами научного исследования либо биографии «замечательных людей». Темой эссе может стать как пережитое автором сильное впечатление, так и отвлеченное понятие, историософская проблема и т. д.
Так, в этюде о Тютчеве, вошедшем в настоящую книгу, Гроссман развивает по сути дела одну мысль; для русского поэта политические события нередко становились столь же благодатным источником вдохновения, предметом художественного осмысления, как осенний пейзаж или пережитое «жгучее страданье». Гроссман утверждает, что «текущая политика имела для Тютчева свой фатум и свой пафос. Не одни только „демоны глухонемые“ небесных гроз зажигали его вдохновение, но и все проносящиеся события текущего исторического часа. Голос Клио всегда в нем будил Полигимнию. Стоя у самого источника политических катастроф, видя первое зарождение человеческих волн, смывающих правительства и режимы, он из этой лаборатории современной истории откликался на все ее голоса. И часто на еле вспыхивающие зарницы и далекие ропоты надвигающихся бурь он отвечал дрогнувшей медью своих строф, как электроскоп, трепещущий перед грозой своими лепестками»[3]. Для исследовательской манеры ученого данный пассаж стилистически весьма и весьма характерен.
Гроссман убежден, что «литературная критика сделала у нас несравненно больше в деле изучения наших артистов слова, чем академическая наука» (Метод и стиль, с. 16–17). Вопреки расхожему мнению, критика для Гроссмана вовсе не ущербная разновидность литературоведения, но особый род художественного творчества. При этом литературно-критические трактовки возможны и уместны не только в момент опубликования той или иной вещи, в пору живой полемики, но и спустя десятилетия, когда непосредственные впечатления от книги обычно отходят на второй план, уступая место сухому описанию фактов и академически выверенным выводам. Гроссман в своих работах с подобной практикой мириться не желает, более того, он темпераментно борется («борьба за стиль!») против безраздельного господства академизма в литературной науке. «Диссертации дряхлеют, художественные этюды остаются» – вот, пожалуй, наиболее ясная формулировка, отражающая profession de foi русского историка литературы.
Начиная с тридцатых годов, книги Гроссмана, по понятным причинам, появляются в печати все реже. Можно назвать, например, «Жизнь и труды Достоевского» (1935; в 1962 году переработанная версия вышла в серии «Жизнь замечательных людей»), «Театр Сухово-Кобылина» (1940). Предлагаемая читателю книга включает статьи Гроссмана, ранее изданные в составе трех сборников: «От Пушкина до Блока: Этюды и портреты» (1926), «Борьба за стиль: Опыты по критике и поэтике» (1927) и «Цех пера: Статьи о литературе» (1930). Статьи, включенные в книгу, достаточно полно представляют круг интересов известного русского литературоведа. Немаловажно и то, что первые публикации этих работ в настоящее время далеко не всегда доступны даже специалистам. Первый за многие десятилетия сборник статей Леонида Гроссмана несомненно найдет своего благодарного читателя.
Дмитрий Бак
ОТ ПУШКИНА ДО БЛОКА
Этюды и портреты
1926
Метод и стиль

La méthode est tout ce qu’il y a de plus haut dans la critique, puisqu’elle donne le moyen de créér.
Flaubert.
Гете не допускал разъединения идеи и формы.
Тургенев, XII, 238.
I
Изучение художественных форм стало в центре методологических приемов нашего литературоведения. Углубленное исследование языка, композиции, поэтической техники, особенностей художественной манеры данного автора пришло на смену господствующим недавно историко-литературным приемам. Лозунг Бенедетто Кроче – lo fatto estetico é forma e niente che forma, – пускает у нас глубокие корни и открывает ряд широких возможностей в области изучения наших наиболее разработанных авторов. В настоящее время у нас едва ли возможно изучение поэта вне этой новой, богатой и плодотворной методологии.
Но широко принимая ее задания и основные приемы, необходимо всячески остерегаться возможных здесь эксцессов, исключительного господства формальных методов, абсолютного устранения всех иных приемов исследования. Сама природа созданий словесного искусства не допускает того методологического монизма, который и в ряде других научных дисциплин уступает теперь место более рациональной системе сочетания различных методов. Необходимо помнить, что вопросы литературной техники далеко не покрывают состава поэтического создания, а исключительный анализ его материала не исчерпывает сложной сущности произведений искусства.
На перепутии этих запросов и соображений возникает главная трудность новейшей литературной методологии: как найти путь, способный благодетельно провести нас мимо Сциллы «истории идей», минуя в то же время и Харибду исключительного формализма?
Путь этот намечается в теоретической работе последних лет. Исследователи поэзии на Западе и у нас, философы и эстетики, приходят к заключению, что старинное различие «формы и содержания» принципиально ошибочно и ни в какой степени не отвечает подлинной сущности художественного творчества. Выдвигается категорическое утверждение о глубоком единстве артистического воплощения и творческого духа художника (Фолькельт); с энергией утверждается неделимость творческой интуиции и художественной формы: intuire é esprimere (Бенедетто Кроче). Под влиянием этих учений и у нас в последние годы неоднократно указывалось, что творящий художник всегда поднимается над теоретической двойственностью этих отвлеченных понятий. Для него не существует разрыва между идеей и образом, формой и содержанием, замыслом и воплощением.
Но это утверждение еще не исключает главной трудности, стоящей на пути исследования: как изучать совместно и нераздельно, в одном процессе, форму и замысел, законы воплощения и творческий дух, словесную арматуру художественного создания и мироотношение его автора?
На помощь нам приходит одно старинное понятие, расширенное новым восприятием и истолкованием. Это понятие – стиль.
II
Его не следует понимать в слишком специальном значении. Необходимо подняться к истолкованию этого термина у Гете и до конца принять его утверждение, что стиль коренится в глубочайших основах познания, в сущности вещей, поскольку нам дозволено познавать эту сущность в видимых и осязаемых образах. Необходимо вспомнить замечательные слова Константина Леонтьева: «Язык, или, общее сказать, по-старинному стиль, или еще иначе выражусь – манера рассказывать – есть вещь внешняя, но эта внешняя вещь в литературе то же, что лицо и манера в человеке: она – самое видное наружное выражение самой внутренней, сокровенной жизни духа. В лице и манерах у людей выражается несравненно больше бессознательное, чем сознательное; натура или выработанный характер больше, чем ум… Подобно этому и в литературно-художественных произведениях существует нечто почти бессознательное или вовсе бессознательное и глубокое, которое с поразительною ясностью выражается именно во внешних приемах, в общем течении речи, в ее ритме, в выборе слов, иногда даже и в невольном выборе…»
Так понятие стиля примиряет два враждующих начала теории литературного исследования: оно одинаково охватывает типическую для данного художника определенность формы и сущность его творческого мировосприятия. Оно намечает в основном и главном путь к разрешению возникшей методологической трудности: изучение писателя сводится к определению его стиля, в котором одинаково отливается замысел и образ, творческое созерцание и художнический чекан.
Так по-видимому разрешается сложный методологический конфликт: изучить писателя не значит ли это с тщательной зоркостью проследить на композиции его созданий, на их словесном составе, на его образах, на ритме его прозы или на мелодике стиха строй его творческой личности, его духовную природу художника? Вместо истории идей, игнорирующей один из важнейших признаков литературного произведения – его форму, вместо исключительного формального анализа изучающего автора как неодушевленный предмет, исследование стиля способно охватить облик поэта во всей его цельности и полноте. Частичным экскурсам и дробным анализам оно противопоставляет целостный образ творца-художника во всем его органическом единстве и живом многообразии.
III
В план литературного исследования необходимо включать все, что служит выразительности и своеобразию данного творческого облика. В этом смысле вкусы поэта, его умственные наклонности, его увлечение теми или иными философскими системами, часто совершенно равноправны с вопросами строения и выбора его художественных форм. Шеллингианство Веневитинова и Тютчева, увлечение Тургенева и Фета книгой Шопенгауэра, интерес Валерия Брюсова к оккультизму – все это также способствует своеобразию их стиля, как и пристрастие к тому или иному размеру, ритму, образу или строению фразы.
Для подлинного художника слова известный идеологический момент служит таким же художественным ферментом, как эпитет, метр или инструментовка речи. Философия, религия, политика или этика здесь питают, двигают и оформляют художественное создание[4].
Они входят в него как одно из начал его органической природы. Идея борьбы с крепостничеством для молодого Тургенева была простым художественным приемом, который блестяще помог ему разрешить трудную композиционную задачу его охотничьих рассказов. Так одним из наиболее художественных приемов Достоевского была идея «бедных людей», «униженных и оскорбленных», восходящая еще к литературной эстетике XVIII века. В этом смысле можно было бы утверждать, что пауперизм есть такой же основной элемент поэтического стиля Достоевского, как и катастрофическое построение его романов, преобладание в них диалогов, обилие планов и групп в одном создании. Смешение философских проблем с coups de théâtre и есть основной закон его стиля. Необходимо изучать его в этом двойственном устремлении.
Характеристика стиля предполагает большую предварительную работу. Необходимо тщательно изучить все вопросы формальной техники, как и все моменты умственных увлечений данного автора. Анализ его стиля или языка есть такая же подготовительная стадия к завершающей задаче – общей оценке стиля – как и специальные изучения религиозно-философских исповеданий данного художника. Все это только parerga и prolegomena к последней и главной цели.
Вот почему такие работы, как «Морфология четырехстопного ямба у Пушкина», «Дохмий у Эсхила», «Композиция романов Тургенева» являются такими же подготовительными этюдами к изучению стиля, как исследования на темы: «Гете как мыслитель», «Шеллинг и Тютчев», «Религиозная формация Руссо» или «Этика Толстого». Все это только пути к пониманию индивидуального стиля художника. Нужно признать правильным направление обеих дорог.
Во всех филологических студиях, формальных экскурсах и сравнительных опытах нас должна сопровождать мысль о цельной творческой личности художника; а наше завершающее, синтетическое восприятие его облика должно питаться всеми наблюдениями над особенностями поэтической техники данного мастера, его литературной манеры, композиционных приемов и языка.
IV
Это задание открывает широкие пути для подлинного творческого знания. Не исключая из сферы своего ведения точные приемы собирания фактов, анализа текстов, накопления дат и вариантов, оно дает возможность сочетать кропотливые филологические экскурсы в область языкознания или стиховедения, фонетики или синтаксиса с умением синтезировать добытые опытным путем данные, проникать их своим вкусом, доводить свое изучение до степени творческого знания. Преклонение перед точными опытами и фактическими данными не лишает исследователя драгоценного права на творческий синтез, на некоторую долю субъективизма, на интуитивное познавание изучаемого художника. Пройдя весь путь точных подходов к его искусству, мы приобретаем право в последней стадии нашей работы свободно и смело подняться над исчерпанным эмпирическим материалом и творчески проникнуть в сложный, богатый и таинственный мир творящего духа. Так интуиция венчает долгий труд точного анализа.
Ибо изучать создания поэзии не значит, конечно, сводить их к сухим и голым схемам, а стремление к наиболее полному и адекватному знанию не может ориентироваться исключительно позитивизмом и не должно лишать исследователя драгоценного права на оценку, на чисто литературную формулировку, на творческое проникновение в дух и стиль данного художественного фрагмента. Руководящим лозунгом каждого исследователя должны были бы стать слова Флобера: «Метод есть высшее начало литературной критики, ибо он дает возможность творить». Это требует полной осознанности метода от литературного исследователя, но при этом обязывает его к творчеству в своем познавании.
Литературоведение представляется нам не простой отраслью языкознания или науки о стихе, а новой углубленной эстетикой, построенной на созданиях художественного слова. Именно потому форма, как первенствующее эстетическое начало, должна находиться в центре нашего изучения – но форма, не изолированная, не оторванная искусственно от сложной жизни артистического целого, а являющая до конца отражение творческого духа художника. Будем помнить – intuire é esprimere, а всякое создание подлинного искусства и есть такая оформленная интуиция.
Писателя необходимо изучать литературно, т. е. не одними только средствами наблюдения и рассудка, но по возможности и творчески. Вот почему литературная критика у нас сделала несравненно больше в деле изучения наших артистов слова, чем академическая наука. Она глубже, живее и плодотворнее разрабатывала создания старинных и новейших художников, инстинктивно стремясь установить отличительные признаки и своеобразные черты их творческой манеры.
Но многое еще остается здесь едва затронутым и еле намеченным. Углубленное изучение стилей наших величайших мастеров слова еще впереди.
Каковы будут его пути, приемы и средства? Какие достижения возможны здесь?
Возьмем для примера Тургенева. Исследователя стиля, который ищет в неизменной чеканке формы отсветов творческого духа художника, Тургенев особенно привлекает своим прозрачным словом, сквозь которое светит мир его создающихся образов. Если, восходя по ступеням этого изучения тургеневского стиля, мы пристально всмотримся в особенности его интимно-живописного языка, в секрет простых и сдержанных его композиций, в законы ритма его прозы, доведенной подчас до подлинных стихотворных ладов; если мы вдумаемся в его любовь к старинной музыке, к художественной культуре XVIII века, к таким поэтам, как Пушкин, Гете и Флобер; если мы проследим его склонность уловлять последние течения общественной идеологии и вместе с тем его вкус к тайне, облекающей жизнь, – мы, может быть, сумеем воспринять и охватить Тургенева не в урезывающей теоретической схеме или отвлеченной формуле, а в его подлинной творческой сущности – в его цельном, полном, живом и едином многообразии. Мы изучим тогда писателя в высшем проявлении его бытия как творящего художника.
Так, думается нам, следует изучать каждого автора. Задача и метод литературного исследования – выявлять целостный облик художника под знаком стиля.
Пушкин и Андре Шенье

…Любовник муз латинских,
Ты к мощной древности опять меня манишь.
В отношении Пушкина каждая частная историко-литературная тема скрывает под своей видимой простотой бесконечную сложность разработки и неожиданную значительность выводов. Здесь нет второстепенных или легких проблем. Каждый вопрос об анализе пушкинских форм или обследовании источников, каждый филологический экскурс или сравнительный опыт здесь неизбежно затрагивают центральные нервы поэтического организма и неуклонно обращают исследователя к изучению цельного творческого облика. Кажется нет такой специальной проблемы пушкиноведения, которая бы в конце концов не сводилась к разрешению основного вопроса: – как из легкого эпиграмматиста и эротика, о котором Баратынский отозвался однажды:
И Пушкин молодой, сей ветренник блестящий,
Все под своим пером шутя животворящий,—
как из этого беспечного и блестящего ветреника вырастал один из самых ясновидящих и совершенных мастеров европейской поэзии?
К этому сводится в конечном счете и сближение Пушкина с Андре Шенье. Этот несложный на первый взгляд вопрос о влиянии, подражании или родственности дарований сразу ставит нас перед важнейшими темами пушкинского творчества: перед вопросом о его классицизме, его отношении к современной истории и, наконец, эволюции его стиха.
Как относился Пушкин к античности, сформировавшей его дар, как реагировал он на текущие политические события, так часто будившие его лирические отзвуки, как обогащал он при этом средства своей поэтической изобразительности, – другими словами, как древность и современность отражались в сознании и в творчестве Пушкина?
На путях разрешения всех этих вопросов мы встречаемся с именем Андре Шенье.
I
Тяга к классическому миру сказывается у Пушкина в первую же пору его творчества. Об этом свидетельствует целый ряд его лицейских стихотворений. К классицизму Пушкин прикасается здесь через своих любимых французских поэтов XVIII века. Значительная часть этих подражаний древним – открытая и заведомая имитация Парни, Делиля, Лебрена или Жан-Батиста Руссо. Возникновение первых интересов Пушкина к античной поэзии тесно связано с образцами легкой чувственной лирики, столь пленявшей отца поэта и его дядю Василия Львовича. Под буколическими именами и обстановкой здесь кроется типичная фривольность поэтов вольтеровской эпохи, и все эти пастухи, фавны, нимфы, Дафнисы и Дориды проникают в лицейские строфы Пушкина не из далекого и прозрачного источника древней антологии, а непосредственно из условного и разукрашенного мира французской эротической поэзии XVIII века.
В дальнейшем творческом процессе ему предстояло преодолеть это раннее направление своей лирики. По замечательному определению Аполлона Григорьева, Пушкин «долго носил в себе в юности мутно-чувственную струю ложного классицизма (эпоха лицейских и первых послелицейских стихотворений), но из нее он вышел наивен и чист… Эта мутная струя впоследствии очистилась у него до наивного пластицизма древности и, благодаря стройной мере его натуры, ни одна словесность не представит таких чистых и совершенно ваятельных стихотворений, как пушкинские».
Но процесс этого очищения был длителен. На пути от чувственной лирики в духе Вольтера и Парни к непосредственной передаче Сафо или Ксенофана Колофонского, вдохновивших Пушкина на образцовые антологические фрагменты его зрелой поры, ему посчастливилось познакомиться с творчеством поэта, облегчившего ему это приближение к подлинной античности и как бы образовавшего целый этап в развитии пушкинского классицизма. Этот поэт и был Андре Шенье, один из одиноких XVIII в., подлинный эллинист эпохи поэтического упадка во Франции.
С обычной ясностью своего критического взгляда Пушкин сразу и безошибочно определил по преимуществу классическое дарование французского лирика. В 20-х годах такое мнение было крайне парадоксально. В момент «открытия» Андре Шенье, т. е. при первом опубликовании его рукописей отдельной книгой в 1819 г., романтики категорически стремятся причислить новоявленного лирика к своим. Шатобриан первый, еще до выхода названного сборника, устанавливает легенду и культ казненного поэта. Сент-Бёв решительно признает Гюго и Ламартина продолжателями Шенье. В этом горячем желании завербовать новооткрытый поэтический талант в свою группу представители новой школы довольствуются немногими признаками. В общем и главном для них достаточно установить глубокое различие между Вольтером и Шенье, чтобы всецело отнести последнего к романтизму.
Голос глубокой и правдивой оценки слышится в отзыве Пушкина. «Говоря о романтизме, – пишет он из Одессы в 1823 г. кн. Вяземскому (в черновике письма), – ты где-то пишешь, что даже стихи со времени революции имеют новый образ, и упоминаешь об Андре Шенье. Никто более меня не уважает, не любит этого поэта, но он истинный грек, из классиков классик – c’est un imitateur savant. От него так и пышет Феокритом и антологией. Он освобожден от итальянских concetti и от французских антитез, но романтизма в нем нет еще ни капли»[5].
Быть может категоричность последних слов пушкинского отзыва следует несколько смягчить. Верный ученик Руссо, Шенье отвечал вкусам романтического поколения. Но по существу своему, личным тоном своей лирики, он остается все же античным поэтом, и энергия пушкинской характеристики замечательно выделяет его faculté maîtresse – классицизм, эллинство, антологичность. Замечательно, что сам Сент-Бёв, провозгласивший сначала Шенье романтиком, продолжая изучать его творчество, пришел к пушкинскому заключению. В своей статье 1839 г. он признает Шенье «нашим величайшим классиком со времени Расина и Буало». Пушкин вынес аналогичный приговор за шестнадцать лет до Сент-Бёва[6].
Помимо этого зоркого и сочувственного отзыва о Шенье. Пушкин стремился приблизиться к нему и непосредственным приобщением к его творчеству. Он неоднократно работал над его текстами и ими вдохновлялся. Он оставил переводы из французского поэта, подражания ему и своеобразные вариации на его отдельные строфы и фрагменты, получившие особенное развитие в той элегии, где Андре Шенье является героем. Это как бы художественное завершение долгой и любовной работы Пушкина над лирическими текстами Шенье.
II
Стихотворные переводы Пушкина отличаются, обычно, своеобразной свободой передачи. Текст иностранного поэта почти всегда служил ему темой для свободных поэтических опытов, а не предметом точного и детально-пристального воспроизведения. Недаром сам он, зная работы Гнедича и Жуковского, склонен был называть свои переводы подражаниями. Эти свободные имитации Пушкина чрезвычайно важны для исследования его творческого процесса. В частности, интереснейший материал по этому вопросу дает его работа над Шенье.
Собственно говоря, настоящих переводов из Шенье, в подлинном смысле этого слова, т. е. отвечающих всем требованиям, предъявляемым к этому трудному стихотворному жанру, Пушкин не дал. Он скорее свободно перелагал Шенье, исполнял вариации на его темы, вдохновлялся его отдельными строками для своих новых вещей, открыто или тайно подражая ему.
Первый такой вольный перевод, даже названный Пушкиным «подражанием Андре Шенье», написан на тему элегии: «jeune fille, ton coeur avec nous veut se taire».
Он начинается строками:
Ты вянешь и молчишь. Печаль тебя снедает,
На девственных устах улыбка замирает…
По близости к подлиннику, это нечто среднее между переводом и подражанием. Пушкин внимательно следит за оригиналом, передает все его особенности, переходы и образы, соблюдает точность размера и принцип чередования рифм, но в общем скорее излагает по-своему эту тему о влюбленной девушке, чем передает в своем стихе текст подлинника. Это скорее отражение Шенье, чем его подлинный стихотворный перевод.
Но, несмотря на отступления и вольности, Пушкин в этом первом опыте передачи Шенье замечательно проникается основными чертами его неоклассицизма. Какое глубокое отличие от анакреонтических сюжетов лицейской поры! Сразу сказывается четкость и пластичность конкретных образов, вкус к предметности, совершенно чуждый его ранним пасторалям:
Давно твоей иглой узоры и цветы
Не оживлялися…
___________
Красавец молодой с очами голубыми,
С кудрями, черными…
___________
Никто на празднике блистательного мая,
Меж колесницами роскошными летая,
Никто из юношей свободней и смелей