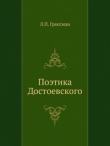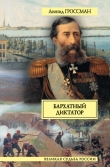Текст книги "Цех пера. Эссеистика"
Автор книги: Леонид Гроссман
Жанр:
Публицистика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 18 (всего у книги 34 страниц)
Вы, школы Левшина птенцы,
Вы, деревенские Приамы,
И вы, чувствительные дамы…
Это обилие обращений, создающее прихотливые перебои и общую иллюзию произносимой речи, как бы отводят подчас онегинский стих от того лирически-напевного стиля, в котором мелодический акцент особенно ощущается. По отношению к большинству приведенных строф приходится отмечать особую интонацию слегка насмешливого разговора, дразнящего, интригующего, или же подчеркнуто патетического. Здесь, пользуясь терминологией Сиверса, уместно говорить о голосе разговорном (Sprechstimme) в отличие от напевного голоса (Singstimme).
Но и песенный тон имеется в «Онегине», и конечно, строфы лирическо-напевного характера представляют богатейший материал для мелодических интонаций. Там, где беглый и веселый разговор переходит в жалобу, в грустное признание, в задумчивый вопрос, в трогательное воспоминание, стих освобождается от намеренных прозаизмов, оставляет нарочито-будничный тон веселой беседы, словно возносится над всеми шутками, насмешками и вставками повседневной речи, начинает настраиваться на совершенно иной тон и, наконец, выпевается в чисто элегическую мелодию.
Лирические партии «Онегина» изобилуют вопросительными и восклицательными интонациями. В напевной созерцательной лирике, особенно в поэзии начала столетия, вопрошания служили особыми приемами мелодизации, и ранний Пушкин – как теперь установлено – вполне усвоил мелодическую манеру Жуковского «строить стихотворение на основе вопросительной интонации».[92]
Эту манеру он сохранил и в позднейшем периоде, о чем широко свидетельствуют элегические строфы романа. Иногда целая строфа здесь представляет сплошной вопрос, построенный ритмически-разнообразно, с замечательным обилием образов и драматических арабесок. Таковы строфы «Мои богини! Что вы? Где вы?» или «За что ж виновнее Татьяна?» Аналогичные построения находим и в других строфах: «Когда ж и где, в какой пустыне | Безумец, их забудешь ты?» – «Придет ли час моей свободы? | Пора, пора взываю к ней…»
Не редки, как и в некоторых приведенных строфах, сочетания вопросительных и восклицательных интонаций: «Враги! давно ли друг от друга | Их жажда крови отвела?» Или: «Как грустно мне твое явление, | Весна, весна, пора любви!»… В последней главе: «О кто б немых ее страданий – В сей быстрый миг не прочитал!..»
Переплетение этих двух основных лирических интонаций часто не прерывается на протяжении целой строфы («Друзья мои, вам жаль поэта!..» Или в последней главе: «Как изменилася Татьяна» и проч.). В последнем случае чередование вопросов и восклицаний усилено анафорами.
Это характерное сочетание вопросительных и восклицательных интонаций находим в типичной романтической элегии Ленского:
Куда, куда вы удалились,
Весны моей златые дни?
Сердечный друг, желанный друг
[93]
Приди, приди: я твой супруг!..
Немало в «Онегине» и чисто восклицательных интонаций, нередко превращающих строфу в сплошное восклицание («Я помню море пред грозою…» «Как часто летнею порою»). Известный лирический взлет, сильный подъем тона так же передается этими восклицательными строфами, как задумчивый темп элегических фрагментов вызывается сменой чередующихся вопросов.
II
Остановимся для мелодического анализа на строфе 46-й главы VIII.
Она открывается некоторым переломом предшествующему тону изложения. В предыдущей строфе речь Татьяны достигает апогея своей гневности; она корит, осуждает и клеймит Онегина за его «обидную страсть» и не останавливается перед суровым приговором. Восклицания и вопросы, прерывающие серию осуждений, кажутся здесь репликами прокурора: «А нынче! – Что к моим ногам – Вас привело? Какая малость!» Наконец, эта строгость и сдержанное возмущение бурно прорываются в гневном и оскорбительном заключении: Татьяна называет Онегина «рабом мелкого чувства».
Следующая 46-я строфа как бы служит контрастом этой гневной вспышке. Прерывистая и стремительная речь сменяется с первой же строки замедленным лирическим темпом («А мне, Онегин, пышность эта…»), – темпом, который, правда, сейчас же ускоряется, чтобы во 2-й полустрофе стать господствующим. Строфа естественно распадается на два одинаковых периода по 7 строк; первый, проведенный (за исключением начальной строки) в торопливом тоне, передает своими быстрыми перечислениями темп светской жизни Татьяны. «Вихрь света», пестрое мелькание маскарада, «весь этот блеск и шум, и чад» – вся эта смена коротких и мелькающих однородных определений передают однообразную, суетливую и беспрерывную сутолоку этой мишурной жизни. Почти сплошное перечисление резко прерывается посередине коротким вопросом: «Что в них?». Открывается как бы мгновенная брешь в заколдованном и неразрывном кругу этой «постылой жизни» и высота тона достигает силы почти трагического вопроса, одинаково выражающего томительную драму освобождения и сознания своей безвыходности. Характерно, что с чисто метрической стороны мы имеем здесь случай спондея, отмечающего тяжелую ударность этого внезапного вопроса. Сама вопросительная форма нисколько не понижает, напротив, в общей системе окружающих перечислений выделяет и повышает патетический характер этого мелькнувшего вопроса. Первая полустрофа проведена в высоком тоне драматического протеста, хотя и затушеванного некоторым оттенком усталости и глухого подавленного отчаяния.
Совершенно иначе интонирована вторая полустрофа, передающая в более пространных фразах заветную мечту Татьяны. Тон утрачивает напряженную высоту и относительную торопливость предшествующих строк, становится замедленнее, спокойнее, плавнее, принимает оттенок задумчивой созерцательности, достигает глубокой сосредоточенности в словах: «За те места, где в первый раз, Онегин, видела я вас» и завершается кодой с короткими словами, простым синтаксисом и легкими рифмами, в которой картина сельского кладбища (типическая тема созерцательных элегий Жуковского), образ смиренного креста, осененного сквозной тенью ветвей, замечательно гармонирует с ниспадающим и облегченным, как тихий вздох, интонированием последней жалобы Татьяны.
Приемы замедления здесь определенно ощущаются. Это единственная строфа, в которой Татьяна дважды называет Онегина, оба раза вставляя его имя в середину фразы и этим задерживая ее ход («А мне, Онегин, пышность эта…», «За те места, где в первый раз, Онегин, видела я вас…»). Другой прием – завершение длинной многочленной фразы неожиданным и неподготовленным вопросом – вызывает глубокую и длительную паузу.
Таким образом, интонационный рисунок идет от лирически-замедленного обращения, отмечающего перелом в целом монологе, через ускоренный темп отрывка о светском маскараде к глубоким замедленным, сдержанно-взволнованным тонам дальнейшего признания, завершаясь молитвенно-примиренным видением дорогой и далекой могилы. Кода этой строфы звучит как последние, разрешающие скорбь и возносящие ввысь, аккорды заупокойных месс – De Profundis или Requiem aeternam.
Это равновесие высоких и низких тонов, искрящиеся и пестрые переливы первой полустрофы, глубокие и плавные ноты второй, ведущие к воздушно-легкому, хотя и грустному, разрешению всего ритмического периода, создают в связи с лирическим ходом фрагмента прекраснейшую строфу-элегию. Господствующий в романе разговорный тон здесь сочетается с подлинным напевным стилем, возводящим последний монолог Татьяны в высокий образец мелодического начала в русском стихе.
Стоит вспомнить такие строфы, как «Адриатические волны | О Брента! нет, увижу вас»…[94], чтобы понять, насколько онегинская строфа склонна в известных тематических условиях подниматься до подлинно музыкального тона и давать в своем развитии широкую и разнообразно звучащую кантилену.
Эта текучесть, изменчивость, гибкость и звуковая впечатлительность онегинской строфы словно созданы для передачи особых ритмических движений – для изображения танца. Волнообразный и прихотливый ритмический ход классического балета или вальса находит замечательное выражение в этой стройной, порхающей и разнообразной строфе, замечательно выдерживающей в своем разнообразии какой-то motum continuum, несмотря на все обилие пауз и всю изменчивость интонаций.
Такова строфа об Истоминой («…Блистательна, полувоздушна…» I, 20). Здесь все – переломы в системе рифмовки, гибкость четырехстопного ямба, изменчивость повествовательного темпа, приемы внезапных ускорений, повышенная подвижность стихотворного ритма, при самых разнообразных звуковых фигурах, – все служит почти пластическому изображению воздушного и строгого танца.
Те же особенности онегинской строфы сказываются и при изображении других плясовых моментов:
Однообразный и безумный,
Как
вихорь
жизни молодой,
Кружится вальса
вихорь
шумный;
Чета
мелькает за
четой…
Это повторение слов вихорь, чета – передает однообразие движения, которому начальные пэоны сообщают здесь монотонную плавность, а ускорение размеров в последующих строках придает подлинный характер какого-то «безумного кружения».
Также живописно в чисто звуковом отношении изображение мазурки, инструментованное аллитерирование р, з и к, что замечательно передает звон шпор и топот каблуков:
Мазурка раздалась. Бывало,
Когда гремел мазурки гром,
В огромной зале все дрожало,
Паркет трещал под каблуком,
Тряслися, дребезжали рамы…
Как и в первой главе, где имеется беглое упоминание мазурки («Бренчат кавалергарда шпоры; Летают ножки милых дам…»), или в подготовительных строфах:
Как гонит бич в песку манежном
На корде гордых кобылиц, —
Мужчины в округе мятежном
Погнали, дернули девиц
[95]
–
так и здесь определенно ощущается в описании мазурки особенная ритменная фигура устремленности, порыва, радостно и бодро уносящейся звуковой волны. Кажется, можно без натяжек и преувеличений утверждать, что некоторые строфы в «Онегине» выдержаны в tempo di valso, другие в tempo di mazurca.
Наконец, также искусна инструментовка народного танца на п, м и к:
Да пьяный топот трепака
Перед порогом кабака,
где скопление губных и гортанных согласных создает слуховую иллюзию тяжелого, грузного, пьяного пляса уже не на лаковых досках паркета, а по утоптанной пыли – перед порогом кабака.
V
РИТМ И СИНТАКСИС
I. Анафора и параллелизм
При изучении строфической композиции нам приходилось касаться и некоторых вопросов ритмико-синтаксического порядка (напр., вопроса о строфическом enjambement). Обратимся к более детальному рассмотрению вопросов этого порядка.
В построении ритмических периодов, как и в сочетании их, Пушкин широко пользуется приемом анафоры, часто усиливающей лирический или драматический характер отрывка:
«всегда скромна, всегда послушна, – всегда, как утро, весела»… (II, 23.) Или:
Когда
б он знал, какая рана
Моей Татьяны сердце жгла!
Когда бы
ведала Татьяна,
Когда бы
знать она могла,
Что завтра Ленский и Евгений…
(IV, 18.)
Прием анафоры удачно применяется в строфах, где говорится о музе, что придает рассказу некоторый оттенок торжественности.
Как часто
ласковая муза
Мне услаждала путь немой
Волшебством тайного рассказа!
Как часто
по скалам Кавказа
Она Ленорой, при луне,
Со мной скакала на коне.
Как часто
по брегам Тавриды
Она меня во мгле ночной
Водила слушать шум морской…
(VIII, 4.)
Или же в знаменитом начале восьмой главы: «В те дни, когда в садах Лицея»… «В те дни в таинственных долинах» (VIII, 1).
Иногда анафорой подчеркивается драматизм рассказа: такова строфа об угрызениях совести Онегина.
То видит
он: на талом снеге,
Как будто спящий на ночлеге,
Недвижим юноша лежит,
И слышит голос: что ж? убит!
То видит
он врагов забвенных,
Клеветников и трусов злых…
(VIII, 27.)
В романе имеются случаи строфических анафор:
Мой бедный Ленский
! Изнывая,
Недолго плакала она…
Мой бедный Ленский
! За могилой
В пределах вечности глухой…
(VII [8.9. 10], 11.)
Или же троекратное строфическое единоначатие в описании великосветского круга:
Тут был
, однако, цвет столицы…
Тут был
на эпиграммы падкий…
Тут был
Сабуров…
(VIII, 24, 25, 26.)
Если же следить за этой анафорой внутри строф по отдельным фразам, мы насчитаем семь случаев начального повторения. Такие многократные анафоры нередки в романе. Ими особенно богата первая глава. В одной строфе имеется пять анафорических еще («Еще амуры, черти, змеи» и проч. 1, 22), в другой шесть там, усиленных под конец повторением анафорического слова («Там, там, под сению кулис»… 1, 18). В группе строф повторяется восемь раз единоначатие как («Как рано мог он лицемерить»… I, 10, 11, 12.)
В некоторых, преимущественно лирических местах романа, мы встречаем анафорическое и в ряде строф:
И
скоро звонкий голос Оли
В семействе Лариных умолк.
И
долго, будто сквозь тумана,
Она глядела им вослед…
И
в одиночестве жестоком
Сильнее страсть ее горит.
(VII, 12, 13, 14.)
Или же в рассказе о музе (VII, 2, 3, 5, 6.)
Встречается в «Онегине» и более редкое анафорическое или, свойственное поэзии XVIII века.
Или
мне чуждо наслажденье…
Или,
не радуясь возврату
Погибших осенью листов…
Или
природой оживленный…
(VII, 2, 3.)
Нередко Пушкин применяет в онегинской строфе прием параллелизма, во многом близкий анафоре. Таковы:
Блажен, кто смолоду был молод,
Блажен, кто вовремя созрел…
С печальной думою в очах,
С французской книжкою в руках…
С огнем в потупленных очах,
С улыбкой легкой на устах.
Иногда параллелизм развертывается в целую картину, группируя свои сопоставления в законченный изящный фрагмент. Здесь в основе не звуковое и не ритмическое начало, а образное и смысловое, то – что А. Н. Веселовский называет «психологическим параллелизмом»[96].
У ночи много звезд прелестных,
Красавиц много на Москве.
Но ярче всех подруг небесных
Луна в воздушной синеве.
Но та, которую не смею
Тревожить лирою моею,
Как величавая жена,
Средь жен и дев блестит она.
II. Особые приемы (перечисления, диалоги и монологи, цитация, внестрофические части)
Для онегинской строфы синтаксически характерен прием перечисления, переходящий иногда даже за пределы одной строфы: «Среди бездушных гордецов, | Среди блистательных глупцов, | Среди лукавых малодушных, | Шальных, балованных детей»… и т. д. на протяжении целой строфы. Или в совершенно ином роде – жанр nature morte: «кастрюльки, стулья, сундуки | Варенье в банках, тюфяки | Перины, клетки с петухами | Горшки, тазы et cetera»… Иногда это вызывается быстро сменяющимися зрительными впечатлениями: «Мелькают мимо будки, бабы | Мальчишки, лавки, фонари, | Дворцы, сады, монастыри, | Бухарцы, сани, огороды»…
Это прием, чрезвычайно характерный для повествовательной системы романа, определяющий не только синтаксис, но типические законы его стилистики.
При анализе синтаксического строения онегинской строфы необходимо учитывать, что в романе большое место занимают диалоги, поддерживающие непосредственным сплетением реплик общий разговорный стиль романа. Они образуют особую своеобразную архитектонику отдельных строф и группируют в известном порядке целые отрывки глав (разговоры Онегина с Ленским, Татьяны с няней, Онегина с князем, старухи Лариной с деревенскими соседями, а затем с московскими кузинами и проч.).
Наряду с этим имеем несколько монологических строф: две обширные серии, образующих два знаменитых монолога IV и V глав («Вы ко мне писали» и «Довольно, встаньте»); любопытно отметить, что монологической строфой открывается весь роман.
Все эти разговорные строфы отличаются особым богатством интонаций, их изменчивостью и разнообразием, обилием восклицательных и вопросительных фраз, перебоями, отступлениями, перерывами, вставками и срезанными предложениями, типичными для всякой разговорной речи.
Отсюда местами в «Онегине» разработка типичного речитативного стиля – коротких стихотворных фраз, передающих беглые отрывки разговоров, вроде:
«Представь меня». – Ты шутишь? – «Нету». —
Я рад. «Когда же?» – Хоть сейчас.
(III, 2.)
Оригинальный и очень распространенный прием в «Онегине» цитация. Здесь мы встречаем исключительное разнообразие материалов: латинские стихи («Amorem canat aetas prima», «sed alia tempora»…), французские («Reveillez-vous, belle endormie»[97], «Qu’écrirez-vous sur ces tablettes?»), английские («Pour Yorick»), итальянские (Idol mio!), стих из Божественной комедии («Оставь надежду навсегда!»), из Саади («Иных уж нет, а те далече»), из Горацианской оды Дельвига («Темира, Дафна и Лилетта, | Как сон забыты мной давно»)[98], из старинной оперы («Приди в чертог ко мне златой»), из народных песен («Там мужики-то все богаты»…), из лекции Галича («Потреплет лавры старика»)[99], наконец, из девичьего альбома («Кто любит более тебя…»).
Иногда это прием мнимый, симулирующий свое задание; так некоторые латинские quasi-цитаты в «Онегине» сочинены самим Пушкиным. Но это, конечно, только подчеркивает необходимость и органичность самого приема, оживляющего рассказ пестрыми арабесками своих сентенций или метких словечек.
Так стихотворная ткань онегинской строфы богато и разнообразно расцвечена обильными реминисценциями различных текстов от Корана, персидских поэтов, Данте и Шекспира до старинных арий, альбомных куплетов, лицейских лекций и «детских песен альманаха». Это сообщает своеобразную узорность общей романической канве.
При гибкости и емкости онегинской строфы любое задание, любая тема, казалось бы, могли найти в ней свое выражение: так Пушкин, видимо, колебался, подойдет ли капризно-изменчивый стиль строфы к заунывной романтической элегии.
Первоначально образцы стихов Ленского были написаны классическими александрийцами (в сущности тоже мало идущими к стилю романтической элегии), но во всяком случае гораздо более однообразными и протяженными:
Придет ужасный миг… Твои небесны очи
Покроются, мой друг, туманом вечной ночи…
[100]
Но затем Пушкин, как известно, не включил их в роман, влив предсмертные стихи своего поэта в обычные строфы.
Тем не менее, в целях ли разнообразия стихотворной ткани, считаясь ли с тем, что некоторые темы не соответствуют выработанному строфическому стилю, Пушкин исключил из системы своей строфики различные повествовательные партии. Прежде всего – и что совершенно понятно – вне общего строфического построения остаются народные песни («Девицы-красавицы» и подготовительная «Вышла Дуня на дорогу, | Не молившись Богу…»). Выпадают из строфического строения письма Евгения и Татьяны и, наконец, альбом Онегина. Здесь труднее угадать мотивацию такого исключения: ведь высокий лирический тон любовных писем нашел прекрасное выражение и в строфах (последний монолог Татьяны), а афористический характер онегинского альбома нисколько не противоречит общему строфическому стилю. Думается, что здесь имел место обычный у Пушкина прием придания большего разнообразия обширной стихотворной ткани. Так в нестрофические поэмы вкрапливаются отдельные фрагменты в строфах (в «Кавказский пленник» – черкесская песня, в «Бахчисарайский фонтан» – татарская песня, в «Цыганы» – песня Земфиры и «Птичка божия», в «Полтаву» – отрывок «Кто при звездах и при луне…»). В «Онегине» тот же прием применен a contrario, и в почти сплошную строфическую ткань романа введены разнообразящие ее свободные фрагменты.
VI
ТЕМЫ И СТИЛЬ
1
Общий стиль «свободного романа» выразился в его говорной форме. «Евгений Онегин» в отличие от «Полтавы» или «Медного всадника» выдержан в тоне непринужденной, прихотливо изменчивой, легко порхающей беседы автора с читателем. Подобно своему герою, поэт стремится «коснуться до всего слегка». Отсюда определенное художественное задание – придать пестроту и разнообразие темам и разрабатывать их без принуждения в определенном, намеренно небрежном стиле. Вот почему лучшая критическая формула дана «Евгению Онегину» самим Пушкиным. Это —
Собрание пестрых глав,
Полусмешных, полупечальных.
Написав половину своего романа, поэт в посвящении IV главы дает меткую характеристику этой основной сущности произведения – пестрому разнообразию его состава. Он также верно определяет его общий тон и манеру: Это «небрежный плод моих забав, | Бессонниц, легких вдохновений…» В заключении романа, словно подводя итоги пройденному пути, поэт снова говорит о «строфах небрежных». Этим подчеркивается характер непринужденно занимательного разговора, приданного всему рассказу.
Чем выразился этот стиль беседы, в чем сказалась эта особая и сложная проблема «разговорности», окрасившая в разнообразные оттенки всю повествовательную ткань романа?
Прежде всего – в огромном количестве и разнообразии затронутых тем. Богатство романа здесь почти не знает границ. Основной прием аккомпанирования главного сюжета в его различных ответвлениях бесчисленными побочными темами, попутными образами, воспоминаниями или признаниями, почти безгранично расширяет пределы романической тематики. Система беспрерывных отступлений и вводных очерков дает возможность ввести в роман отзвуки разнообразнейших исторических, литературных и личных реминисценций. Обширная категория строф здесь затрагивает темы вневременного характера – чистую лирику, пейзажи, размышления, отголоски минувшего. Если выделить эту группу, стоящую под знаком вечного, весь прочий материал замыслов и образов, группирующийся вокруг основного сюжетного стержня, регулируется принципом современности трактуемых тем. В этой части тематика романа определяется характером близости к передовым и утонченным течениям и вкусам эпохи. Недаром один из самых характерных эпитетов в «Онегине» – модный, принимающий здесь часто оттенок позднейшего европейского термина modern, «модернизма», в смысле заостренной и сгущенной современности. Поэт может подчас относиться иронически к тем или иным прихотливым изломам умственного или бытового «сегодня». Но они всегда живо интересуют его. Каков бы ни был субъективный, подчас несомненно отрицательный оттенок в определениях «модного тирана», в таких стихах, как «красавиц модных модный враг» или «слов модных полный лексикон», в них всегда впечатлительно улавливаются и остро фиксируются те именно разнообразные явления,
В которых отразился век,
И
современный человек
Изображен довольно верно.
Вот почему литературные и театральные знаменитости эпохи, новые книги, различные неологизмы светской речи, даже особенности новейшего костюма, наконец, в подготовительных главах и политическая злободневность (декабризм) – все находит себе место в романе и сугубо служит выявлению его основного разговорного стиля. Что может лучше очертить и заострить этот тонкий художественный прием, чем беглые отражения еще несущейся современности, искрящейся всеми лучами и красками стремительного жизненного потока?
Другой способ выявления той же говорности относится к области стиха. Роман написан самым разговорным размером – четырехстопным ямбом. Это свойство ямба засвидетельствовано в различные времена разными авторитетами. Еще Аристотель определял ямб, как «самый разговорный из всех метров». Гораций отмечал особенную быстроту этого размера, у нас Языков обронил характерные и меткие строки:
Мой быстрый ямб четырехстопный,
Мой говорливый скороход.
Это, конечно, вполне осознавалось Пушкиным. В книге Вико, «Principes de la philosophie de l’histoire», поэт отчеркнул и отметил закладкой следующее изречение: «Le vers iambique est celui qui se rapproche le plus de la prose et l’iambe est un mètre rapide comme le dit Horace»[101].
В отличие от того же размера в других поэмах, онегинский ямб получил ритмовую и мелодическую организацию, способствующую выявлению быстрой и изменчивой разговорности романа.
Итак – пестрое, обширное, почти безграничное разнообразие тем и одинаковый живой и стремительный размер на протяжении восьми глав – вот, что несомненно способствовало выявлению основного романического стиля.
Невольно возникает вопрос: как не распался, как не рассыпался и не распылился огромный роман на основные частицы своих бесчисленных тем и строчек, что сохранило ему его органическую стройность, что держит, наконец, эти шесть тысяч ямбических стихов, словно грозящих одним своим количеством превратиться в сплошную, громоздкую и необозримую словесную массу?
2
Что держит, скрепляет и оформляет роман? Единство художественного замысла и замечательная организация ямбического дистиха – онегинская строфа.
Цельность замысла и принцип единства в исполнении нисколько не нарушается медленным нарастанием интриги, фабулистической постепенностью в развитии романа. Многое в его композиции определялось в процессе его роста, и автор первой главы в «смутном сне» еще не ответил на все запросы своей сюжетной схемы. Глубокие перспективы поэмы – «даль свободного романа» – в ее предметных соотношениях различалась неясно. Магический кристалл неразработанного замысла застилал очертания фигур и делал гадательными их будущие сочетания.
Но общий стиль намеченного огромного художественного труда совершенно отчетливо предстоял взору и воле поэта, и формула его, установленная для первой главы, определяла развитие и тон всего дальнейшего повествования. Если в те дни, когда поэт «в дружной встрече» «строфы первые читал», он еще не мог определить многих важных композиционных моментов своего сюжета (вроде того, когда герой влюбляется в героиню – в начале или в конце романа), – уже тогда общий тон и характер последующих глав вплоть до VIII с ее сатирическими картинами, интимными признаниями и высокими лирическими взлетами был намечен, определен и отчетливо очерчен.
При всех неровностях композиционного темпа, перерывах, провалах, иногда недоговоренностях и неясностях, «Евгений Онегин» представляет со стороны артистического стиля единое монолитное и завершенное целое. Это органическое единство просачивается в каждый фрагмент романа и на всем его пространном протяжении мы не найдем в пестром многообразии его элементов ни одного осколка, нарушающего основной закон этого единого стиля.
Другое организационное начало в чисто стихотворном отношении – строфа. Своим сложным организмом она замечательно соответствует общему повествовательному заданию и полностью отражает его во всех его изломах и изгибах. Разнообразная система рифмовки, бесчисленные возможности в сечении онегинской стансы на малые строфы разнородных типов и объемов, обилие ритмических фигур, неисчерпаемые мелодические и синтаксические вариации, в силу общей подвижности стиха и необходимости строфической композиции, замечательно отвечают принципу разговорного стиля, осуществленного в многообразии тем и в текучей легкости размера.
Строфа романа глубоко органична. То, что сам поэт определяет здесь, как «длинной сказки вздор живой», т. е. смену увлекательных вымыслов, облеченных в форму блестящей causerie, поразительно отливается в куплетную систему «Онегина».
Основному художественному заданию – выявлению единства в многообразии здесь служит все: и бегло проносящийся стих, и прихотливая стилистка «пестрых глав», и богатая тематика романа и, наконец, основная композиционная единица этого огромного, сложного и живого целого – онегинская строфа.
Поэтика русского сонета

I
Форма сонета, при сложности, строгости и сжатости, обладает способностью замечательно выявлять все богатства данного поэтического языка. Разнообразие рифм, редкость и ценность всех изобразительных средств стиха, гибкость его ритмов, способность подчиняться различным строфическим типам – все это выступает с исключительной полнотой в этой самой требовательной из стихотворных форм. Каноническое сочетание двух катренов и двух терцетов словно производит смотр всем метрико-лингвистическим богатствам целой поэзии.
Самый термин, определивший этот стихотворный вид, указывает на высшее поэтическое качество, связанное с ним, – на звучание стиха. В Италии он произошел от sonare, в Германии его называли одно время Klinggedicht. Звуковое достоинство сонета, его ритмическая стройность, звон рифм и живая музыка строфических переходов – все это уже предписывалось первоначальным терминологическим обозначением этой малой стихотворной системы.
Отсюда ее процветание в эпохи высокого культа поэтической формы. Европейское Возрождение сообщило поразительное цветение сонету, возникшему еще в XIII ст. (по-видимому в Сицилии) и хорошо знакомому Данте. В «La Vita Nuova» основная проза повествования оживлена разнообразными сонетами, подчас правильными, как например, I, III, VI, VIII, X и другие, подчас свободными и усложненными (сонеты IV, V, XVIII). Некоторые из них, по безукоризненному соблюдению правил, свидетельствуют, что новая форма уже выявилась полностью и уверенно утвердилась для разработки лирической темы.
В последующую эпоху господства «петраркизма», как основного поэтического стиля, сонеты культивируются в Европе всеми первоклассными поэтами и даровитыми дилетантами: Шекспиром, Микеланджело, Клеманом Маро, представителями французской «Плеяды» и многими другими. Сам Петрарка утвердил сонет высоким совершенством своих формальных достижений. Это чувствуется даже в переводе (правда, в передаче такого первоклассного мастера сонетного искусства, как Вячеслав Иванов):
Благословен день, месяц, лето, час
И миг, когда мой взор те очи встретил!
Благословен тот край и дом тот светел,
Где пленником я стал прекрасных глаз!
Благословенна боль, что в первый раз
Я ощутил, когда и не приметил,
Как глубоко пронзен стрелой, что метил
Мне в сердце Бог, тайком разящий нас!
Благословенны жалобы и стоны,
Какими оглашал я сон дубрав,
Будя отзвучья именем Мадонны!
Благословенны вы, что столько слав
Стяжали ей, певучие канцоны, —
Дум золотых о ней единый сплав
[102]
!
Французский Ренессанс возвел сонет на степень излюбленной и модной поэтической формы. В значительной степени это была заслуга «божественного» Ронсара, продолжавшего традиции Петрарки в культивировании любовного сонета. Его пьесы к Кассандре, Марии, Астрее, Елене создают замечательные сонетные циклы, объединенные именами его возлюбленных. Мастерство Ронсара как бы уточняет сонетные правила, еще недостаточно закрепленные великими итальянскими сонетистами, и не трудно заметить, что терцеты, например, приобретают у него всю отчетливость позднейшего строгого канона.
Один из лучших сонетов Ронсара – это Sonnet pour Hélène («Je plante en ta faveur cet arbre de Cybèle»…):
Сажаю в честь твою я дерево Цибелы,
Сосну, чтоб о тебе все знали времена.
Любовно вырезал я наши имена,
И вырастет с корой их очерк огрубелый.
Вы, населившие родные мне пределы,
Луара резвый хор, вы, фавнов племена,
Заботой вашею пусть возрастет сосна,
Чтоб ветви и зимой и летом были целы.
Пастух, ты пригонять сюда свой будешь скот,
С тростинкой напевать эклогу в этой сени,