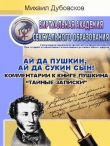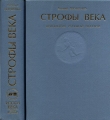Текст книги "Цех пера. Эссеистика"
Автор книги: Леонид Гроссман
Жанр:
Публицистика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 22 (всего у книги 34 страниц)
Трубят в рога!
Разить врага
Другим пора!
Или же:
В колонну
Соберись бегом!
Трезвону
Зададим штыком.
Скорей! Скорей! Скорей!
Это разнообразие словесных и общеизобразительных стилей, при некоторой их эксцентричности и сгущенности, придает всему произведению Салтыкова намеренно нереальный и подчеркнуто-условный характер. Герои глуповской летописи в большинстве случаев построены по образцу заводных игрушек, раскрашенных автоматов, подвижных кукол с искусным механизмом и заученными речами. Кажется, органчик имеется не только в голове Брудастого, но и у всех коллег по глуповской администрации. Все они могли бы выйти из мастерской Винтергальтера и лечиться у часового мастера.
Лишь в виде исключения Салтыков дает в своей летописи живые и сочные фигуры. В этом отношении замечательны по художественной выразительности и полнокровной свежести письма характеристики двух зазноб бригадира – посадской жены Алены и стрельчихи Домашки. Первая, по свидетельству летописца, «цвела красотой». «По-видимому, эта женщина представляла собой тип той сладкой русской красавицы, при взгляде на которую человек не загорается страстью, но чувствует, что все его существо потихоньку тает. При среднем росте она была полна, бела, румяна; имела большие серые глаза навыкате, не то бесстыжие, не то застенчивые, пухлые вишневые губы, густые, хорошо очерченные брови, темно-русую косу до пят и ходила по улице: „серой утицей“…»
Этот беглый очерк может стать в ряд с первоклассными портретами в русской литературе. Быть может, он не случайно близко напоминает образ Грушеньки в «Братьях Карамазовых».
Уменье и опыт художника сказались в контрастном разнообразии таких живых зарисовок. Полная противоположность Алене – стрельчиха Домашка: «Худо умытая, растрепанная, полурастерзанная, она представляла собой тип бабы-халды, походя ругающейся и пользующейся всяким случаем, чтобы украсить речь каким-нибудь непристойным движением. С утра до вечера звенел по слободе ее голос, клянущий и сулящий всякие нелегкие, и умолкал только тогда, когда зеленое вино угомоняло ее до потери сознания. Об одеждах своих она не заботилась, как будто инстинктивно чувствовала, что сила ее не в цветных сарафанах, а в той неистощимой струе молодого бесстыжества, которое неудержимо прорывалось во всяком ее движении».
Таковы немногие живые портреты «Летописи».
Но почти все остальные герои здесь выдержаны в стиле марионеток. Широко развернутая картина их угловатых движений и нелепых поз, странная механика их неоправданных жестов и бессмысленных речей создает в целом впечатление жуткой клоунады, окатившей своим тесным кольцом всех обитателей фантастического города.
Так и понимал свою тему Салтыков. Русская история намеренно представлена им в аспекте кровавого фарса или трагического балагана.
VI
Вызвать ужас и содрогание в читателе и стремился Щедрин. В своем осмеянии он был всегда беспощаден, стремясь хладнокровно рассекать больные ткани живого тела и со всей отчетливостью произносить самые безнадежные приговоры. В Салтыкове было нечто от хирурга и от судьи.
Сын его сообщает в своих воспоминаниях поразительный случай, свидетельствующий о непреклонности суждений Салтыкова и суровой неумолимости его смеха. Это мимолетный эпизод, но в нем сатирик очерчен во весь свой рост.
30 декабря 1877 года Петербург хоронил Некрасова. Во время мучительной и долгой агонии поэта, когда раздавались в «Последних песнях» его предсмертные, душу раздирающие стоны, русское общество с тревожным участием следило за этим медленным угасанием. Представители самых разнообразных кругов торопились высказать умирающему всю свою глубокую привязанность к нему. Это еще решительнее и единодушнее сказалось в момент кончины поэта, когда к телу его сходились огромные толпы, каких, по свидетельству современника, не было видно у писательского гроба с момента смерти Пушкина. Похороны поэта превратились в торжественную манифестацию, охваченную искренней и глубокой горестью русских читателей по ушедшему «печальнику горя народного».
На похоронах Некрасова присутствовал и Салтыков, его давнишний литературный соратник, сотрудник и товарищ. Сатирик по-своему помянул поэта. В карете погребального шествия он устроил партию в винт и, высовываясь из окна экипажа, с жестокой усмешкой показывал окружающим игральные карты в знак наилучших поминок по усопшему.
Таков этот характерный эпизод. Общая скорбь не действовала на аналитический ум Салтыкова. Он умел и перед раскрытым гробом судить своего современника бесстрастно и неумолимо, без уступок и снисхождений. Трагизм момента, личная близость к покойному, общая скорбь о нем не могли понизить обвинительного пафоса его сатиры.
Таким же выступает Салтыков и в своих писаниях. Верный себе, своему холодному, трезвому и строгому взгляду, так же сурово и неуступчиво судил он Россию, ее прошлое и настоящее, ее правителей и подданных, своих отдаленных предков и близких современников.
Взгляд его на судьбы своей страны был мрачен и безотраден до отчаяния. Недаром Тургенев сейчас же по появлении «Истории одного города» отметил, что «сатирическая манера Салтыкова до некоторой степени сходна с манерою Ювенала» и что «в Салтыкове есть что-то свифтовское». Недаром сам Салтыков отмечал в истории своих героев «не смех, а трагическое положение»: «Изображая жизнь, находящуюся под игом безумия, я рассчитывал на возбуждение в читателе горького чувства, а отнюдь не веселонравия», – писал он по поводу упреков его «в смехе ради смеха». Ему пришлось даже оправдываться от обвинений в глумлении над народом, причем он имел мужество заявить, что «историческому русскому народу» он сочувствовать не может.
И действительно, его глуповцы, ограниченные и безвольные, угнетенные и тупо-пассивные, заслуживают эти жестокие шутки, пасмурную иронию и судорожный смех их горестного летописца. Может быть, потому, закрывая его книгу, уже нельзя повторить знаменитого элегического восклицания Пушкина над гоголевской повестью: «Боже, как грустна наша Россия»! – ибо не грустная и не смешная, не беспорядочная, грешная и беспомощная, а воистину страшная, жуткая и отталкивающая жизнь возникает из этой сплошной картины распутства и неистовства, кретинизма и кровожадности. Иногда эта атмосфера ненависти, злобы и глупости так сгущается, что нам становится душно. В этой мрачной книге некого любить и нечем любоваться. Автор ее спокойно и презрительно обнажает перед нами изнанку официальной истории, чтоб раскрыть во всем ее отвратительном виде печальную картину распада и разложения вымирающей власти. «История одного города» кажется протоколом вскрытия.
Как далек этот гигантский памфлет Салтыкова от великой и человечной сатиры Рабле! По словам одного французского критика, корабль Пантагрюэля плывет в открытом океане Природы и Науки, ветер будущего вздувает его паруса, заря Ренессанса пылает на горизонте; как и корабль Гулливера, он пристает к символическим островам лжи и невежества, – «но веселые великаны, плывущие на нем, презирают их чудовищ, разгоняют их призраки и заклинают их демонов раскатами громового смеха…»
Сколько бодрости и жизненной силы в такой сатире! Герои Салтыкова не знают этих радостных вдохновений и творческих надежд. Их прошлое жалко и безобразно, их будущее безнадежно. Их мечтам и ожиданиям положен предел аракчеевским речением: «Идет некто за мною, который будет еще ужаснее меня». И зловещим эпилогом их летописи звучит ее заключительная фраза: «История прекратила течение свое…» Нет исхода из этой жизни под игом безумия, нет просвета в тягостной грусти, отлагаемой в сознании читателя этой бессмертной и печальной книгой.
Но нужно помнить задание сатирика. Тысячелетие рабства и века железного гнета предопределили его разрушительный пафос и отточили его разящий стиль. Холодный, суровый и ясновидящий взгляд писателя здесь менее всего мог изменить ему. Задолго до революции он обрек на гибель русский монархизм, с неподражаемым искусством вскрыв его внутреннюю опустошенность и показав своим современникам жуткое вырождение его последних носителей. В русской художественной литературе нет более мощной сатиры на вымирающих представителей вековой династии, вызвавшей в эпоху своего безусловного господства беспощадное и выстраданное слово одного угрюмого и смелого художника. Возмущение тысячелетним списком насилий и обид сообщило мужественную энергию этим бичующим страницам, а строгий дар словесного мастера придал выпуклую завершенность чудовищным образам, порожденным этим неподражаемым сарказмом.
Вот почему среди русских книг навсегда сохранится эта жуткая отходная российскому самодержавию, неумолимо и гневно прозвучавшая ему в лицо ровно за полстолетия до его крушения.
Лесков

I
Значение Лескова в русской литературе определилось лишь в последние десятилетия. Для новейшего поколения русских писателей он, несомненно, занял положение учителя. Непризнанный при жизни, осуждаемый видными представителями критики и в первое время после своей смерти, автор «Очарованного странника» стал бесспорным руководителем крупнейших современных беллетристов. Авторы самых разнообразных направлений признают его теперь первоклассным мастером словесного искусства, открывающим самые верные пути к художественному совершенству рассказа и дающим в своем творчестве наиболее зрелые и законченные его образцы. Через школу Лескова прошли Горький и Ремизов, Кузмин и Замятин, «Серапионовы братья» и многие другие из новейших русских прозаиков. Все они нашли чему поучиться у этого превосходного мастера живописного изображения и увлекательного мастера повествования.
Это признание писателя сильно запоздало. Долгое время, почти до самого конца своей неутомимой и на редкость продуктивной деятельности, Лесков считался у нас отверженным автором, осудившим себя на изгнание из литературы резкими выступлениями против «шестидесятников». Малохарактерные для зрелого Лескова его ранние обличительные романы создали ему репутацию безжалостного обличителя передового общественного движения середины столетия. Это впечатление и стало той «легендой», которая создается вокруг каждого писателя и становится понемногу общедоступной крылатой формулой, определяющей его художественную личность в коллективном сознании читателей.
Такие условные суждения или ходячие «предрассудки о писателе» бывают необыкновенно живучи и часто становятся почти неискоренимыми из прочно сложившегося общего мнения. Лесков испытал это в полной мере. Ему пришлось всю его жизнь бороться за принадлежащее ему по праву почетное место в русской литературе и лишь незадолго до смерти дождаться некоторого признания в среде молодого писательского поколения, пришедшего на смену его старшим современникам. Справедливое возведение его в степень великого русского писателя, достойного стать в ряд с первоклассными мастерами нашей художественной прозы, происходит лишь в наши дни, четверть века спустя после смерти Лескова.
В связи с этим признанием замечается и некоторое оживление в области изучения его биографии и произведений. Пока еще малозаметное, оно все же успело уже значительно прояснить затемненный облик писателя и раскрыть нам его живое и богатое многообразие. То, что было признано наиболее показательным для него старой критикой, явно отступает на задний план, уступая подлинно существенному первое место в его окончательной характеристике. Знаменитое обличение нигилистов представляется лишь случайным эпизодом в богатом репертуаре лесковских тем и образов. Мы находим у этого «реакционера» и сочувственные зарисовки передовых деятелей его поколения, и восторженное описание героических борцов за независимость, и в частности зачерченный с глубокой симпатией образ Герцена, и живой интерес к тогдашнему пролетариату, и, наконец, органическое влечение к крестьянству, его быту, языку, преданиям и легендам. Нужно помнить, что Лесков начинал свою деятельность статьями о рабочем классе, о переселении крестьян, о торговой кабале, о найме рабочих, об искоренении пьянства, о врачах рекрутских присутствий и полиции, о народном здравоохранении, о женском равноправии и проч., и проч. Многие из этих тем перешли затем в его художественное творчество и получили в его рассказах новую выпуклость и повышенную выразительность. Наряду с этим и в знаменитых «реакционных романах» Лесков далеко не ограничивался памфлетами на передовых деятелей движения. Он, конечно, имел право утверждать, что дал русской литературе образы «безупречных и чистых нигилистов» (Овцебыка, Райнера, Помаду, Артура Бенни и Лизу Бахареву).
Вот почему не только художественными данными – образностью слога, юмором и занимательностью изложения, обилием композиционной выдумки или живостью диалога – Лесков отвечает запросам нашей эпохи. В целом ряде своих страниц он близок нашему времени не одними только стилистическими данными, но и темами, образами, замыслами, идеями и тенденциями своего творчества. Жуткие рассказы о крепостной охоте, о трагическом «житии одной бабы», о бесчеловечности воинских присутствий николаевской эпохи, о жестокой системе крестьянских переселений – сохраняют все свое значение и для современного читателя. Это живые страницы, до сих пор потрясающие нас суровым драматизмом своего письма и действенной силой своих симпатий, осуждений или призывов. Это тот «неумирающий Лесков», который полноправно вступает в заветный круг великих русских писателей.
II
Учительное значение Лескова для новейших авторов объясняется в значительной степени системой его художественной работы и принципами его литературного мастерства. За свой долгий писательский путь он не мало думал о теории повествовательного искусства и законах своего трудного ремесла. Он выработал свою тонко продуманную поэтику, которая отчетливо сказалась на его писаниях и может служить превосходным руководством для всех работников повествовательной прозы.
В основе литературной эстетики Лескова положена мысль о теснейшем соприкосновении художника с современной действительностью. Он считал величайшим преимуществом для писателя непосредственное столкновение с жизнью, жадное накопление личного опыта и живых наблюдений. Он не переставал советовать молодым писателям «выезжать из Петербурга на службу в Уссурийский край, в Сибирь, в южные степи – подальше от Невского!» Основой писательского труда он всегда считал глубокое погружение в действительность.
Личная жизнь Лескова способствовала богатому накоплению разнообразных жизненных впечатлений. Это сказалось прежде всего на пестроте сословных традиций, воспринятых будущим писателем. Отец его был скромным чиновником, принятым лишь после долголетней службы в дворянское сословие. Мать писателя принадлежала к богатой помещичьей семье. Дед Лескова по отцу был священником, бабка по матери происходила из купеческой семьи: «он с раннего детства постоянно находился под влиянием всех этих четырех сословий, – пишет один из его первых биографов, – а в лице дворовых людей и нянек еще под сильным влиянием пятого, крестьянского сословия: его няня была московская солдатка, нянькою его брата, рассказами которой он заслушивался, – крепостная. Нам кажется, что трудно представить себе более значительное разнообразие в воздействии представителей разных наших сословий на жизнь ребенка, тем более, что на него влияли и представители других национальностей, в том числе особенно сильно немец и англичанка». Все это заметно сказалось впоследствии на писаниях Лескова: он навсегда сохранил вкус к описанию нравов, характеров и бытового уклада купечества, духовенства, старинной помещичьей среды с ее пестрым окружением дворовых людей, крестьян и особого типа «русских иностранцев», неизбежных в дворянском кругу старой России.
Таким же разнообразием отмечалась пора роста Лескова. Ранние годы его прошли в деревенской глуши Орловской губернии, где он родился, и отчасти в самом Орле, где проходили годы его учения. Ранняя смерть отца оборвала этот гимназический период лесковской биографии. Начались долгие годы разнообразной служебной, деловой и литературной деятельности Лескова. Он служил в Орловской уголовной палате, в рекрутском отделе Киевской казенной палаты, в канцелярии киевского генерал-губернатора, в частном пароходстве, в управлении имениями, в министерствах народного просвещения и государственных имуществ. Литературная работа сближала с видными деятелями журнальной и политической жизни.
Различные деловые поручения и служебные командировки способствовали его писательской страсти к путешествиям, которая постоянно питалась и его личной инициативой. Вся средняя полоса России, Украина, Волга, Валаам, Рига, крупнейшие заграничные центры ему были знакомы и отразились в его страницах. «Разъезды доставили Лескову великое знакомство с русскими людьми всех классов и с условиями русской жизни» – сообщает близко знавший Лескова И. А. Шляпкин. – «Этому делу обязан я литературным творчеством. Здесь я получил весь запас знания народа и страны», – говорил неоднократно покойный… Находясь в Пензе, по делу постройки паровой мельницы, Н.С. страстно привязался к лошадям, изучая башкир, и плодом этого в связи с посещением острова Валаама в 1872–1874 гг. явился рассказ «Очарованный странник». Так Лесков не переставал учиться в своих разъездах, скитаниях и паломничествах.
Отсюда поразительное богатство пейзажей, типов, бытовых обстановок, событий и языковых особенностей в его творчестве. Редко у кого из русских писателей мы находим такую пеструю «смесь одежд и лиц, племен, наречий, состояний». Огромное количество его бытописательских страниц, его излюбленных портретных и жанровых зарисовок представляют собой страницы из личной биографии Лескова.
Но, помимо непосредственных впечатлений, много дала Лескову и книга. Он никогда не переставал учиться, собирать редкие издания и старинные рукописи, накоплять познания в разнообразнейших областях. Не окончивши ни одного учебного заведения, он, несомненно, представлял собою замечательнейшего русского самоучку, обладавшего глубокими познаниями в области русской истории, искусства, иконописи, раскола и проч. Для Лескова характерны утверждения, что литератор не ученый, но он более чем ученый: «он не так фундаментально образован, как последний, но он всестороннее его».
Недаром, на вопрос о своей подготовке к литературному поприщу, Лесков любил вспоминать старинные книгохранилища. «Началось это с чтения самых разнообразных книг, а в особенности беллетристов, во время моего пребывания в орловской гимназии». В это время Лесков перечел почти всю богатую библиотеку жившей в Орле племянницы писателя Массальского. «Так началось мое умственное развитие…»
Лесков был замечательным начетчиком. Недаром он говорил в старости, что для литературного образования необходимо «до седых волос не расставаться с книгой», «не разлучаться с великими учителям». Судя по его сочинениям, список его библиотеки должен был отличаться исключительным разнообразием, а история его чтений охватила бы не только крупнейшие произведения мировой литературы, истории и философии, но и ряд специальных, научных областей. Известно, что после Лескова осталась обширная библиотека, количеством около трех тысяч томов. Среди них находилось не мало редкостей, запрещенных книг, дорогих старопечатных изданий, справочников и словарей. Все это постоянно питало его творчество, все это сообщало ему не только замыслы и темы, но и всячески утончало его повествовательное мастерство, раскрывая на великих образцах мировой литературы те сложные тайны живого и увлекательного повествования, которые до конца не переставали захватывать и волновать этого замечательного сказочника.
III
«Живите, государи мои, люди русские, в ладу со своею старою сказкою. Чудная вещь – старая сказка! Горе тому, у кого ее не будет под старость! Для вас вот эти прутики старушек ударяют монотонно, но для меня с них каплет сладких ощущений источник. О, как бы я желал умереть в мире с моею старою сказкою!..»
Эти прекрасные слова одного из любимых героев Лескова замечательно определяют характер его собственного творчества. Старая сказка, забавная и ученая, умудренная житейским опытом и расцвеченная заманчивой фантазией, представляла для него совершенный тип художественного повествования. Он стремился усвоить ее приемы и средства, воспринять для собственных созданий ее драгоценные качества живого и увлекательного изложения. Вот почему проблема занимательности рассказа стояла в центре лесковской поэтики.
«Я думаю заодно с теми, кому кажется, что „все роды хороши, кроме скучного“, – писал он одному из своих редакторов. – Я люблю вопросы живые и напоминания характерные, веские и поучительные… Что интересно, весело, приправлено во вкусе и имеет смысл, то и хорошо». О задуманном рассказе «Разбойник Кудеяр» он пишет в редакцию: «Это будет невелико, живо и интересно». В другом письме он сообщает о приобретенной им рукописи «Удивительные повести о семи мудрецах 1702 года»: «Повести превосходные, Бог весть с какого латинского оригинала – все любовные и действительно „удивительные“… Каждая повесть не более одного листа, и читаться будут они со смехом и с интересом».
Таким образом Лесков сводит проблему занимательности рассказа преимущественно к его краткости и юмору. Но при этом он всегда был особенно озабочен богатством и разнообразием своих фабул. Эти заботы до такой степени захватывали его, что он нисколько не скрывал от своего читателя этих профессиональных секретов своей писательской лаборатории.
В своих художественных произведениях он неоднократно высказывал горестные раздумия об оскудении сюжетов в русской беллетристике и пытался объяснить это условиями окружающей действительности. В ответ на замечание одного французского критика о «бедности содержания» русских повестей и романов Лесков указывает на скудность самой жизни, которую должен воспроизводить в своем труде художник. Романы, сюжеты которых заимствованы из времен Петра Великого, Бирона, Анны Ивановны, Елизаветы и даже императора Александра I, далеко не безупречные в отношении мастерства рассказа, отнюдь не страдают «бедностью содержания». Литература, по мнению Лескова, оскудела по части сюжетности в эпоху монотонности самой жизни, в неподвижно застывшее царствование Николая I. Художнику предоставлялось в то время только тонко отделывать произведения, лишенные общественного значения:
«Пора сугубо-бедных содержанием беллетристических произведений в то же самое время была порой замечательного процветания русского искусства и передала нам несколько имен, славных в летописях литературы по искусству живописания. Воспроизводя жизнь общества, отстраненного порядком вещей от всякого участия в вопросах, выходящих из рам домашнего строя и совершения карьер, романисты указанной поры, действуя под тяжким цензурным давлением, вынуждены были избрать одно из оставшихся для них направлений: или достижение занимательности произведений посредством фальшивых эффектов в сочинении, или же замену эффектов фабулы высокими достоинствами выполнения, экспрессией лиц, тончайшею разработкой самых мелких душевных движений и микроскопическою наблюдательностью в области физиологии чувства. К счастью для русского искусства и к чести для наших писателей, художественное чутье их не позволило им увлечься на вредный путь фальшивого эффектничанья, а обратило их на второй из указанных путей, и при „бедности содержания“ у нас появились произведения, достойные глубокого внимания по высокой прелести своей жизненной правды, поэтичности выведенных типов, колориту внутреннего освещения и выразительности обликов… Большая законченность рисунка стала у нас необходимым условием его достоинств. Картины с композицией более обширною, при которой уже невозможна такая отделка подробностей, к какой мы привыкли, многим стали казаться оскорблением искусства, а между тем развивающаяся общественная жизнь новейшей поры, со всею ее правдой и ложью, мимо воли романиста начала ставить его в необходимость „давать читателю“ новые картины, захватывающие большие кругозоры и представляющие на них разом многообразные сцены современной действительности».
Таким образом артистичность отделки нисколько не избавляет писателя от необходимости разрабатывать обширные и пестрые темы, возбуждающие интерес современного читателя.
В другом произведении он вспоминает «целый рой более или менее замечательных историй и историек, которые издавна живут в той или другой из русских местностей и постоянно передаются из уст в уста, от одного человека другому»: они представляют, по мнению Лескова, как бы продолжение народного творчества, в котором «ярко обозначается настроение умов, вкусов и фантазии людей данного времени и данной местности». Так, по личным наблюдениям Лескова, в украинском эпосе преобладает героический характер, «а в историях великорусских и особенно столичных, петербургских – больше сказывается находчивость, бойкость и тонкость плутовского пошиба».
Это влечение Лескова к живому, тонкому и находчивому рассказу обращало его к анекдоту, остроумной реплике, каламбуру. Он уже в молодости следит за острословами и «бонмотистами», наблюдая мастеров игривой речи в среде киевского купечества, духовенства, университетских профессоров и даже высшей администрации. Любопытны его наблюдения и меткие характеристики различных манер шутливой беседы, которые, несомненно, отразились впоследствии на его собственных страницах.
Характерно, что в свою записную книжку Лесков относил «и меткие слова, и прозвища, и небольшие анекдоты». Многие из них послужили ему ядром для его лучших вещей. Так, приступая к трогательному рассказу «Человек на часах», Лесков замечает: «Это составляет отчасти придворный, отчасти исторический анекдот».
Одно время Лескова считали по преимуществу «писателем-анекдотистом» и видели в этом основание для хулы и осуждения. Необходимо признать, что в этом пристрастии сказывался верный инстинкт рассказчика, правильно понимающего, что анекдот являет собою «краткую повесть», в которой основные качества новеллиста – умение поразить и захватить читателя – представлены с максимальной краткостью и высшей выразительностью.
IV
Заботясь о постоянном облегчении читателю восприятия рассказа, Лесков выработал ряд особых приемов в целях повышения общей занимательности своего текста.
Так, в целях оживления читательского внимания, он разбивает обычно рассказ на небольшие главы, выделяя беглый переход повествования в самостоятельную краткую главку, размером иногда в несколько строк. Этим достигается также более отчетливое выделение данного эпизода, как бы усиление направленного на него освещения. Этим даром разрезать рассказ и поднимать к нему интерес умелым распределением частей Лесков владел в совершенстве. Он создал свой самостоятельный тип сечения новеллы, и общий облик его рассказов, где быстро чередуются короткие главы, возобновляясь почти на каждой странице, создает то легко обозримое целое, которое без напряжения или усталости воспринимается читателем.
Не меньшее значение придавал Лесков и заглавиям своих произведений, считая важным поразить внимание читателя еще до начала чтения. Отсюда его склонность к необычным, загадочным, интригующим или не вполне понятным терминам в обозначении своих произведений (например, Шерамур, Овцебык, Чертогон, Тупейный художник, Заячий ремиз, Некрещеный поп, Жидовская кувырколлегия и проч.). Нередко Лесков подчеркивает эту заманчивую таинственность своего произведения в самом заглавии или по крайней мере в подзаголовке: «Секрет одной московской фамилии», «Таинственные предвестия», «Загадочное происшествие в сумасшедшем доме», «Невероятное событие» и проч. Он придумывает такие замысловатые заглавия, как: «Сеничкин яд в тридцатых годах», или «Шепотники и фантазеры», «Дама и фефела», «Краткая трилогия в просонках» и проч.
Способность его к выдумке сказывалась в обилии заглавий, которые он подчас придумывал, к одному произведению. Когда редакция «Исторического Вестника» возразила против названия одного лесковского рассказа, автор предложил ей на выбор три других, совершенно между собой не схожих и неизменно выразительных в своем разнообразии («Площадный скандал», «Всенародный гросфатер» или «Дурной пример»). «Я даю заглавие по первому впечатлению», – сообщает он в своем письме С. Н. Шубинскому.
Но, несомненно, это «первое впечатление» нередко сильно перерабатывалось и изменялось. Окончательному заглавию «Соборяне» предшествовали «Божедомы» и «Чающие движения воды» (здесь, правда, менялось не только заглавие, но и вся редакция повести). «Скоморох Памфалон» заменил начального «Боголюбезного скомороха»; в заглавии «Леди Макбет Мценского уезда» стояло в первой редакции «нашего уезда», «Антука» пришло на смену «Обозного палача»; «Человек на часах» заменил «Спасение погибавшего». Первое заглавие «Очарованного странника» имело пространное продолжение – «его жизнь, опыты, мнения и приключения», а «Заячий ремиз» носил в рукописи заглавие «С болваном».
Нужно отметить, впрочем, что не всегда такие изменения приводили к лучшей формуле. Заглавие первой редакции крестьянского романа «Житие одной бабы» было, несомненно, удачнее заменившего его вычурного наименования второй редакции – «Амур в лапоточках», совершенно не идущего своим кудрявым и игривым стилем к простой и печальной повести замученной крестьянки.
Наряду с заглавием такую же функцию искусственного возбуждения читательского внимания имеют и эпиграфы. Изречение, стих или обстоятельная цитата, поставленная перед изложением, придают ему особый тон, возвещают характер сюжета, кратко сигнализируют о содержании рассказа. Они бегло определяют основной замысел или общий стиль произведения и нередко служат возбуждению читательского интереса. Лесков широко применяет этот прием расцвечивания своего текста выразительными отрывками известных авторов. Здесь, конечно, ему широко приходит на помощь его обширная начитанность. Народные песни и сказания, поговорки, церковные книги, иностранные и русские авторы (мы находим у Лескова эпиграфы из Ларошфуко, Карлейля, Гете, Майкова, Феокрита, Мюрже, Даля, Тургенева, житий, Евангелия, Пушкина, Фета).
Характерно, что часто до написания вещи Лесков уже тщательно обдумывал ее заглавие, подзаголовок и эпиграф. Так, купив записи о скандалах 30-х и 40-х годов и собираясь их разрабатывать, он сообщает редактору заглавие задуманной серии «Шепотники и фантазеры», подзаголовок «Апокрифы, вымыслы и шутки безмолвной поры» и выбранный им редкий эпиграф из «Актов истории».