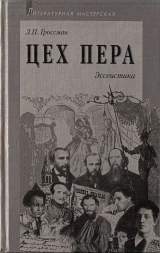
Текст книги "Цех пера. Эссеистика"
Автор книги: Леонид Гроссман
Жанр:
Публицистика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 23 (всего у книги 34 страниц)
Таковы были отдельные приемы той сложной системы, которая легла в основу живого, пестрого, изменчивого и занимательного лесковского изложения.
V
«Чтобы мыслить „образно“ и писать так, надо, чтобы герои писателя говорили каждый своим языком, свойственным их положению». Этим, по мнению Лескова, прежде всего определяется их характер и социальное положение. «Постановка голоса у писателя заключается в умении овладеть голосом и языком своего героя и не сбиваться с альтов на басы. В себе я старался развивать это уменье и достиг, кажется, того, что мои священники говорят по-духовному, нигилисты – по-нигилистически, мужики – по-мужицки, выскочки из них и скоморохи – с выкрутасами и т. д. От себя самого я говорю языком старинных сказок и церковно-народным в чисто-литературной речи… Говорят, что меня читать весело. Это оттого, что все мы: и мои герои и сам я имеем свой собственный голос. Он поставлен в каждом из нас правильно или, по крайней мере, старательно».
Это тонкое умение владеть самыми разнообразными голосами Лесков называл «постановкой дарования в писателе». В своих письмах и беседах Лесков оставил ряд драгоценных указаний о значении важнейшей «стилистической проблемы» для писателя. Здесь на первый план выступало требование основной выучки, строгой школы, постоянной дисциплины художественного таланта и беспрерывного «огромного труда».
«Человек живет словами, и надо знать, в какие моменты психологической жизни у кого из нас какие найдутся слова… Изучить речи каждого представителя многочисленных социальных и личных положений довольно трудно. Вот этот народный, вульгарный и вычурный язык, которым написаны многие страницы моих работ, сочинен не мною, а подслушан у мужика, полуинтеллигента, у краснобаев, у юродивых и святош… Ведь я собирал его много лет по словечкам, по пословицам и отдельным выражениям, схваченным на лету в толпе, на барках, в рекрутских присутствиях и монастырях… Я внимательно и много лет прислушивался к выговору и произношению русских людей на разных ступенях их социального положения. Они все говорят у меня по-своему, а не по-литературному. Усвоить литератору обывательский язык и его живую речь труднее, чем книжный. Вот почему у нас мало художников слова, т. е. владеющих живою, а не литературной речью».
Эти разнообразные и характерные высказывания Лескова о своей словесной и стилистической работе представляют громадный интерес. В основе их лежит живой опыт замечательного собирателя речений, словечек и прибауток и неутомимого мастера художественной стилистики, искушенного в смелых опытах самостоятельного словотворчества.
Некоторые произведения Лескова стоили ему «особого труда по отделке языка», но зато и приносили ему высокое удовлетворение выполненной с возможным совершенством художественной работы.
«„Скоморох“ („Памфалон“) проживет сам собою дольше многого, что держится похвалами и рекламами. Я над ним много, много работал. Этот язык, как и язык „Стальной блохи“, дается нелегко, а очень трудно и одна любовь к делу может побудить человека взяться за такую мозаическую работу».
Когда в «Историческом Вестнике» появился хвалебный отзыв критика Трубачева о повести «Гора», Лесков писал Шубинскому:
«Трубачев очень добр ко мне, но он не сказал лести и не оскорбил истины: „Гора“ требовал труда чрезвычайно большого. Это можно делать только „по любви к искусству“ и по уверенности, что делаешь что-то на пользу людям, усиливаясь подавить в них инстинкты грубости и ободрить дух их к перенесению испытаний и незаслуженных обид. „Гора“ столько раз переписана, что я и счет тому позабыл, и потому это верно, что стиль местами достигает „музыки“; я это знал, и это правда, и Трубачеву делает честь, что он заметил эту „музыкальность языка“. Лести тут нет, я добивался „музыкальности“, которая идет к этому сюжету, как речитатив. То же есть и в „Памфалоне“, только никто этого не заметил, а между тем так можно скандировать и читать с каденцией целые страницы».
Внимательное чтение многих произведений Лескова (особенно цикла сказаний из «Пролога») подтверждает заботу писателя о придании своим страницам особого музыкального ритма. Лесков обращается здесь к той проблеме ритмической прозы, которую отчетливо ставил себе один из его учителей – Флобер: «придать прозе ритм стиха, оставляя ее прозой и даже в высшей степени прозой». Этот сложный, ответственный и трудный вид художественной речи неоднократно разрабатывался в нашей литературе. Со времени Карамзина словесная ткань русской прозы не перестает переживать глубокий процесс ритмизации. Он отчетливо сказывается у Гоголя, Тургенева и в наши дни у Андрея Белого. К этим мастерам ритмической прозы должен быть, несомненно, отнесен и Лесков.
Стиль его представляет собой чрезвычайно сложную систему, обдуманно организованную и разработанную до тонкостей. Своеобразие языка, его яркая выразительность и рассчитанный комизм, при умении ввести сказочный лад в привычный говор современного повествователя и довести его в нужных случаях до музыкальных ритмов – таковы общие признаки этого литературного «сказа», требующего самого тщательного и пристального изучения.
VI
Одним из принципов писательской работы Лескова была неутомимость в переделках, шлифовке и отделке своих рукописей.
В дружеском письме к поэту-крестьянину А. Е. Разоренову (автору популярной песни «Не брани меня, родная») Лесков, между прочим, писал: «Помните, что основное правило всякого писателя – переделывать, перечеркивать, перемарывать, вставлять, сглаживать и снова переделывать. Иначе ничего не выйдет».
И это основное правило автор «Соборян» выполнял с исключительным напряжением и строгостью. Его переписка полна свидетельств о постоянной упорной художественной работе. «Статья, разумеется, сделана как могу и как умею, со всем старанием, – пишет он своему редактору. – Что она лежала пять месяцев у меня, а не у вас, из этого, надеюсь, она не проиграла. Я виделся с людьми, говорил, думал и многое совсем переделал, как указывало уяснение себе этой картины и нравов».
Такими характерными свидетельствами изобилует переписка Лескова. Он сообщает об одной незаконченной повести: «Ее надо переписать, выправить и еще раз переписать. Это у меня так делается. Иначе вещь не в своем виде». Он часто говорит о том или ином своем произведении, что оно написано только вдоль и что его еще надо «пройти впоперек», т. е. вслед за построением и развитием сюжета необходимо тщательно отделать, углубить и обогатить стиль рассказа. Он пишет редактору «Русской Мысли» о переработке своих рукописей: «…это очень важно, когда автор отходит от сделанной работы и потом читает ее уже как читатель. Тогда только видишь многое, что никак не замечаешь, пока пишешь. Главное – вытравить длинноты и манерность и добиться трудно дающейся простоты».
Так неутомимо и упорно, переделывая первоначальные записи и подвергая новым переработкам ранние редакции, с огромной требовательностью к себе и «со всем старанием» строгого художника, влюбленного в свой труд, работал автор «Запечатленного ангела». И следует признать, что ему действительно нужно было так усиленно, упорно и неутомимо работать, чтоб освободиться от многих грехов своего раннего письма, побороть в себе явные недостатки вкуса, вытравить из своих писаний склонность к дешевым эффектам, замашки провинциализма и дурные навыки газетной работы. Все это еще обильно сказывается в его ранних произведениях и, к сожалению, дает себя знать иногда и в более поздних созданиях. Внимательно и сочувственно следивший за деятельностью Лескова Достоевский (напечатавший в своем журнале одну из лучших его повестей – «Леди Макбет Мценского уезда»), правильно отмечал резкие перебои и странную неровность лесковского письма. Признавая некоторые образы его «гениальными» («Ничего и никогда у Гоголя не было типичнее и вернее»), Достоевский отмечает напряженную искусственность иных положений (многое «точно на луне происходит») и «неловкости» лесковских фабул (даже в «Соборянах» и «Запечатленном ангеле»).
От многих недостатков Лесков освобождался лишь постепенно, в медленном процессе художественного труда, на собственном опыте вырабатывая строгие законы своей поэтики. Ему нужна была эта долголетняя работа, пристальное изучение высоких художественных образцов мировой литературы, общение с Боккаччо, Флобером и Толстым, чтоб развить в себе высокую добродетель художника – чувство меры, не подаренное ему от природы. Быть может, тем большая честь писателю, что он сумел развить в себе это драгоценное чутье и довести некоторые свои создания до той степени совершенства, которая ставит их в ряд с первоклассными образцами русской литературы.
В результате этой постоянной упорной и напряженной работы Лесков оставил огромное литературное наследие, до сих пор еще далеко не полностью представленное в собраниях его сочинений. Сюда входят несколько больших романов или «хроник», как называл их автор: «Соборяне», «Обойденные», «Некуда», «Старые годы в селе Плодомасове», «Захудалый род», «На ножах».
К повестям Лескова следует отнести: «Запечатленного ангела», «Островитян», «Очарованного странника», «Леди Макбет Мценского уезда», «Скомороха-Памфалона» и ряд других сказаний из «Пролога», и опубликованные посмертно «Заячий ремиз» и «Амур в лапоточках».
Но главную продукцию Лескова составляют, несомненно, рассказы, иногда объединенные в циклы «Святочные», «Мелочи архиерейской жизни», «Рассказы кстати» и другие. В этом жанре Лесков достиг высокого мастерства, в котором он, несомненно, равнялся с Тургеневым и Чеховым.
Помимо беллетристических страниц, Лесков оставил произведения биографические («Загадочный человек») и мемуарные («Печерские антики»), одно драматическое произведение («Расточитель») и ряд журнальных статей критико-художественного и публицистического характера. Трудно было бы распределить эти многочисленные и разнообразные произведения по принципу их художественных достоинств, но можно согласиться с мнением их автора (разделяемым и Гончаровым), что лучшее творение Лескова это – «Запечатленный ангел», худшее – «На ножах».
Но при всей неровности и при всем богатом разнообразии творчества Лескова, оно почти целиком подчинено своему основному закону – сочетанию углубленного изучения и яркой изобразительности. «То мне хотелось учиться наукам, то живописи» – рассказывает о своих ранних годах Лесков, как бы выражая этим основные устремления всей своей литературной работы. До конца его произведения определяются этими двумя характернейшими для них моментами – научной основы и пластического оформления. Лев Толстой тонко отметил в Лескове не только «оригинальный ум», но и «большой запас самых разнообразных познаний». Ученый мастер, художник-книжник, пытливый исследователь с развитым артистическим чутьем, недаром он даже об идеях, убеждениях и верованиях говорил, как об «изяществах». Выработанный художественный инстинкт постоянно сочетался в нем с пристальным усвоением разнообразнейших сведений, накопленных человеческим опытом и как бы дающих свое цветение в искусстве этого замечательного сказочника.
И если не все совершенно в огромном литературном наследии Лескова, он, несомненно, оставил нам ряд произведений такой тонкой, сложной и уверенной конструкции, что создал ими подлинную школу беллетристического мастерства, оказывающую свое решающее влияние на развитие нашей новейшей художественной прозы.
Анна Ахматова[105]

I
Накануне роковой переломной эпохи европейской истории, за два года до начала мировой войны, в русской литературе, только что похоронившей Льва Толстого и уже подготовлявшей первые битвы воинствующего футуризма, произошло событие, смысл которого раскрылся нам лишь гораздо позже. В обильной жатве стихотворных сборников поэтического сезона, в самом начале 1912 г. вышла тоненькая книга стихов в серой обложке, носившая непритязательное заглавие «Вечер» и помеченная еще неизвестным именем Анны Ахматовой.
Такова одна из крупнейших дат в летописях нашей новейшей поэзии. Она сразу была отмечена вниманием посвященных и признанием избранных. Уже в кратком предисловии к книге Кузмин уверенно сообщал читателям, что к общему хору русских лириков присоединяется еще неведомый молодой голос настоящего поэта. «Многим сразу стали дороги изящная печаль, нелживость и бесхитростность этой книги», – писал тогда же Сергей Городецкий.
К новой поэтессе отнеслись с глубоким вниманием великого предчувствия и радостной надежды. И нужно признать, что эта первая пора русской критики об Ахматовой была наиболее счастливой для нее по непосредственности своих оценок, по отсутствию привходящих тенденций, по свежести своего взгляда, наконец и по своему стремлению просто и отчетливо запечатлеть пленительный облик нового поэта.
Русская критика вскоре сошла с этого пути. Ахматова, как каждое выдающееся явление в литературе, быстро стала предметом кружковых поэтических распрей. Долгое время о ней принято было говорить в непременной связи с вопросом о ликвидации символизма, всячески противопоставляя ее манеру поэтическим приемам старшего поколения. При этом настойчиво выдвигалась программная роль поэтессы, ее значение в качестве знамени народившегося акмеизма. Глубоко самоценными лирическими фрагментами Ахматовой широко пользовались для иллюстрации теоретических манифестов новой школы с подчеркнутой целью показать символистам, как устарела их поэтика.
Затем наступила другая полоса оценок. Анна Ахматова стала предметом прилежного изучения филологов, лингвистов, стиховедов.
Сделалось почему-то модным проверять новые теории языковедения и новейшие направления стихологии на «Четках» и «Белой стае». Вопросы всевозможных сложных и трудных дисциплин – семантики, семасиологии, речевой артикуляции, стихового интонирования – начали разрешаться специалистами на хрупком и тонком материале этих замечательных образцов любовной элегии. К поэтессе можно было применить горестный стих Блока: ее лирика стала «достоянием доцента». Это, конечно, почетно и для всякого великого поэта совершенно неизбежно, но это менее всего захватывает то неповторяемое выражение поэтического лица, которое дорого бесчисленным читательским поколениям.
И, наконец, в самое последнее время поэзия Ахматовой стала предметом обсуждения со стороны своей социальной природы и общественной стоимости. Некоторые пролетарские критики, совершенно правильно понимая, что ни одно великое явление искусства не может быть реакционным, что каждое из них всегда устремлено вперед, всегда принадлежит будущему, признали первостепенную роль поэтессы в нашей художественной современности. Это признание вызвало резкую отповедь.
Все это могло бы затуманить, затемнить, быть может, даже несколько исказить подлинный облик поэтессы, если бы она не оказалась как-то над этими спорами. Пока длились программные диспуты акмеистов с символистами, пока строились диссертационные опыты филологов, пока полемизировали левые критики, поэтесса как-то неощутимо и незримо росла перед нами, поднималась все выше и выше над этими прениями школ, эрудитов, журналистов. И мы неожиданно увидели, как имя Анны Ахматовой на наших глазах облеклось венцом той славы, которую поэтесса не искала, считая ее докучной погремушкой, – и которая все же остается для целой эпохи русской поэзии самым подлинным и самым значительным событием.
Попытаемся же дать себе отчет, почему Анна Ахматова стала любимой поэтессой того поколения, чья молодость совпала с бурным вторым десятилетием нашего века.
II
Странна и необычна литературная судьба Ахматовой. Слава ее обратно пропорциональна количеству написанного ею, а ее немногие страницы поражают своей эмоциональной, образной и тематической насыщенностью. Вспомним, что она начинала творить в дни отчетливого перелома русской поэзии, когда раздался замечательный призыв Кузмина: «Любите слово, как Флобер, будьте экономны в средствах и скупы в словах, точны и подлинны, и вы найдете секрет дивной вещи – прекрасной ясности».
Этот мудрый завет был расслышан нашей поэтессой. За двенадцать лет своей литературной работы она выпустила пять-шесть тоненьких книг, неизменно свидетельствующих о пристрастии их автора к сжатым, сосредоточенным, как бы подобранным и замкнутым строфам, к упрощенным коротким логическим фразам, к немногим отстоенным, обдуманным и выдержанным словам.
И если прав был Чехов, утверждая, что краткость – сестра таланта, Анна Ахматова с первой же своей книги давала нам это драгоценное свидетельство своей одаренности. Сама она, правда, не без горечи говорит о своей неразговорчивой Музе, о своей «чудесной немоте», о вечно неутоленной «глухой жажде песнопенья», называет себя «нерадивой, слепой рабой», говорит о своем «незвонком», «слабом», «ломком» голосе. Эпос большого масштаба был ей до сих пор чужд. Все, что напечатано Ахматовой, могло бы уместиться в размере одной поэмы пушкинской поры. И тем не менее она создала школу, русские поэтессы все еще не могут выйти из-под власти ахматовского канона.
Ее литературная наличность напоминает в этом смысле судьбу французского поэта Эредиа, который стал избранником Академии за один небольшой сборник сонетов. Ее судьба наводит на мысль и другое более близкое нам имя – имя Тютчева, о единственной книге которого было так прекрасно сказано Фетом:
Эта книга небольшая
Томов премногих тяжелей…
Замкнутый лаконизм этой лирики насыщен таким обилием эмоций, образов, воспоминаний, впечатлений и раздумий, что в этих коротких строфах, в этих немногих книгах, в этих «малых формах» сосредоточено одно из самых крупных лирических богатств современности. Творчество Ахматовой, о котором нередко говорили, как о слишком тесно очерченном, узком круге мотивов с пристрастием к одной доминанте «неразделенной любви», являет широкое многообразие лирических тем и поэтических приемов. При внешней замкнутости диапазон ее творчества так обширен и глубок, сжатые формы ее маленьких поэм так напоены драматизмом, каждый образ открывает такие неограниченные возможности видений и созерцаний, что мы понимаем признание поэтессы:
Десять лет замираний и криков,
Все мои бессонные ночи
Я вложила в тихое слово…
Это поистине прообраз всего ее творчества.
III
Когда стремишься определить облик поэта, выявить его черты, найти формулу для определения его сущности, необходимо дать ответ на два вопроса: как художник видит мир, и какой смысл раскрывается ему в этом видении.
Как видит мир Анна Ахматова? Верная в этом смысле заветам акмеизма, она могла бы сказать вслед за Теофилем Готье: «Я принадлежу к тем, для кого видимый мир существует». Одно из главных очарований ее поэзии – это зоркость к вещной ткани действительности, которая такими острыми чертами запечатлелась в ее лирике. Поэтесса имела право сказать о себе: «замечаю все, как новое…» Неожиданными, непривычными, словно смытыми от всех примелькавшихся впечатлений, выступают в ее мгновенных зарисовках все эти тюльпаны в петлицах, устрицы во льду, хлысты и перчатки и даже в отдалении времен —
треуголка
и растрепанный том Парни
В таких же ракурсах, доведенных иногда до одного выразительного и живописного эпитета, схвачены беглые пейзажи Ахматовой: «тверская скудная земля», «ковыли приволжских степей» под дыханием восточного ветра —
Таинственные темные селенья,
Хранилища молитвы и труда…
И каким-то чудом, сквозь мгновенные очертания мелькнувшего образа перед нами раскидываются огромные безбрежные и грустные просторы с их селениями, садами, пашнями, парками, реками, морями. Из заветного круга женской лирики незаметно, но отчетливо, во всех ее бесчисленных природных и культурных контрастах, выступает Россия…
И в этой огромной картине особенно примечательна та особая живопись городов, к которой постоянно обращает Ахматову ее тонкий культурный инстинкт. Эти, по слову Тургенева, «каменные красавицы» не только служат фоном для тех любовных повестей, которые замыкаются поэтессой в скупые строки ее фрагментов, – они являются самоценным материалом для ее замечательной словесной графики.
Центр этих беглых этюдов – вечно миражная и притягательная столица, которая зачерчена в русской литературе такими великими мастерами, как Пушкин, Гоголь, Достоевский, Белый, Блок. «Пышный, гранитный город славы и беды» не перестает привлекать ее творческое внимание. «Темный город у грозной реки», «город, горькой любовью любимый» служит темой замечательных офортов нашей поэтессы. Она любит:
Широких рек сияющие льды
Бессолнечные мрачные сады
и знаменитую площадь, где —
Стынет в грозном нетерпеньи
Конь великого Петра…
Город фиксируется и в минуты своих катастрофических судорог – в том августе, который «поднялся над нами, как „огненный серафим“»:
На дикий лагерь похожим
Стал город пышных смотров,
Слепило глаза прохожим
Сверканье пик и штыков.
И серые пушки гремели
На Троицком гулком мосту,
А липы еще зеленели
В таинственном Летнем саду.
Такими же четкими и сухими эстампами мелькают перед нами в строфах этой лирики «Павловск холмистый», Царское Село, Новгород, где «Марфа правила и правил Аракчеев», и, наконец, навеки освященный волшебным жезлом Пушкина —
Город чистых водометов
Золотой Бахчисарай…
Сложные облики чужих городов, причудливый очерк какой-нибудь «столицы иноземной», вычурные контуры пленительных иностранных памятников дополняют эти зодческие громады, поднимающие свои шпили и башни над кристаллами каналов и рек. Венеция, где —
С книгой лев на вышитой подушке,
С книгой лев на мраморном столпе, —
полные сложных ассоциаций упоминания Булонского леса, флорентийских садов, Лондона или Ниццы, все это выступает в ускользающих строках лирики Ахматовой каким-то мгновенным обликом, чтоб отчетливо прочертить изрезанный профиль соборов и бронзовых коней над человеческой группой двух влюбленных или разлюбивших.
Примечательно это пристрастие Анны Ахматовой к архитектурным массам, к той рукотворной красоте мира, в которой с неумолимой категоричностью сказалась самая глубинная сущность прекрасного. Это то ощущение, о котором говорит другой поэт-акмеист, Осип Мандельштам:
Красота не прихоть полубога,
Но хищный глазомер простого столяра.
Отсюда в стихах Анны Ахматовой это обилие куполов, башен, сводов, арок. Из ее элегий мгновенно и монументально выступают высокие своды костела, дворцы, Петропавловская крепость, арка на Галерной, белые своды Смольного собора, «Исаакий в облачении из литого серебра». Даже природа, с ее вечными сменами, воспринимается в аспекте искусного зодчего:
Небывалая осень построила купол высокий…
IV
Это восприятие мира вызывает особое раздумье о нем. Кажется, поэтесса говорит нам: сколько стройности, уверенности, красоты и силы в этих башнях, арках, куполах и сводах, воздвигнутых человеческой рукой – и какая зыбкость, мимолетность, горечь и грусть в этих мелькающих человеческих тенях с их вечным взаимным непониманием, роковой несогласованностью влечений и беглою изменчивостью чувств. Под этой блистательной бронею мира – какая мутная, душная, отравленная смертным ядом стихия! Как тяжел, тосклив и неизбывен этот фатальный контраст мира и жизни, властительной прелести человеческого строительства и обидного несовершенства его зыбких чувств, робких страстей, бедных влечений…
Это обращает нас к прославленной доминанте многообразной поэзии Ахматовой – той любовной лирике, которая так по-новому зазвучала в творчестве нашей поэтессы. Недаром один из первых ее критиков, Гумилев, поставил ей в особенного заслугу, что «в ней обретает голос ряд немых до сих пор существований, – вечно влюбленные, лукавые, мечтающие и восторженные говорят, наконец, своим подлинным и в то же время художественно-убедительным языком». Анне Ахматовой удалось создать если не новый словарь для выражений вечно женской темы, то совершенно неведомые до нее приемы проникновенного и непосредственного выражения этих неумирающих мотивов.
Можно утверждать, что целое поколение влюбленных женщин заговорило у нас стихами «Четок», и что в последнее десятилетие эти взволнованные и законченные афоризмы любви не перестают испещрять письма, дневники и признания. В память русской женщины глубоко запали такие отчетливые, прозрачные, грустно-надрывные строки:
Ты был испуган нашей первой встречей,
А я уже молилась о второй.
Или:
Какую власть имеет человек,
Который даже нежности не просит.
Или: «Столько просьб у любимой всегда, у разлюбленной просьб не бывает»… «Вы, приказавший мне: довольно, пойди, убей свою любовь»… «Как соломинкой пьешь мою душу» и столько других.
В поэтической области, казалось, до конца использованной мировой поэзией, Ахматова нашла неведомую ноту, зародившую эти бессмертные формулы человеческого духа. Они поистине вековечны, ибо из глубины столетий к нам доносится подчас родственный голос, так же толкующий эту неумирающую тему. Здесь Ахматова, вероятно, бессознательно и ненамеренно часто приближается к мотивам античной поэзии. Таков ее маленький фрагмент:
Не любишь, не хочешь смотреть,
……………………………………
Мне очи застит туман,
Сливаются вещи и лица,
И только красный тюльпан,
Тюльпан у тебя в петлице.
Не сходными ли чертами изображает Сафо момент захвата женской души любовью:
Мой язык словно скован, любовное пламя
Пробегает по мне, в глазах вдруг темнеет,
Света не вижу, и слышится, слышится только
Шум отдаленный…
Так на расстоянии двадцати веков встречаются голоса двух поэтесс.
V
Этот глубокий, поистине «пронзительно-унылый» голос сказывается не только в трактовке любовной драмы. Тема смерти, которая такими темными тенями ложится на четкий облик этой лирики, тема современности в ее глубокой и мучительной разорванности, – все это высокими и торжественными нотами проходит по творчеству Ахматовой. Это придает новый тон ее лирике и углубляет ее творческое раздумье.
О стихах Ахматовой часто говорилось, как о любовных новеллах, повестях, даже романах. Но думается, что, когда речь идет об Анне Ахматовой, можно не бояться произнести такое значительное слово, как трагедия.
Если не по композиции своей, то по основному тону своей безысходной горечи, по ощущению роковой неизбывности вечно печальной судьбы любящего сердца, наконец, по острому чувству мировой разорванности и великой трещины всякого бытия, мы воспринимаем лирику Ахматовой как творчество трагического стиля. Доминанта любви только углубляет этот тон, и кажется, что голос Ифигении или Федры снова звучит в коротких строках этих лирических фрагментов.
Ахматова – это скорбная мысль о жизни духа, неисцеленного очарованным созерцанием конкретной прелести жизненных форм. Это четкое, зоркое любовное отражение мира, проникнутое безотрадным ощущением человеческой судьбы. И это простое сочетание двух великих моментов бытия отстаивается в одно из самых волнующих и законченных проявлений искусства.
Вот почему мы так заворожены этими маленькими томиками стихов, вот почему нас так захватывает это видение мира, столь отчетливо пластическое в отражении его конкретных форм, столь подлинно трагическое в его художественной трактовке. Вот почему в плеяде русских поэтесс Анне Ахматовой бесспорно принадлежит первое место.
IV. 1924.
III
Встречи и поминки

А. Г. Достоевская и ее «Воспоминания»
I
Есть особый вид мемуарной литературы: это воспоминания о знаменитых мыслителях или художниках, бережно записанные женской рукой. Автобиографические свидетельства Беттины Арним о Гете, очаровательной Aimée d’Alton об Альфреде де Мюссе, рассказы племянницы Флобера Каролины или же сестры философа Елизаветы Ферстер-Ницше составляют особую группу культурно-исторических документов. Факты творческого порядка здесь преломляются сквозь повышенную женскую впечатлительность, а облики знаменитых творцов перед нами неожиданно раскрывают новые, своеобразные, подчас наименее известные и наиболее человеческие черты. К этой категории женских дневников относится и открытая зимою 1922 г. в Московском Историческом музее рукопись «Воспоминаний А. Г. Достоевской».
В русской мемуарной литературе этого рода – от свидетельств А. П. Керн о Пушкине и А. Е. Хвостовой-Сушковой о Лермонтове до опубликованной недавно автобиографии гр. С. А. Толстой – новооткрытые «Воспоминания А. Г. Достоевской» должны быть признаны одним из самых крупных и выдающихся явлений. Широта захвата, точность и правдивость рассказа, общая живость и литературность изложения, наконец, обилие известных сведений об одном из величайших деятелей мировой литературы придают этому «собранию пестрых глав» значение человеческого документа первостепенной важности.
Обычная слабая сторона литературных воспоминаний – недостаточная степень их достоверности в виду нередкого записывания фактов спустя несколько десятилетий с момента передаваемых встреч и бесед – здесь совершенно отпадает. Хотя «Воспоминания А. Г. Достоевской» писались в 1911–16 гг., т. е. через 30–35 лет после смерти Федора Михайловича, они основаны почти целиком на таких свежих и бесспорных материалах, как старинные дневники Анны Григорьевны эпохи 60–70-х годов, ее стенографические записи различных бесед и происшествий их семейной жизни, наконец записные книжки и письма писателя, до сих пор еще в значительной степени не изданные. Все это тщательно сопоставлялось автором мемуаров с различными печатными материалами, журнальными и газетными статьями, нередко выправляющими дату, место действия или другую существенную деталь повествования. В этом отношении Анна Григорьевна проявляла поразительную неутомимость. С ее слов нам известно, что в суровую петроградскую зиму 1916–17 гг., когда нормальная жизнь была сильно расшатана войною, в самые кануны революции, Анна Григорьевна продолжала с настойчивостью юной курсистки регулярно посещать Публичною библиотеку для проверки и дополнения своих воспоминаний.
Таким образом, работа мемуаристки свелась в значительной степени к разработке и редактированию современных записей, отмеченных всей новизной и непосредственностью только что пережитого. Это сообщает многим запечатленным здесь диалогам особенно живые интонации как бы еще звучащих человеческих голосов, а целому ряду описанных событий придает быстрый и действенный темп моментального словесного отражения. «C’est palpitant comme la gazette d’hier» – можно было бы применить к ним известную формулу Пушкина.
При такой исключительной точности, обусловленной самой техникой ведения и разработки воспоминаний, их отличает и внутренне правдивый тон. Автор ставит себе задачей представить читателям Достоевского со всеми его достоинствами и недостатками, каким он был в своей частной жизни. Анна Григорьевна не стремится идеализировать образ своего мужа, не старается придать ему иконописный ореол. В воспоминаниях своей жены Достоевский выступает таким, каким, видимо, он и был в своем семейном быту – внимательным и любящим отцом и мужем. Но жена писателя не скрывает и неизбежных перебоев во взаимных семейных отношениях: Достоевский здесь и сердится, и ревнует, и нервничает и возмущается. Он проявляет подчас больную раздражительность и резкую вспыльчивость, доходящую почти до невменяемого состояния. Анна Григорьевна не скрывает ни его «свирепого взгляда» во время жестоких припадков ревности, ни его несчастной и непобедимой страсти к азартной игре. Она не утаивает от читателя даже таких зловещих его признаков: – «Ведь я в гневе мог бы задушить тебя, в ярости я за себя не отвечаю».








