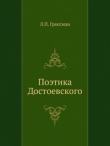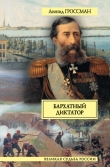Текст книги "Цех пера. Эссеистика"
Автор книги: Леонид Гроссман
Жанр:
Публицистика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 30 (всего у книги 34 страниц)
Пушкин не скрывал своего восхищения перед некоторыми эпистолярными образцами XVIII века, выражая в своих отзывах собственные воззрения на качества и особенности литературного письма. «Кажется, одному Вольтеру, – пишет он, – предоставлено было составить из деловой переписки о покупке земли книгу, на каждой странице заставляющую вас смеяться, и придать сделкам и купчим всю заманчивость остроумного памфлета». Он высоко ценит и письма президента де-Бросса за необыкновенный талант изложения, шутливое остроумие и живость: «письмо его, как и Вольтера, исполнено ума и веселости».
Пушкин в высокой степени ощущает жанр письма и никогда не подменивает его другими литературными видами. Затрагивая всевозможные темы, он не переходит в другие стили. Описание, речь, пейзаж, литературный портрет, публицистика, памфлет, пародия – все это нигде не выступает в его письмах как самостоятельный жанр и только сообщает летучие штрихи для наиболее полного выявления основного эпистолярного стиля[132].
Корреспондентки Пушкина, конечно, подходили к своим почтовым творениям с меньшей озабоченностью о теориях «письма». Но известные традиции здесь несомненно сказывались. Романы в письмах им были знакомы и часто неощутимо оказывали свое воздействие на способ их выражения. Недаром Пушкин в «Метели» отмечает, что при объяснении Бурмина Марья Гавриловна вспомнила первое письмо Saint-Preux. Недаром в Михайловском он перечитывает «Клариссу Гарло», взятую, по-видимому, в библиотеке тригорских барышень. Общая культура письменной беседы сказывалась на этих взволнованных и нервных листках.
Пушкин оценил их и сохранил для потомства. «Письмо Татьяны предо мною – его я свято берегу…» Чрезмерно равнодушный к их авторам, он, видимо, все же ценил эти писаные исповеди. В некоторых случаях он действительно читал и перечитывал «с тайною тоскою» эту своеобразную литературу, оформленную по традициям французской эпистолярной поэтики, но при этом охваченную подчас горестным лиризмом открывшегося и отвергнутого чувства.
Часть этих писем дошла до нас. Мы можем вслед за поэтом перечесть эти старинные человеческие документы, освещающие нам его личность, его окруженье, его эпоху.
Портрет Лувеля

I
Портрет Лувеля, убийцы герцога Беррийского, сыграл, как известно, большую роль в биографии Пушкина. Несостоявшийся проект ссылки поэта в Сибирь или Соловки и затем его отсылка из Петербурга в южные губернии были вызваны в значительной степени его отношением к громкому террористическому акту, взволновавшему тогдашнее европейское общество. Как свидетельствуют современники, Пушкин на масленице 1820 года показывал своим знакомым в театре портрет Лувеля со своей собственноручной надписью: «Урок царям!» Это вызвало допрос поэта военным генерал-губернатором Милорадовичем и, наконец, 6 мая 1820 года, отъезд из Петербурга – как оказалось, на шесть лет – с официальным назначением «в канцелярию главного попечителя колонистов южного края генерала Инзова».
Противники Пушкина связывали в то время его революционную репутацию главным образом с двумя именами политических убийц: немецким студентом Карлом Зандом, заколовшим реакционного публициста Коцебу, и парижским рабочим Лувелем, решившим уничтожить династию Бурбонов. Современные сатирики так и изображали поэта:
Гимн Занду на устах,
В руке —
портрет Лувеля.
Между тем до сих пор этот роковой портрет нам не был известен. Изображение Лувеля так же незнакомо нам, как и его личность, видимо, сильно заинтересовавшая Пушкина. Мы считаем поэтому не лишним ознакомить русских читателей с судьбою «убийцы герцога Беррийского».
Начнем с описанием самого события.
II
13 февраля 1820 г. около 11 часов вечера сын наследника и ближайший кандидат в престолонаследники Франции герцог Беррийский вышел из здания Оперного театра, чтобы усадить свою жену в карету, намереваясь вернуться в зал и досмотреть неоконченный спектакль. В это время неизвестный человек средних лет, весьма прилично одетый, отделился от стены здания и, бросившись с молниеносной быстротой между флигель-адъютантом, егерем и герцогом, схватил последнего за левое плечо и вонзил ему в правый бок кинжал.
В первый момент никто не сообразил, в чем дело. «Вот еще невежа!» – крикнул флигель-адъютант, пытаясь приблизиться к герцогу. «Что за толчок!» – с недовольством заметил раненый и, поднеся затем руку к месту удара, с ужасом крикнул: «Меня убили!» – «Вы ранены, ваше высочество?» – «Нет, нет, я умер… вот, я держу кинжал…»
Воспользовавшись этой минутой замешательства, неизвестный пускается в бегство.
Он несется в направлении соседнего театра Французской комедии, рассчитывая смешаться с толпой, разъезжающейся после спектакля. Но площадь пуста, – представление еще не закончилось. Проезжающая карета заставляет его замедлить шаг, и в тот момент, когда он приближается к арке Кольбера, за которой он сможет считать себя в полной безопасности, какой-то человек бросается ему навстречу, широко раздвинув руки. Беглец пробует освободиться от него, но в это время тяжелая рука жандарма схватывает его за ворот. Через несколько минут он уже находится в караульне Оперного театра.
– Чудовище! – бросается к нему один из свитских офицеров. – Что заставило тебя совершить это ужасное преступление?
– Я выступил против величайших врагов моей страны, – спокойно отвечает арестованный.
Ему надевают наручники. Начинается допрос высшими чинами полиции. Неизвестный называет себя Луи-Пьером Лувелем, рабочим, совершившим акт справедливости по собственному замыслу, без всяких сообщников.
– Я прекрасно знал, что ожидает меня, но я знал, что этим ударом я создаю множество счастливцев.
Из здания Оперного театра, где в одной из комнат администрации агонизирует герцог и где собралась вся королевская семья во главе с Людовиком XVIII, Лувеля переводят в здание министерства внутренних дел. Здесь с тем же невозмутимым спокойствием он продолжает отвечать на все вопросы.
– Вам посчастливилось захватить меня, вам помог пустячный случай. Если бы не фиакр, перерезавший мне дорогу, я был бы спасен. Ваши подозрения устремились бы выше, и я мог бы через несколько дней возобновить мою деятельность…
И когда следователи обрушивают на него обвинения в страшнейшем преступлении. Лувель продолжает:
– Интересы народа оправдывают все. То, что вы называете преступлением, будет признано историей как подвиг.
К концу допроса он узнает, что герцог Беррийский скончался в 5 часов утра. Он сохраняет при этом глубочайшее спокойствие. С полным бесстрастием он подписывает свое имя на бумажном ярлычке, подвешенном к предъявленному ему кинжалу.
Лувеля переводят в знаменитую тюрьму для политических – в Консьержери – и помещают его в той камере, где была заключена Мария-Антуанетта. Здесь он проводит свои последние четыре месяца в ожидании суда и приговора.
III
Личность Лувеля представляет яркий интерес по своему психологическому своеобразию. Он родился накануне Великой французской революции в беднейшем квартале Версаля, в многочисленной, нуждающейся, трудовой семье. Ему было шесть лет, когда стали разворачиваться революционные события, и он запомнил навсегда, как в октябре 1789 г. короля перевезли из Версаля в Париж. Вскоре Лувель попал в школу, где учился читать по республиканской конституции и «Правам человека и гражданина». С первых сознательных лет он уже принадлежал революции.
Вскоре после смерти отца подросток попадает в обучение к шорнику. Здесь он обучается седельному ремеслу, которое и становится его специальностью. По окончании учения он начинает скитаться по Франции и с 1801 по 1813 г. обходит несколько департаментов. Выше всего он ценит независимость, одиночество и свои свободные мечтания о лучшем будущем человечества.
В эпоху империи он остается верным последователем идей революции. Он осуждает тех, кто возвращается к католическому исповеданию, а в Наполеоне видит достойного сына революции, непримиримого врага Бурбонов, защитника освобожденной страны.
Вот почему в 1813 году, в момент наступления союзников на Францию, Лувель вступает в национальные батальоны. С чувством глубочайшего возмущения он узнает, что в армиях неприятеля занимают высокие посты французы-эмигранты и даже видные члены королевской семьи. Глубочайшее негодование вызывает в нем известие, что «граф д’Артуа», участвовавший в наступлении союзных армий на Париж, – не какой-нибудь австрийский генерал, а родной брат Людовика XVI, один из претендентов на французский трон.
Лувель навсегда запомнил имя графа д’Артуа. Вскоре он узнает, что другая «надежда престола» – второй сын графа д’Артуа, герцог Беррийский. В апреле 1814 года, когда Франция наводнена иностранными армиями и эпоха Наполеона завершилась, этот «наследник Бурбонов» возвращается из Англии в Париж.
Лувель, глубоко потрясенный падением Наполеона, который в его глазах представлял свободную Францию и Великую революцию, покидает Париж, захваченный с помощью Бурбонов иностранными армиями, и отправляется к «великому изгнаннику» на остров Эльба. Он поступает в качестве седельного мастера в конюшни Наполеона, откуда пристально следит за политической жизнью Парижа.
Знаменитые «100 дней» Наполеона, его окончательное падение, заточение на остров Св. Елены и торжество Бурбонов, воцарившихся над опозоренной ими нацией, заставляют Лувеля перейти к действию. Он должен выступить во имя идеи революции против захватчиков власти. С июля 1815 года Лувель обрекает себя на героическую роль выполнителя народного мщения. Он поселяется в Париже и здесь, в полном одиночестве, ни с кем не общаясь и скрывая решительно ото всех свой замысел, в течение пяти лет, с величайшей осторожностью, находчивостью и планомерностью, подготовляет свой террористический акт.
Он всесторонне обдумывает все подробности плана. Король – дряхлый старик, одной ногою уже стоящий в могиле. Брат его, граф д’Артуа, тоже стар и, конечно, снова не женится. Его старший сын, герцог Ангулемский, бездетен. Все они должны быть искоренены, но первая очередь за младшим сыном графа д’Артуа, герцогом Беррийским, который, по народному свидетельству, «всюду сеет детей», недавно женился и считается «плодоносной ветвью» бурбонской фамилии. С его уничтожением династия угаснет. Выбор решен.
По самым разнообразным источникам Лувель узнает все подробности личности жизни герцога Беррийского и обдумывает наилучший способ осуществления своего плана. Недовольство народа Бурбонами с каждым годом растет и укрепляет Лувеля в его решении. И когда в феврале 1820 года ему предстоит длительный отъезд из Парижа, он решается выполнить задуманное. 8 февраля он идет на кладбище Пер-Лашез и посещает могилы наполеоновских маршалов. Имена его любимых героев вдохновляют его. Он принимает окончательное решение. Ему кажется, что весь народ ожидает его поступка, что вся Франция кричит ему: «Нанеси удар, ты осчастливишь всех!»
Зная, что герцог посещает театры, Лувель тщательно изучает афиши. Он узнает, что в воскресенье, 13-го, в опере большой парадный спектакль. Это – верный шанс встретиться с герцогом. Лувель назначает на этот вечер выполнение своего замысла.
К 7 часам он у здания театра. Начинается съезд. Подъезжает хорошо знакомая придворная карета. Лувель приближается к ней. Герцог выходит. Полная возможность в одно мгновение покончить с ним. Но решимость изменяет Лувелю. Он отходит. В этот момент свитский офицер кричит кучеру: «В одиннадцать, без четверти!»
Лувель проводит несколько часов в состоянии величайшего душевного смятения. К половине одиннадцатого он снова у театра и, спрятавшись за кабриолет, не отводит глаз от главного выхода. Вот подают придворную карету, в вестибюле театра стража отдает честь, вот наконец появляется герцог, – «Теперь или никогда!»
Долгожданный план выполнен. Лувель принес себя в жертву.
Через три месяца, после подробнейшего следствия, верхняя палата, переименованная в верховный трибунал, приговаривает Лувеля к гильотине.
IV
Вернемся к Пушкину. Отголоски громкого политического убийства вскоре дошли до Петербурга. Пушкин, несомненно живо интересовавшийся в то время проблемой политического террора (убийство Павла I, поступок Карла Занда), мечтавший сам «кровавой чаше причаститься», отнесся с жадным вниманием к историческому жесту Лувеля. То обстоятельство, что поэт раздобыл себе портрет «убийцы герцога Беррийского» и решился показывать его в театре, свидетельствует об его напряженном интересе к этому событию.
Каким образом портреты Лувеля могли в то время дойти до Петербурга? Это объясняется, видимо, тем, что французское правительство, желая возбудить в определенном направлении общественное мнение, выпустило в то время ряд изданий, посвященных «ужасному убийце». Мы находим об этом любопытные сведения в воспоминаниях Сологуба, который в 1820 году ребенком был в Париже. «Однажды отец мой вернулся из большой оперы совершенно смущенный. Он был свидетелем убийства герцога Беррийского, наследника престола. На другой день на улицах суматоха была страшная. Со всех сторон толпился народ и двигались войска… Через несколько часов весь Париж запрудился реляциями, плачевными брошюрами и печатными песнями, в особенности же литографиями. Одна изображала сени большой оперы в тот момент, когда врачи осматривали рану злополучного герцога, другая – минуту его кончины, третья – портрет умиравшего с надписью: „Pauvre France! Malheureuse patrie!“, четвертая – портрет убийцы Лувеля с рисунком кинжала, послужившего к убийству и т. д. Парижская неугомонная спекуляция взбудоражилась…» (Воспоминания В. А. Сологуба. П., 1887, с. 16).
Эти портреты бесстрашного террориста, конечно, искажали его облик, придавали ему зверский вид и вполне подкрепляли его характеристики, как «исчадия ада». Одно из таких изданий королевского правительства могло проникнуть и в Россию ввиду своего тенденциозного антиреволюционного характера[133].
Во всяком случае поступок Лувеля произвел сильнейшее впечатление на Пушкина. В 1821 г. он пишет свой знаменитый «Кинжал» – стихотворение, которое расходилось в сотнях списков. Он, очевидно, имеет в нем в виду не только студента Занда, убившего литератора Коцебу. Стихи: «Ты кроешься под сенью трона, под блеском праздничных одежд» ясно указывают, что знаменитая ода «тайному страху свободы» воздает хвалу и убийце герцога Беррийского – Лувелю[134].
Пушкинский уголок

I
Тихие, глубокие, неподвижные озера. Вековые сосны, нависшие широкими шатрами над извилистой лесной дорогой. Медленная, почти зеркально-застывающая Сороть, поистине, «лоно сонных вод»… И затем холмы и жнивья вплоть до синеющих на горизонте новых рощ и только кое-где разбросанные хаты, почти не нарушающие редкими пятнами своих почерневших кровель этого широкого разлива природы, немного унылого, но прекрасного пейзажа Псковской области.
Так вот он, этот «далекий северный уезд», куда 9 августа 1824 года, после усиленной правительственной переписки, прибыл на новый этап своего изгнания Пушкин. Здесь он провел «отшельником два года незаметных»… Здесь были написаны «Борис Годунов», центральные главы «Онегина», конец «Цыган». Отсюда в осеннюю ночь под охраной фельдъегеря, «свободно, но под надзором» Пушкин выехал в Москву по вызову Николая, решившего загладить эффектным жестом – прощением «опального поэта» – гнетущее впечатление от казни декабристов. Сюда наконец в зимнюю вьюгу Александр Тургенев привез гроб с телом затравленного поэта, которое и было предано погребению на отвесном холме, под густой тенью вязов, лип и древних сооружений.
Это один из главных узлов пушкинской биографии. За столетие здесь, конечно, многое изменилось. Особенно – за последнее десятилетие. До 1914 г. пушкинские места Псковской губернии сохраняли почти без изменений свой старинный облик. Накануне войны биограф Пушкина еще мог изучать здесь почти во всем объеме обстановку ссылки поэта.
Война и революция преобразили эти глубокие «затишья». Западный фронт проходил в 3–4 десятках верст от мест пушкинского изгнания. История последнего десятилетия бурно проносилась над музейными ценностями и литературными памятниками, часто не имея времени задуматься над их дальнейшей участью.
Отсюда новый облик «пушкинских мест». Следов поэта здесь меньше, чем это было недавно, но они не вовсе исчезли. Пушкина здесь продолжаешь чувствовать и в природе, напоминающей пейзаж «Онегина», и в остатках немногих старинных зданий, и особенно в живых преданиях этих мест.
Среди обитателей «Опочецкого уезда» немало людей, знавших недавно лишь ушедшее поколение современников поэта. Вот, например, «дворовый человек» тригорских помещиков, на руках которого скончалась в начале 80-х годов сама Евпраксия Николаевна Вревская (рожденная Вульф), резвая собеседница Пушкина, до конца считавшая себя прототипом Татьяны. Старичок Федор Михайлович охотно делится с вами своими воспоминаниями о жителях Тригорского:
«Вот здесь стояла баня, куда отсылали ночевать Пушкина: Евпраксия Николаевна, покойница, говаривала: „Мать боялась, чтобы в доме ночевал чужой мужчина. Ну, и посылали его в баню, иногда с братом Алексеем Николаевичем (Вульфом). Так и знали все“. И недавно еще, когда стояла баня, посетители всегда откалывали себе по кусочку „с пушкинского жилища“, так что все углы избы пообкололи. Да вот и с нижних ветвей этого дуба все листья сорвали – на память о Пушкине. И верно покойный Александр Борисович (сын Евпраксии Вульф) сам мне рассказывал: „Вот здесь моя мама гуляла с Пушкиным…“»
Оглядываем место этих прогулок поэта с «Зизи». Невысокий холм, развесистый дуб, получивший пушкинское прозвище «лукоморье», зеленые поляны. Невдалеке «солнечные часы» – лужок, в свое время окаймленный двенадцатью дубами.
Пушкин и обитательницы Тригорского вели оживленную переписку. Устные предания свидетельствуют о любопытном и прискорбном факте. Женщина-врач, лечившая еще недавно дочь Евпраксии Вульф – Софью Борисовну Вревскую, слышала от нее следующее:
«Мать моя передала мне на хранение большую пачку писем к ней Пушкина. Она завещала мне хранить их при жизни, но ни в коем случае никогда и никому не передавать их. О существовании этих писем стало многим известно, и ко мне приезжали различные ученые, прося меня предоставить им эти старые письма великого поэта к давно умершей женщине. Должна сознаться, что эти лица были очень красноречивы и убедительны. Я чувствовала, что решение мое слабеет. И вот, чтоб не поддаться окончательно их уговорам и не нарушить воли матери, я предала всю пачку писем сожжению…»
Таков один из недавних тяжелых ударов пушкинизму. Сколько живых, колоритных и характерных деталей о пребывании Пушкина в «лесах Тригорских» утрачены навсегда с исчезновением этой пачки его писем!
Лучшее место Тригорского – обрыв над Соротью. Густая тенистая роща покрывает вершину склона. В тени – скамья старинного фасона: «диван Онегина». Внизу извилистая лента Сороти, убегающая полями к горизонту. Над ней, в отличие от пейзажа пушкинской поры, повисли вдали два моста – железнодорожный и шоссейный. Все остальное сохранилось неприкосновенным.
Вспоминаются превосходные стихи Языкова, гостившего у Вульфов и с этих мест выглядывавшего приезд своего михайловского друга. Перед нами широким ковром раскинулись
…те отлогости, те нивы,
Из-за которых вдалеке
На вороном аргамаке,
Заморской шляпою покрытый,
Спеша в Тригорское, один —
Вольтер и Гете, и Расим —
Являлся Пушкин знаменитый…
«Отлогости» и «нивы» переходят в высокие земляные насыпи Воронича. Это – древний город-крепость, по преданию, возникший еще в эпоху ливонских войн. Пушкин упоминает это место своих верховых поездок в стилизованном заглавии «Бориса Годунова»: «писано в лето 7333 на городище Ворониче…»
II
За земляными насыпями этой древней крепости открывается дорога в Михайловское. Лес становится понемногу благоустроеннее, дорога переходит в аллею, роща превращается в парк, появляются остатки мостика из березовых стволов над прудом и вот, наконец, серые широкие ворота в усадьбу поэта. Они, конечно, позднейшего происхождения и, в сущности, мало гармонируют с окружающим. За ними садовая дорога, окаймляющая большой круглый газон с развесистым вязом. За кругом остатки прежних строений: фундамент пушкинского дома, исчезнувшего еще в прошлом столетии и замененного впоследствии «домом-музеем», также сгоревшим.
О домике поэта, о расположении в нем комнат можно судить лишь по остаткам фундамента. Вековые глыбы серых валунов, сцепленных крепким цементом, как бы образуют просторные рамы вокруг диких порослей, покрывающих сплошным зеленым переплетом поверхность старого цоколя. Ступаешь в густой разросшейся траве по тому небольшому клочку земли, где писались великие создания эпохи пушкинской зрелости.
Рядом – сохранившийся во всей неприкосновенности так называемый «домик няни». Название это привилось и, видимо, прочно закрепилось за маленьким строением старой усадьбы. Но приурочение его к няне поэта едва ли соответствует исторической действительности. Знаменитая Арина Родионовна жила, видимо, в большом доме, бок о бок со своим питомцем. «Домик няни», который на некоторых изображениях именуется иногда и «домиком А. С. Пушкина», представлял собой, вероятно, какое-нибудь служебное помещение, вроде девичьей.
Во всяком случае, это – единственная постройка пушкинского времени, сохранившаяся в Михайловском до наших дней. Она фигурирует на всех старинных гравюрах. Перед нами, несомненно, здание, видевшее в своих стенах поэта. Он ступал на это низенькое крыльцо с навесом на подгнивших столбиках, входил в длинную и узкую переднюю, бывал в двух довольно просторных комнатах, увешанных теперь изображениями «няни» и всеми пушкинскими стихами, ей посвященными. Этот маленький домик – единственный скромный обломок архитектурного прошлого, дающий представление о типе и облике пушкинской усадьбы.
За ним зеленый склон, сбегающий к озеру, за которым высится древний погост – «Савкина гора», любимое место поэта. Уже в 1831 г. он сообщал П. А. Осиповой о своем желании выстроить себе здесь избушку, поставить свои книги и приезжать сюда для работы и отдыха.
Савкина гора – древний погост. Остатки могил, почерневшее каменное надгробие какого-то полулегендарного «Саввы» сохранились на площадке холма. Вид отсюда на Сороть, озера, луга и рощи необыкновенно красив.
Дикий садик Михайловского, видимо, мало изменился. От ворот налево тянется густая липовая аллея, – та самая, по которой Пушкин гулял с Анной Петровной Керн.
«Корни старых дерев, – рассказывала впоследствии собеседница Пушкина, – сплетаясь, вились по дорожке, что заставляло меня спотыкаться, и моего спутника вздрагивать…»
Невольно останавливаешься в раздумьи под этими старыми липами, где зародились прекраснейшие строфы нашей любовной лирики, знаменитое посвящение Керн: «Я помню чудное мгновенье…»
И, наконец, – третье место пушкинского уголка – «Святые горы» (переименованные теперь в связи со столетием ссылки поэта в «Пушкинские горы»).
Это – небольшое местечко, живописно раскинувшееся по холмам вокруг монастыря эпохи Ивана Грозного. Здесь сохранились ворота, у которых Пушкин слушал пение нищих слепцов, собирая материалы для народных сцен «Бориса Годунова». Здесь происходила ежегодно большая летняя ярмарка, которую поэт охотно посещал, поражая местных жителей своим необычным костюмом и странными манерами.
В сохранившемся старинном дневнике торговца из Опочки, некоего Лапина, имеется под 29 мая 1825 г. следующая любопытная запись: «Имел щастие видеть Александра Сергеевича г-на Пушкина, который некоторым образом удивил странною своею одеждою… У него была надета на голове соломенная шляпа, в ситцевой красной рубашке опоясавши голубою ленточкою, с железной в руке тростью, с предлинными черными бакенбардами, которые боле походят на бороду, так же с предлинными ногтями, с которыми он очищал шкорлупу в апельсинах и ел их с большим аппетитом, я думаю, около полудюжины…»
Эта наивная и колоритная запись дает лучшую зарисовку Пушкина михайловского периода.
Вблизи от мест этой старинной ярмарки на холме, у стен монастыря – могила Пушкина. Он похоронен в том месте, которое незадолго до смерти сам приобрел для себя. Рядом – могилы для предков Ганнибалов. Памятник Пушкина прост и изящен. На широком гранитном цоколе белый мраморный свод, подпирающий такой же тонкий обелиск. Под сводом небольшая мраморная урна, полуприкрытая покрывалом. На гранитном фундаменте лаконическая надпись – имя поэта и даты его рождения и смерти. Вокруг – чугунная решетка. Склон холма за могилой огражден балюстрадой из белого и серого мрамора, воздвигнутой сравнительно недавно. Такова «соседняя долина», принявшая «охладелый прах» поэта.
От времени до времени – раза три в столетие – имя Пушкина становится источником широкого общественного оживления. Так было в 1880 г. при открытии московского памятника поэту, так было в 1899 г., в дни празднования его столетней годовщины, так оказалось и в дни теперешних поминок его ссылки в село Михайловское.
В пушкинские места к 12–15 сентября (дни объявленных празднеств) съехались многочисленные представители научных и литературных организаций Москвы и Ленинграда, делегаты и учащиеся из Пскова и Опочки.
Здесь были представлены Академия Наук, Пушкинский дом, Главнаука, Всероссийский Союз Писателей (Московское и Ленинградское отделения). Московский университет и рабфак имени М. Н. Покровского, Институт изучения искусств, Лениградский губнарообраз, Псковский союз работников просвещения и многие другие.
В отличие от прежних пушкинских торжеств здесь впервые прозвучало слово о Пушкине крестьян (Семенов) и рабочих (представитель ленинградских металлистов).
Местный крестьянин, прекрасно помнящий происходившие здесь в 1899 г. пушкинские празднества, отметил, что от тогдашних делегатов крестьяне ничего не узнали о борьбе Пушкина с самодержавием. Только теперь им сообщили об этом, и они могут с благодарностью сказать: «Пушкин был наш друг»…
Общий порядок празднования был разделен на три дня.
В пятницу 12 сентября в 6 часов вечера на холме у волисполкома чествования открылись речами официальных представителей. Затем громадная толпа двинулась организованным маршем, под звуки оркестра, к могиле Пушкина, где были возложены венки различными депутациями и произнесены речи тремя делегатами: от Москвы, Ленинграда и Пскова. Собрание было перенесено затем в здание народного дома, где в торжественной обстановке, перед портретом поэта, были произнесены речи, приветствия и доклады съехавшимися делегатами. Следующий вечер был посвящен литературным выступлениям приехавших писателей и артистов. Наконец, в воскресенье 14 сентября в селе Михайловском, в саду поэта, состоялся многолюдный и необыкновенно оживленный митинг.
В тот же день в Михайловском был заложен будущий «Пушкинский музей» устройством временной выставки «Пушкин в селе Михайловском». Гвоздем ее явилась новонайденная грамота 1746 г. о пожаловании Абраму Ганнибалу села Михайловского. Этот елисаветинский документ представляет первостепенный интерес для истории места ссылки Пушкина.
Нужно думать, что Пушкинский съезд в сентябре 1924 г. оставит свои следы. Места, связанные с памятью поэта и объявленные в 1922 г., по почину Пушкинского дома, государственным заповедником, могут обогатиться новыми учреждениями и памятниками, желательно развитие возникающего музея, реконструкция некоторых строений, установка в Михайловском первых памятников как самому поэту, так и верному другу его изгнания – Арине Родионовне. Ленинградское общество архитекторов-художников объявило конкурс на памятник Пушкину в селе Михайловском. Нужно признать, что «малый сад» поэта, лишенный его старого домика, настоятельно ждет и словно требует художественного увековечения его памяти.
Не так далеки от нас четвертые «великие поминки» по Пушкину, 29 января 1937 г. Закончится ли к этому сроку академическое издание поэта, начатое еще в 1899 году? Воздвигнется ли новый памятник в селе Михайловском? Пустит ли корни новооткрытый в нем музей? Будем думать, что живой и бодрый тон только что отзвучавших празднеств является благоприятным показателем. В новых условиях жизни пушкинизму, быть может, суждено из явления книжного и теоретического стать живым и действенным культурным фактором. Прав окажется современный поэт, обратившийся недавно к облику Пушкина:
Сколько слав поникло сжатым стеблем,
Сколько тронов взято в топоры,
Только твой треножник не колеблем
Чернью, потрясающей миры
[135]
.
1924
Женитьба Дантеса

I
Один из петербургских великосветских браков 30-х годов – женитьба кавалергардского поручика Дантеса на фрейлине Екатерине Гончаровой – давно уже стал крупным фактом нашей литературной истории. В запутанный ход событий, приведших к смерти Пушкина, это бракосочетание вплелось весьма заметным эпизодом, сильно осложнившим взаимоотношения всех заинтересованных лиц и не только не устранившим, но даже несомненно ускорившим катастрофическую развязку.
Между тем история женитьбы Дантеса до сих пор представляет ряд непонятных и загадочных обстоятельств. Пересмотр известных документов и привлечение некоторых неизданных материалов освещает по-новому эту блестящую свадьбу, столь тесно связанную с одной из самых траурных страниц русского прошлого.
Обратимся к одному из таких свидетельств.
Перед нами неизданное письмо австрийского барона Густава Фризенгофа к его племяннице Александре Петровне Араповой.
Фризенгоф был мужем Александры Николаевны Гончаровой (сестры Натальи Николаевны Пушкиной), той самой Александрины, или Азиньки, которая была близким другом Пушкина в последние годы его жизни. Она, как известно, воспитывала его детей, вела хозяйство, материально помогала Пушкину, даже предоставляя ему для заклада свои ценности. Кроме нее никто не знал об отправлении Пушкиным 26 января замаскированного вызова Геккерну. Не мать, а именно она приводила к смертному одру Пушкина его детей для последнего прощания, и ей поэт, умирая, просил передать на память свой крестик с цепочкой. Александрина заслужила это предсмертное внимание. Сам Сергей Львович Пушкин заметил вскоре после смерти сына: «Сестра Натальи Николаевны более, чем она сама, огорчена потерею ее мужа…»
Свояченица Пушкина долго оставалась верна его памяти. Только в 1852 г. она вышла замуж за чиновника австрийского посольства Фризенгофа. Он-то и записал на склоне лет со слов своей жены семейные предания о гибели Пушкина.
Адресат его письма А. П. Арапова, рожденная Ланская, – дочь Натальи Николаевны Пушкиной от ее второго брака с П. П. Ланским. Она известна в пушкинской литературе с воспоминаниями о своей матери, напечатанными в «Новом времени» в 1907–1908 годах. Но готовиться к этой литературной работе она начала задолго до ее публикации, еще в 80-х годах. Судя по дате нижеприводимого письма, она обратилась в 1887 году к своим престарелым родственникам Фризенгофам с просьбой сообщить ей воспоминания о предсмертной истории Пушкина. В то время ее родная тетка Александра Николаевна доживала свой долгий век за границей (видимо, в Италии), ей было под восемьдесят, и, вероятно, слабое состояние ее здоровья заставило ее вместо записи продиктовать свои воспоминания мужу, который присоединил к ним некоторые свои соображения. Письмо это – по целому ряду живых подробностей и новых сообщений – представляет несомненный интерес для изучения печальнейшего из поединков.