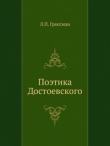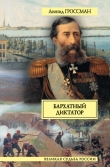Текст книги "Цех пера. Эссеистика"
Автор книги: Леонид Гроссман
Жанр:
Публицистика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 34 страниц)
В характеристике этих человеческих героинь есть один типичный флоберовски-мопассановский прием. Главным пунктом перелома в их психологии, решительным моментом в проявлении их основной натуры часто является случайное посещение необычной роскошной обстановки. Какой-нибудь богатый бал или торжественный праздник навсегда отравляют их существование, раскрывая им во всей полноте мещанство их ежедневной жизни, бедность обстановки, убожество окружающих, невзрачность мужа.
Этой типичной фабулой Флобера и Мопассана Чехов воспользовался для отдельного рассказа. Вышедшая из нужды и унижений, угнетенная деспотическим мужем, смирная и словно ушибленная жизнью Аня, попав на блестящий бал, сразу преображается. Дремлющая в ней женщина просыпается от совместного действия всех токов наэлектризованной бальной атмосферы, от грохочущей музыки, яркого света, восхищенных взглядов толпы и сдержанных прикосновений танцоров. Она неожиданно, но сразу понимает, что создана исключительно для этой шумной, блестящей, смеющейся жизни, с музыкой, танцами, поклонниками, лестью. Вместе с первым сознанием великой власти своего женского очарования в ней просыпается глубокое презрение к будничной жизни, мужу, домашней обстановке. Прежняя запуганная мученица возвращается с бала со всеми пробужденными инстинктами расточительницы и блудницы.
Это изображение женщины-хищницы в творчестве Чехова свидетельствует лишний раз о пройденной им школе французского натурализма. При всем разнообразии дарований Флобера, Золя и Мопассана, все они действовали на Чехова в одинаковом направлении: они укрепили его врачебный взгляд на человека, как на более животное.
В деле разъяснения источников чеховского пессимизма нужно выходить далеко за пределы обычного указания на безвременье 80-х годов. В ряду личных, общественных и литературных причин, создавших безотрадное чеховское мировоззрение, необходимо учитывать и влияние французского натурализма. Его последние выводы не переставали действовать на Чехова, пугая его своей сущностью, вызывая в нем неопределимые протесты и все-таки деспотически принуждая его соглашаться с их жуткой истиной.
Но прежде, чем проследить стремления Чехова вырваться из того тупика отчаяния, куда завели его французские натуралисты, попытаемся определить их роль в деле образования безукоризненной формы чеховского рассказа.
VII
Чтение Флобера и его непосредственного ученика Мопассана постепенно выработало в Чехове те правила строгой литературной работы, которые автор «Саламбо» не переставал излагать в своих письмах и беседах.
Сюда относится прежде всего знаменитая объективность Флобера. Требования полного отсутствия автора из его созданий, догмат безличности, поход против лирики и автобиографии в художественной прозе были непреложными лозунгами флоберовского творчества. Чехов с первых же шагов своей литературной деятельности выражает от своего собственного имени те же принципы. Многие из них вероятно зародились в нем непосредственно и впоследствии были только укреплены высоким авторитетом Флобера.
«Выбрасывать себя за борт всюду, не совать себя в герои своего романа, отречься от себя хоть на полчаса», – таковы литературные, принципы юноши Чехова. – «Субъективность – ужасная вещь», – пишет он в своих ранних письмах.
Формулируя в своей переписке кодекс литературного творчества, он выставляет одним из первых пунктов требование сплошной объективности. Это остается его правилом навсегда. «Чем объективнее, тем сильнее выходит впечатление», – пишет он уже в 1892 г.
И какой чисто флоберовский принцип формулирует он в письме к Суворину:
«Художник должен быть не судьею своих персонажей, а только беспристрастным свидетелем».
Это требование строгой объективности сознательно изгоняет из литературного творчества весь элемент лирической чувствительности. Флобер признавал известную степень холодности высшим качеством писательского темперамента. Чехов в своих письмах к молодым авторам не перестает повторять те же заветы. Он постоянно предостерегает их от сентиментальности или слезливости.
«Когда изображаете горемык и бесталанных и хотите разжалобить читателя, то старайтесь быть холоднее – это дает чужому горю как бы фон, на котором оно вырисуется рельефнее. А то у вас и герои плачут, и вы вздыхаете. Да, будьте холодны».
Таким чисто флоберовским каноном Чехов завершает одно из своих писем о методах писательской работы.
Наконец, и флоберовский принцип интенсивной жизненности в описаниях был им целиком воспринят. Кажется, руководящим началом оставался для него всегда знаменитый завет Флобера: – Когда вы описываете закат, страница должна казаться кровавой, когда изображает луг – зеленой.
Это вечный критерий Чехова. Когда он пишет «Степь», он хочет, чтобы от рассказа пахло сеном, и, заканчивая свою повесть, он с удовольствием сообщает, что от страниц его веет летом и степью.
– «Я дал такую картину климата, что при чтении становится холодно», – сообщает он о своем «Сахалине».
И таковы же его советы другим писателям. «Женщин нужно описывать так, чтобы читатель чувствовал, что вы в расстегнутой жилетке и без галстука», – советует он одному из своих литературных корреспондентов. В своих письмах он хвалит Сенкевича и Золя за умение давать такие живые описания, что читателю хочется позавтракать в Плошове, жениться на Анельке или обнять Клотильду.
Но непосредственным и главным учителем литературной формы неизменно оставался для Чехова Мопассан. При чеховской любви к краткости, при его пристрастии к маленькому рассказу, Мопассан показался ему непревзойденным художником. Он дал Чехову совершенные образцы ярких литературных пейзажей в трех строках и полных человеческих характеристик в нескольких штрихах. Он убедил Чехова, что краткость – сестра таланта, и научил его сжимать свои образы и раздумья до последней степени концентрации. Он открыл Чехову художественную тайну этих маленьких рассказов без завязки и развязки, без вступления и заключения, с незначащим заглавием и почти что без сюжета, которые кажутся простым обрывком мимоидущей действительности и являются завершающей ступенью сложнейшего и утонченнейшего искусства.
В области литературной формы Мопассан раскрыл Чехову первые приемы перехода от бытового реализма к реализму символическому. То чеховское еле заметное истечение символа из простых жизненных отношений, которым отмечен последний период его творчества, уже определенно намечается у Мопассана. Постоянное наблюдение жизни приводило его к тому синтетическому раздумию, за которым уже начинается философское обобщение собранных фактов. Пристальное всматривание в случайный ход житейских событий в конечном выводе раскрывало в них какие-то таинственные связи, неуловимые соотношения, весь тот сложный комплекс предчувствий, предзнаменований, сердечных подсказов и фактических совпадений, который возносится над серым миром ежедневной действительности каким-то загадочным и вещим обозначением.
Этот символизм обыденной жизни проходит через все крупнейшие создания Мопассана. События здесь уже таинственно завязываются в узлы какой-то фаталистической ткани, внешняя жизнь беспрестанно возвещает будущие трагедии. Раздавленный омнибусом Оливье Бертон как бы олицетворяет свою умирающую любовь к графине. Пылающие письма, обагренные потоками тающего сургуча, завершают горестным знаком печальную историю их отношений. Христиана в «Mont-Oriol» (роман, которым Чехов восхищается в своих письмах), еще до наступления своей несчастной любви, в первые дни своего приезда на курорт, присутствует при ужасной смерти маленькой черной собачки. Уходя с общественного торжества, она случайно ступает на клочок окровавленного мяса, покрытого черной шерстью, не различая еще в этом мелком факте того грозного эпиграфа, который сама действительность надписывает над ее будущей судьбою.
В этих мопассановских приемах кроются первые источники чеховского символизма. Ничто не проходит бесследно, говорят герои чеховских рассказов и драм, все полно одной общей мыслью, каждый наш шаг имеет значение для настоящей и будущей жизни и через тысячелетия нас таинственно волнует давно исчезнувшее человеческое страдание.
Апогеем чеховского символизма считается заключительная сцена «Вишневого сада». Дряхлый Фирс, забытый уехавшими хозяевами в заколоченном доме и тихо умирающий под бодрый стук топоров, синтезирует обычные раздумья Чехова о тайне жизни и смерти, о сокровенном их смысле, о значении всего преходящего.
«Слышится отдаленный звук точно с неба, звук лопнувшей струны, замирающий, печальный. Наступает тишина, и только слышно, как далеко в саду стучат топором по дереву», – такова заключительная ремарка «Вишневого сада».
Школа Мопассана в чеховском символизме здесь сказалась особенно отчетливо. Смерть Фирса сильно напоминает конец Оливье Бертона. Когда раненый художник, сжимая руку своей любовницы, испускает глубокий вздох последнего облегчения, что-то зловещее проносится по его комнате. Огонь погасает в камине под черным пеплом сожженных писем, две свечи неожиданно тухнут, мебель издает зловещий треск, и через минуту встревоженная графиня чувствует по холодеющим пальцам, что друг ее уже утешен от всех скорбей великим забвением[52].
Чеховский реализм сильно утончился в школе современной французской литературы. Флобер и Мопассан во многом пояснили и укрепили писательскую манеру Чехова и несомненно сыграли значительную роль в создании его четкой, уверенной, прозрачной и точной формы. Сообщив ему целый ряд новых стилистических приемов, они внушили ему основное правило всей французской литературы – неуклонно стремиться к живости, занимательности и литературной значительности каждой написанной строки.
VIII
Основные выводы натурализма оказали на Чехова самое решительное влияние. Тысячелетнее бессилие человечества устроить разумно свою жизнь, невозможность его обуздать в себе хищного зверя, полная беспомощность духа перед могучими стихиями инстинкта, вечное торжество жестокости, глупости, порочности, – таков темный смысл человеческой комедии, уже раскрытый великим предтечей натурализма Бальзаком и повторенный после тщательного пересмотра его заключения такими осведомленными экспертами жизни, как Флобер, Золя и Мопассан.
Таковы были итоги французской литературы прошлого столетия. На Чехова они должны были произвести неотразимое впечатление, вполне совпадая с его собственными наблюдениями и раздумиями. Все то, что герои его вкратце резюмируют словами – «все гадко, не для чего жить», все его впечатления о лютой бедности, голоде, невежестве, тоске, чувстве гнета и унижения, животности и хищности, все эти «аракчеевские мысли» чеховских героев вполне соответствуют основным выводам французского натурализма.
Но примириться с ними Чехов не захотел или, может быть, не смог. Правда, он, оказался счастливее многих своих предшественников и учителей. Разглядев во всем его безобразии лицо жизни, он не закричал, как Гоголь: – «соотечественники, страшно» – не лишился рассудка, как Мопассан, не стал топить своей тоски в вине, как Глеб Успенский, не лишил себя жизни, как Гаршин. Но с отчаянием мыслителя, дошедшего до тех границ жизненного тупика, за которыми открываются неизбежные перспективы отказа от мира – безумие, самоубийство, алкоголь, – он начал искать какого-нибудь выхода из этого очага разложения, какой-нибудь тропинки на большую дорогу жизни, хотя бы и проторенную, хотя бы и не ведущую к солнцу и открытым горизонтам.
И в безнадежности, вызванной личным опытом врача и школой экспериментального романа, он обратился к тем спасительным надеждам, к которым вели его и склонности его славянской души, и вековые традиции его родной литературы.
В больном животном, загнанном или ожесточенном, хищном или покорном, он с тоскою и надеждою начал искать проблески нравственного начала. Понятие человечности, как признак высший духовности, сделалось лозунгом его творчества и символом его веры.
Для него не существовал вопрос о художественности или современности проповеди милосердия в литературе. Эта проповедь оказалась для него единственным средством спасения от окончательного отчаяния.
Вот почему свой безотрадный врачебный диагноз он словно хотел опровергнуть всеми доводами сердечной логики. И в заключительном выводе он с радостью признал, что в огромном человеческом стаде есть одно великое спасительное начало – дар сострадательной любви.
Этот вывод сразу перевесил все безошибочные данные о человеческой животности. Жестокие и темные стороны жизни были оправданы этой великой человеческой способностью заливать нежностью пустыню мировых пространств, освящать кротостью ее бесплодные равнины.
И окончательно примиренный с той марионеткой из мяса, которая свела с ума несчастного Мопассана, Чехов в одном из своих последних рассказов признает единственным смыслом жизни и высшим законом существования великую способность человека к деятельному добру.
И уже на пути к этому выводу Чехов ввел в русскую литературу новую толпу униженных и оскорбленных, столь отличных от озлобленных или истерически возбужденных отверженцев Достоевского. Чувство глубокой обиды, незаслуженных ударов, нестерпимой боли только повышает в чеховских героях их исконную потребность активной любви. Все эти мученики и жертвы жизни обнаруживают в своей тихой покорности такую высоту душевного взлета, что хищная разнузданность человеческой природы заранее оправдана этой способностью к героическому отречению.
В раскрытии этих евангельских начал атеист Чехов является несомненно одним из христианнейших поэтов мировой литературы. Заключительные страницы его повести «В овраге», – история Липы, которая с тихой покорностью несет ночью в поле трупик своего убитого младенца, с великой материнской тоской, но без малейшей вражды к его убийце, является, конечно, одной из величайших страниц в вековой легенде о человеческой кротости. Только великая сила любви в сердце художника могла создать этот новый совершенный образ скорбящей матери.
В этой любви к человеку, победившей все отвращение к нему, – главная сила Чехова. В сущности, он не принес в своих созданиях какой-нибудь новой философии. Художник исключительного дарования, лирик безграничной задушевности, Чехов не был гениальным мыслителем. Он не оставил человечеству тех поражающих своей новизной, дерзостью или глубиною откровений, которые сразу отводят в новое русло широкий поток векового человеческого мышления. Он и в сфере теоретической мудрости, как в своих чисто художественных страницах, говорил самые простые слова, лишенные всякого философского глубокомыслия. Все, что говорится в его созданиях о судьбах мира и людей, в сущности так просто, что может прийти в голову каждому среднему человеку. Он, конечно, ни в чем не погрешил против реализма, вложив эти речи о жизни в уста своих сереньких неудачников. Всякий из них может в минуту раздумья почувствовать всю жестокость вечного жизненного обмана и высказать обычный грустный вывод горького опыта о том, что жизнь бессмысленна и бесцветна, массовое человечество уродливо, и только сильная душевная привязанность и надежды на лучшее будущее могут спасти от окончательного отчаяния. Чехов принес средне одаренному и тихо несчастному человечеству ту философию, которую оно уже вынесло само из горького опыта своей средней одаренности, при великих притязаниях, и тихого несчастья, при жажде вечного праздника.
Но эту простую мудрость он высказал такими звеняще прекрасными и, в красоте своей, утешительными словами, что у всех осталось впечатление, будто он в чем-то успокоил, что-то уладил, с чем-то примирил. Создания Чехова оказались для всех мучеников жизни тем животворным потоком неожиданно брызнувших слез, которые вызываются глубоким страданием, но, пролившись, облегчают душу, просветляют скорбь и примиряют с самым неутешным горем.
В этом естественнике жил не только поэт, но и редкий гений творческой кротости. Кажется, никто не разобрал с такою точностью больную жизненную ткань по всем ее мельчайшим клеточкам и не откликнулся такой сердечной участливостью на все ее мучительные несовершенства. Этот пытливый дарвинист с любовью Франциска Ассизского ко всякой живой твари всем своим творчеством как бы подтверждает замечательные слова Бетховена: единственный героизм в мире – видеть мир таким, как он есть, и все же любить его.
Брюсов и французские символисты[53]

I
В творчестве каждого крупного поэта скрещиваются лучи многообразных художественно-философских культур. Пласты различных духовных накоплений образуют ту тучную почву, на которой всходит обычно всякая значительная поэзия. Она неизбежно вбирает в себя бесчисленные системы, верования, предания и вкусы целых эпох, переплавляя эти «легенды веков» в новый, еще невиданный стиль словесного искусства.
Этому закону, конечно, подчинено творчество Валерия Брюсова. Поэт-эрудит, художник-ученый, он недаром сказал о себе:
Я посещал сады Ликеев, академий,
На воске отмечал реченья мудрецов…
Многочисленные доктрины и поэтики Востока и Европы, древности и современности прельщали его фантазию и питали его мысль. Эллада и латинская культура, Италия и раннее германское Возрождение, сказания скандинавского севера и запросы новейших поэтических поколений – все это отлагалось в подпочве его обширной поэзии, выявляя единый своеобразный и выразительный тон брюсовского голоса.
В этом многоголосом оркестре мировых культур для нас звучит особенно явственно тема современного Парижа. Поэты Франции, прежде всего, образовали ту звуковую и образную среду, в которой впервые развернулось словесное мастерство автора раннего сборника «Chefs d’oeuvres». Недаром сам он свидетельствует, что его первое знакомство около 1890 г. с Верленом, Малларме и Рембо было для него целым откровением. Литература, зародившая на рубеже двух столетий самое значительное и плодотворное движение последнего полувека, наметила пути этому борцу за символизм и признанному вождю русских символистов.
Вот почему самые источники брюсовского творчества обращают нас к французским поэтам.
II
Своеобразно было зарождение этой крупнейшей после романтизма поэтической школы. В настоящее время подлинным зачинателем французского символизма признан поэт Артюр Рембо, друг Верлена, переживший странную судьбу искателя приключений, скитавшийся по всей Европе и даже заброшенный надолго в Африку. В наши дни во Франции идет усиленная реабилитация этого забытого поэта, которого необыкновенно высоко оценил Поль Клодель, а один из новейших критиков Жак Ривьер в книге, вышедшей в 1920 г., признал самым великим из всех когда-либо существовавших поэтов.
Историки новейшей французской литературы, отмечая некоторый отлив символической волны, не считают возможным определить сроки, когда окончится наново возникшее влияние этого гениального провидца.
В личной судьбе Артюра Рембо есть момент знаменательный для путей всей французской лирики. Весной 1871 г. 16-тилетний поэт находился в Париже и отважно сражался в рядах коммунаров. Вскоре затем появился первый сборник его стихов, признанный теперь одним из самых могучих истоков всего символического движения.
Это важный и показательный момент. Сочетание в одном лице активной борьбы и поэтического новаторства необыкновенно характерно для Франции. Эти поэты-солдаты и поэты-революционеры, сменяющие кафе и кабинеты на баррикады и траншеи, проходят по всем столетиям французской лирики. Их героическая плеяда тянется от Агриппы д’Обинье, писавшего свои «Tragiques» на боевом коне, среди лагерей и траншей, через Андре Шенье до нашего современника Шарля Пеги, погибшего в последнюю войну в окопах. Воинственность, боевой темперамент, протестантский пафос, разрушительный и завоевательный инстинкт одинаково сказываются и в готовности ринуться в смертельную опасность, и в задоре поэтических программ, и в резком вызове художественных манифестов. Эти воинствующие лирики всегда готовы бросить нам новое плодотворное учение, наметить неведомые пути, провозгласить каноны бунтарских форм и увлечь ими повсеместно поколения молодых искателей. Отважная борьба за новые ценности и неиссякающее творчество новых форм – вот признаки той старинной галльской традиции, в силу которой Париж так выразительно был назван «городом окровавленной мостовой и лучезарной мысли».
Два этих устремления французской поэтической культуры были рано восприняты Брюсовым и остались навсегда характерными для него. Он вступил в русскую поэзию как бунтарь, и сразу стал в ней строителем и чеканщиком нового поэтического стиля. Брюсов давно уже признан законодателем форм русского символизма. Современники и соратники его по боевым выступлениям единогласно признали за ним роль предводителя целого поэтического движения. По словам Андрея Белого – «Брюсов один организовал символизм в России». Современники с изумлением отмечали, как этот поэт страсти, отчаяния и ужаса закрыл свою проповедь «железным щитом формы» и стал, по его собственному слову, не только творцом, но и хранителем тайны:
Нет, мы не только творцы, мы все и хранители тайны.
В образах, в ритмах, в словах есть откровенья веков.
Гимнов заветные звуки для слуха жрецов не случайны.
Праздный в них различит лишь сочетания слов.
Пиндар, Вергилий и Данте, Гете и Пушкин согласно
В явные знаки вплели скрытых намеков черты.
Их угадав, задрожал ли ты дрожью предчувствий неясной?
Нет? Так сними свой венок: чужд Полигимнии ты.
Так уже в расцвете творчества обращается Брюсов к младшему собрату – начинающему поэту. Указывая на эти драгоценные, полновесные трофеи поэтической культуры, поэт словно возвещает принцип посвящения в тайны своего искусства. Но верность традиции не лишает его права искать новые пути.
III
Миссия новатора всегда трудна, а роль конструктора нового художественного течения бывает непомерно тягостной и мучительной. Задача, ставшая на рубеже двух столетий перед вождем нового устремления русской поэзии, отличалась именно такими чертами. Необходимо было оформить в русском поэтическом стиле художественные течения, провозглашавшие разрушение всех законченных форм предшествующей поэзии.
Символизм прежде всего выступал в качестве реакции парнасизму с его графической отчетливостью и скульптурной осязательностью стиха. Проблема словесной музыки, стиховой инструментовки, строфической оркестровки, задание vers libre, освобожденного от цезуры, рифмы, размера, сложное задание синтетической фразы, – все это настоятельно выражало свой протест против математической планировки поэмы, стихотворной риторики, красноречия, литературности. Основоположным стали строки знаменитого «Art poétique» Верлена:
Rien de plus cher que la chanson grise,
Ou l’indécis au précis se joint…
Эта опьяненная песня, приобщающая прелесть неясного ко всему отчетливому, служила долго лозунгом новому течению. Нужно было не лепить и не изображать, но внушать, навевать, вызывать видения и эмоции беглыми чертами, оттенками, намеками. Недаром один из учителей Брюсова – Бодлер признал «странное» основным признаком красоты, внес в свою эстетику требование крайней нервозности для художника, выказал тягу к оккультизму и признал язык последней эпохи латинского упадка наиболее выразительным для страстей и ощущений новейшей поэзии. Недаром Малларме признал своим учителем Рихарда Вагнера, выдвинул требование, чтобы новый стих весь проникся особым ритмическим колебанием, потрясающим и сладостным, как напряженные крылья оркестра, и высшим своим заданием поставил транспозицию книги в симфонию.
Такова была поэтика раннего символизма, обусловившая творческую драму Брюсова. Поэт экстремы, яркости, чеканной образности, он должен был стать выразителем течения, выступившего с апологией намеков, беглых светотеней, неясных и неоформленных ощущений. Поэт парнасского типа должен был стать вождем и глашатаем символизма.
Как разрешилась эта драма художника? Брюсов нашел спасительный исход там же, где возникла эта новая опасная поэтика – во Франции.
Ибо новая школа парижских поэтов, разрушая, строила и отменяя предшествующую доктрину, воздвигала прочное здание новой. Деформация старого стиля не привела к хаотическому крушению поэтической речи. Провозглашая новую лирическую свободу, французские символисты уверенно кодифицировали ее. В плавкой и распыляющей атмосфере этой анархической поэтики понемногу отливался и затвердевал строгий канон нового поэтического стиля.
Уже у предтечи символистов – Бодлера – отстаивалась новая эстетика, определяющая искусство как сложную мозаику редкостных ощущений. Поль Верлен не переставал теоретически обосновывать свои новаторские устремления, подчиняя все многообразие поэтических возможностей единству музыкального ритма. Он диктует практические формулы просодии и языка, требует соблюдения размера, декретирует замену рифм ассонансом. Наконец, Малларме, этот поздний гегельянец, признает приоритет интеллектуальной эмоции, считает центром поэзии мысль, утонченную культурой, вносит в творчество волевой момент и воздвигает сложное учение о слиянии науки, искусства и религии.
Проблемы эстетической дисциплины и задания стихотворной техники одинаково тонко и всесторонне разработаны французскими символистами, сумевшими развернуть литературное течение до размеров обширной художественно-философской культуры.
Все это указывало пути, намечало приемы, направляло шаги искателя и определяло его цели. И Брюсов с верным компасом в руках двинулся в свой поэтический путь, уверенно выбирая направление, решительно устремляясь вперед, увлекая за собой молодых, диктуя и законодательствуя.
IV
Но двинуться вперед значило тогда, как почти всегда, ринуться в бой. Рост движения от первых тоненьких сборников «Русских символистов», через «Весы» и, в сущности, через все книги Брюсова представляет крупнейшие этапы единой тридцатилетней войны поэта с дряхлеющими, но еще устойчивыми формами во имя неведомых поэтических образований. Деятельность Брюсова – это последовательная борьба за новый поэтический стиль, которому он отвоевал не только право на существование, но одно из самых почетных мест в славной истории русских поэтических школ. В этой увлекательной летописи глава о символизме отличается тем богатством, которое мы, ближайшие современники, еще не можем объективно оценить, и в оценке которой будущие поколения в первую очередь назовут имя Валерия Брюсова.
Они одинаково признают за ним эти услуги организатора и бойца. Брюсов словно строил одной рукой и фехтовал другой. Показательно его обращение от старших символистов к Верхарну, – поэту масс, взволнованных толп, фабричных гулов, революционных грохотов, всех схваток и битв современности. Знаменательна «тема кинжала», прорезающая лирику Брюсова от его вызова 1903 года: «он вырван из ножен и блещет вам в глаза» до его обращения к «Служителю муз»:
Когда бросает ярость ветра,
В лицо нам вражьи знамена,
Сломай свой циркуль геометра,
Прими доспех на рамена,
И если враг пятой надменной
На грудь страны поникшей стал,
Забудь о таинствах вселенной,
Поспешно отточи кинжал.
Этот боевой темперамент Брюсова решительно сказался в последние годы, когда его пути снова так фатально и знаменательно скрестились с путями молодого Артюра Рембо.
Во всем этом выражается основная природа поэта, который сумел сочетать в себе дар строителя и борца, разрушителя и организатора. Синтетический облик Брюсова являет нам черты бесстрашного укротителя слов, поэта-комбатанта, уверенного мастера и отважного конквистадора в безбрежных далях российской поэзии.
V
Русский символизм имеет свои глубокие отечественные корни. Достаточно указать на Тютчева, Боратынского, Фета и Владимира Соловьева, чтоб понять, как наша романтическая и философская лирика, начиная с пушкинских времен, подготовляла нарождение этого крупного этапа русской поэзии. Брюсов в этом смысле завершает длительную традицию своей родной литературы и органически связан с ней своим творчеством и своими ценными изучениями. На фоне этого богатого поэтического прошлого России его фигура получает необходимое углубление и новую отчетливость.
И тем не менее общий фон французской лирики представляется нам наиболее благодарным материалом для оттенения основных свойств хорега русских символистов. Недаром он столько потрудился для передачи на наш язык почти всех поэтов французской речи – от Расина и Андре Шенье до Анри де Ренье и Верхарна. «Острый галльский смысл», по слову Блока, не только пленил, но и образовал Брюсова. При всем своеобразии его поэтического лица, на нем определяющими чертами легли эти отражения французского гения в его неустанном завоевании новых эстетических ценностей и кристаллической отшлифовке их для всего человечества.
Эти боевые и созидательные традиции старого esprit gaulois были восприняты у нас в начале 90-х годов юным поэтом Валерием Брюсовым. Приняв их от великих лириков новой Франции, он с рыцарственной верностью лозунгам своей молодости пронес их через три десятилетия напряженного художественного труда, ненарушимо сохранив их в своем творческом облике во всей их непреклонной выразительности.
Блок и Пушкин

Быть может, одной из важных причин крушения у нас «пушкинской» культуры было то, что эта культура становилась иногда слишком близкой французскому духу и потому оторвалась от нашей почвы, не в силах была удержаться в ней под напором внешних бед (Николаевского режима). Германия для Пушкина – ученая и туманная…
Ал. Блок Дневник, 1 апреля 1919 г.
Александр Блок родился в знаменательный год восстановления у нас пушкинской славы после ее двадцатилетнего затмения. В этот именно год прозвучала знаменитая предсмертная речь Достоевского и раздались торжественные строки Фета:
Исполнилось твое пророческое слово,
Наш старый стыд взглянул на бронзовый твой лик…
С этого момента возникший культ Пушкина не переставал расти и углубляться у нас. Молодость Блока прошла под этим знаком. В лице старших символистов – Брюсова и Вячеслава Иванова – этот культ утвердился. Рядом с поэтическим оживлением пушкинской традиции вырастала и новая «наука о Пушкине». Целая полоса нашего художественного развития как бы завязывала на рубеже двух столетий прерванную нить с поэтическим преданием плеяды двадцатых годов. Русская культура снова начинала дышать и жить именем Пушкина.
Но в этом поэтическом ренессансе поражало одно отклонение: первый поэт начала столетия долгое время оставался вдали от общего движения. Потребовалось медленное преодоление годов ученичества, сложная смена творческих этапов, развитие и углубление лирических заданий, чтоб, наконец, произошла та знаменательная встреча двух поэтов, которой суждено было в предсмертный период Блока стать подлинным духовным событием его заката.