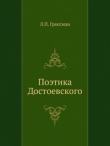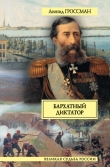Текст книги "Цех пера. Эссеистика"
Автор книги: Леонид Гроссман
Жанр:
Публицистика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 34 страниц)
Хорь таков-то; таков Калиныч. Этот похож на Сократа, тот с клиновидной бородкой; один рационалист, другой мечтатель, один напоминает Гете, другой Шиллера и т. д., и т. д. Портреты выписаны во всех деталях, и характеры выявлены статически до конца. Мы знаем, видим, ощущаем и Хоря и Калиныча, ибо в молодом портретисте уже чувствуется превосходный мастер. Итак мы знаем его героев. Что же дальше? Ничего. Автор ставит точку и переходит к новым моделям. Ему уже позируют Ермолай и Мельничиха.
Что такое «Малиновая вода»? – Три портрета: Тумана, Власа и Степушки, – и в дымке отдаления, сквозь воспоминания старого дворового – четвертый портрет вельможи XVIII столетия. При этом два пейзажа: чудесное описание жаркого августовского дня и мелькнувший эскиз запустелой усадьбы.
Что такое «Однодворец Освянников»? Три портрета: – однодворца, Мити и француза Lejeune’а; когда дописан последний портрет и читатель ждет собственно «начала рассказа» автор заявляет: «Но может быть, читателю уже наскучило сидеть со мной у однодворца Овсянникова, и потому я красноречиво умолкаю».
Что такое «Бежин луг»? Чудесные пейзажи и пять зарисовок детских головок; там, где может начаться действие, автор смолкает; из последней строки рассказа мы узнаем, что Павел в том же году убился, упав с лошади, но узнаем об этом, как из телеграфного сообщения с точным подсчетом слов. От изображения катастрофы автор воздерживается; все его искусство вылилось целиком в предшествующих пейзажах и портретах.
V
Особенно показательна в этом отношении история Чертопханова. В 1849 году Тургенев дает в своем рассказе обычную серию портретов. Мастерство его достигает здесь редкой высоты. Некоторые портреты образцовы и во всей богатой галерее позднейших тургеневских образов остаются в ряду его первоклассных достижений. Вглядимся в портрет Чертопханова.
«Вообразите себе, любезные читатели, маленького человека, белокурого, с красным вздернутым носиком и длиннейшими рыжими усами. Остроконечная персидская шапка с малиновым суконным верхом закрывала ему лоб по самые брови. Одет он был в желтый истасканный архалук с черными плисовыми патронами на груди и полинялыми серебряными галунами по всем швам; через плечо висел у него рог, за поясом торчал кинжал. Чахлая, горбоносая, рыжая лошадь шаталась под ним, как угорелая; две борзые собаки, худые и криволапые, тут же вертелись у ней под ногами. Лицо, взгляд, голос, каждое движение, все существо незнакомца дышало сумасбродной отвагой и гордостью непомерной, небывалой; его бледно-голубые, стеклянные глаза разбегались и косились как у пьяного; он закидывал голову назад, надувал щеки, фыркал и вздрагивал всем телом, словно от избытка достоинства – ни дать ни взять как индейский петух»…
Также мастерски выписан и портрет Маши:
«Дверь тихонько растворилась, и я увидел женщину лет двадцати, высокую и стройную с цыганским смуглым лицом, изжелта-карими глазами и черною, как смоль, косою; большие белые зубы так и сверкали из-под полных красных губ. На ней было белое платье; голубая шаль, заколотая у самого горла золотой булавкой, прикрывала до половины ее тонкие, породистые руки. Она шагнула раза два с застенчивой неловкостью дикарки, остановилась и потупилась.
…Очень она мне нравилась. Тоненький орлиный нос, с открытыми полупрозрачными ноздрями, смелый очерк высоких бровей, бледные, чуть-чуть впалые щеки – все черты ее лица выражали своенравную страсть и беззаботную удаль. Из-под закрученной косы вниз по широкой шее шли две прядки блестящих волосиков – признак крови и силы… Взор ее так и мелькал, словно змеиное жало… Улыбаясь, она слегка морщила нос и приподнимала верхнюю губу, что придавало ее лицу не то кошачье, не то львиное выражение.
…Маша впорхнула в другую комнату, принесла гитару, сбросила шаль с плеч долой, проворно села, подняла голову и запела цыганскую песнь… Машу всю поводило, как бересту на огне: тонкие пальцы резво бегали по гитаре, смуглое горло медленно приподнималось под двойным янтарным ожерельем. То вдруг она умолкала, опускаясь в изнеможении, словно неохотно щипала струны… то снова заливалась она, как безумная, выпрямливала стан и выставляла грудь…»[44].
Выбор деталей, их четкость, пластичность и красочность обнаруживают высокое мастерство портретиста. При этой остроте в манере зарисовки отдельных штрихов, ни на мгновенье не утрачивается впечатление от цельного живого облика. Портрет, вбирающий в себя все колоритные детали костюма и обстановки, запечатлевший рядом с Чертопхановым двух криволапых борзых и горбоносую лошадь, отметивший кинжал и рог этого страстного спортсмена, с редкой изобразительной силой выявляет весь физической облик этого уездного Дон-Кихота. А в портрете Маши мастерски подмеченная подробность – двойное янтарное ожерелье на смуглом горле – дает такое острое впечатление цыганщины, какое едва ли дала бы здесь подробнейшая характеристика ее типа. Портретный дар Тургенева уже достигает здесь высших степеней его искусства.
Так в 1849 г. Тургенев зарисовывает в своем рассказе несколько фигур и оставляет их перед читателем, ожидавшим какой-то драмы. Двинуть эти образы, столкнуть их, заплести в одном драматическом действии ему удается значительно позже, почти через двадцать пять лет. Только в 1872 г. Тургенев, уже опытный рассказчик, несмотря на свою исконную антипатию к «постройке» повестей, сообщает этим великолепно зарисованным фигурам чисто трагическое действие. Друг и собеседник Флобера, он создает теперь несомненно один из своих шедевров (до сих пор, впрочем, не признанный таковым) – «Конец Чертопханова», поистине достойный пера автора «Coeur simple».
Он начинает с предупреждения о надвинувшихся бурных событиях. «Года два спустя… начались бедствия – именно бедствия…» Если теперь он останавливается на живописи образа, – его объект выявляет новые черты в напряженном драматическом действии:
«Он нагнал ее в двух верстах от своего дома, возле березовой рощицы, на большой дороге в уездный город. Солнце стояло низко над небосклоном – и все кругом внезапно побагровело: деревья, травы и земля.
– К Яффу! Яффу! – простонал Чертопханов, как только завидел Машу: – к Яффу! повторил он, подбегая к ней и чуть не спотыкаясь на каждом шаге.
Маша остановилась и обернулась к нему лицом. Она стояла лицом к свету и казалась вся черная, словно из темного дерева вырезанная. Одни белки глаз выделялись серебряными миндалинами, а сами глаза – зрачки – еще более потемнели»…
В этой краткой сценке портрет Маши дополняется новыми штрихами и красками, но все это делается мимоходом, между прочим, в процессе прорвавшихся и неудержимо несущихся событий. Теперь Тургенев уже владеет тайной увлекательной и волнующей интриги; и как знаменательно, что для разработки возникшего драматического сюжета он обращается к богатой сокровищнице своих как бы неиспользованных ранних героев – к старым «Запискам охотника». Мастер рассказа именно теперь разовьет и закончит повесть, к которой в молодости он набросал только художественный перечень персонажей, некую образную рубрику «dramatis personae».
Вся композиция повести строится теперь на смене катастроф. Уход Маши, смерть Недопюскина, покража удивительного коня Малек-Аделя, отчаяние обезумевшего Чертопханова, страстные розыски лошади, новая тяжелая и медленная драма при появлении ложного Малек-Аделя, сцена убийства несчастной лошади, неповинно обманувшей иллюзии своего хозяина, но до конца доверчиво прижимающейся к нему мордой, наконец, смерть самого Чертопханова с охотничьей нагайкой в одной руке и кисетом, шитым Машею, в другой, – все это полно действия, движения, событий, эпизодов, затягивает в свое течение новых быстро и резко очерченных лиц, (Лейба, дьякон) и создает в размере небольшой повести конфликты подлинного трагизма[45].
Так научился строить небольшой рассказ стареющий Тургенев после долгого опыта своих романов и повестей, после многолетнего пристального внимания к развитию европейской новеллы, после долгой дружбы, бесед и переписки с «непогрешимым» Флобером.
VI
В эпоху зрелости Тургенев особенно озабочен вопросами повествовательной композиции. Дар рассказа – вот что преимущественно занимает стареющего художника, вот что направляет его внимание к образцам старинного европейского романа эпохи Возрождения и даже к арабским сказкам. Он пишет немецкому критику Юлиану Шмидту: «При всех огромных качествах немцев, им не хватает дара рассказчиков; романские народы имеют его с давнего времени (Боккаччо, Провансальцы и др.); мы, славяне, унаследовали кое-что подобное от Востока (1001 ночь и т. п.) – именно уменье выдвинуть сразу или наметить мотивы»[46].
И только теперь Тургенев принимается за такие тонкие и трудные сказочные композиции, как «Сон» или «Песнь торжествующей любви», где мастерски выявляется искусство быстрого развития сложного интригующего мотива с краткостью индийской притчи или флорентийской новеллы.
Но в молодости этот дар построения рассказа на смене событий, эта динамичность повествовательной техники была ему глубоко чужда. Он сам несомненно должен был почувствовать этот крупный недочет своей повествовательной манеры. Уже в 1853 году «Записки охотника» не удовлетворяют Тургенева. Приступив к работе над своим первым романом, пробуя свои силы на повестях и больших рассказах, он понимает теперь всю трудность и всю художественную стоимость правильной структуры и удачной архитектоники литературного произведения. Отсюда его осуждение своих ранних опытов, лишенных этих композиционных качеств. «Мои „Записки (охотника)“ мне кажутся теперь произведением весьма незрелым»… «Я надеюсь, что я уже пошел вперед и еще пойду – и сделаю что-нибудь посолиднее»[47].
Несомненно и несколько ранее в процессе первой работы над «Записками» Тургенев уже задумывался над способом исправления своих композиционных недочетов. Перед ним возник вопрос: не является ли серия таких портретно-пейзажных этюдов без фабулы и драматизма чрезмерно монотонной и утомительной для читателя? Не нужно ли внести в эту спокойную живопись обычные элементы движения и борьбы?
Тургенев, конечно, ответил утвердительно на эти вопросы и сделал ряд попыток в намеченном направлении. Один прием, принятый им в целях разрешения композиционных трудностей – мотив любовной драмы, сообщающий известное драматическое движение таким очеркам, как «Уездный лекарь», «Мой сосед Радилов», «Свидание». Но темы любви оказались недостаточными для придания очеркам нужной динамичности. И как новый действенный фермент драматизма Тургенев принимает для своих охотничьих рассказов явление крепостничества.
Это был умный технический ход и совершенно правильный художественный прием. Пейзажно-портретные очерки сразу оживились, заострились моментом борьбы, закрепились мотивом жестокости, окрасились всеми эмоциональными тонами страдания, унижения, деспотизма, тихого горя, беззастенчивого властвования – словом всеми средствами, придающими движение, взволнованность и повышенный интерес неподвижно-созерцательным зарисовкам.
И крепостничество действительно сообщало Тургеневу обширный и благодарный материал для драматизации его повествовательной манеры. Запреты крепостным венчаться, графская «метреска», забрившая слуге лоб за пролитый шоколад, розги дворецкому за недостаточно нагретое вино, ссылка крепостной девушки, не поддавшейся на ухаживания конторщика, систематическое разорение крестьян ловкими бурмистрами и т. д., и т. д. – сколько сильных моментов, сколько подъемов возмущения или растроганности, какое взволнованное движение сообщали они первоначальной тихой повествовательной манере Тургенева!..
Неудивительно, что молодой автор высоко оценил этот композиционный рычаг, сообщивший столько силы и жизни его «стоячим» описательным опытам. Не как публицист и сатирик, – как художник и беллетрист он освоился с этой плодотворной темой. Могучий потенциальный драматизм рабовладельчества, даже в тесных, цензурою допущенных пределах, вносил столько движения в эту серию эскизов, что для их автора сразу раскрылась возможность удачно разрешить трудную проблему построения своего сельского рассказа.
VII
Этот новооткрытый закон композиции навсегда пригодился Тургеневу. Замечательно, что, работая в раннюю эпоху над композиционными трудностями своих сельских рассказов, Тургенев открывает секреты повествовательной конструкции, которые до конца будут служить ему. Он сумеет приложить их впоследствии даже к построению своих больших повестей и романов. Мы знаем, что здесь портреты героев разрастаются в целые художественные родословные, ранние эскизы и зарисовки дают фигуры во весь рост, выступающие на фоне других мастерских изображений предков и современников, – и чудесное искусство Тургенева-портретиста дает себе полную волю в этих образных генеалогиях Лаврецких и Кирсановых.
И неудивительно: в этом именно сказывалась самая существенная черта его творчества. Спокойная созерцательность, свободная от всякой суетливой шумливости, криков дня и требований момента – вот основная сущность его артистической организации. Натура глубоко пассивная, художник-созерцатель по преимуществу (вспомним его заявление графине Ламберт: «Я никогда не занимался и не буду заниматься политикой: это дело мне чуждое и неинтересное»…) Тургенев в основе своего дара имел потребность бездумно, безотчетно и бескорыстно вглядываться и вслушиваться в жизнь, впивать все ее формы, звуки и шорохи и с великой безмятежностью отражать их вечно текущую сущность.
В эпоху работы над первыми очерками «Записок охотника», весною 1848 г., он пишет Полине Виардо: «…Я не выношу неба – но жизнь, ее реальность, ее капризы, ее случайности, ее привычки, ее быстро переходящую красоту, все это я обожаю. Я прикреплен к земле. Я предпочитаю созерцать торопливые движения влажной лапки утки, которою она чешет себе затылок на краю лужи, или длинные капли воды, медленно падающие с морды неподвижной коровы, только что напившейся воды из пруда, куда она вошла по колено, – всему, что можно видеть в небе»…[48].
Это, конечно, самое главное, существенное и заветное в Тургеневе-артисте; все остальное – производное. Долгое, углубленное созерцание не может не вызвать задумчивой грусти, острой потребности приобщиться к этим прекрасным формам жизни, загасить глубиной и силой своих переживаний тоску по быстротечности земной красоты. И все это действительно поднималось в душе Тургенева и широко заполняло его создания. Но это был уже вторичный процесс его творческой ферментации после исконного, первоначального и самого существенного – непосредственного и жадного внимания к лицам людей, шуму рощ и голосам птиц. Высшей самодовлеющей ценностью оставался для него этот творческий интерес к пронзительным крикам вальдшнепов, ко всем шорохам леса и степи, к прихотливым узорам лопухов и богородицыных слезок или к смуглому горлу цыганки Маши в густой оправе янтарных четок.
И это именно основное свойство его дара сказалось с наибольшей обнаженностью в раннюю эпоху, когда потребности писательского ремесла и непреложные технические законы повествовательного искусства потребовали от него решительного выхода из замкнутой ограды бездумной созерцательности на простор обычных человеческих драм любви и измен, рабства и властвования.
Открыв для себя эти законы динамики рассказа, Тургенев никогда не изменял им. Он сохраняет в повестях и романах композиционные элементы своих ранних очерков. И так же, как отдельные портреты разрастаются здесь в обширные галереи, а разрозненные пейзажи в богатые панорамы, так и робкие сердечные мотивы его сельских рассказов разворачиваются в сложные драмы любви, а затушеванный крепостнический момент «Записок охотника» вырастает теперь в сложные социальные замыслы, под знаком которых получают шумное признание его «общественные» романы.
Так со стороны чисто конструктивной «Дворянское гнездо», «Отцы и дети» или «Новь» представляются как бы сильно раздвинутыми «Записками Охотника», где развертываются в новых разнообразных комбинациях основные элементы ранних тургеневских построений – портрет и пейзаж, как статика романа, любовная драма и социальная идея, как его динамика.
Но здесь романический и общественный моменты часто заслоняют те чисто живописные ценности, которые остаются для Тургенева высшими творческими абсолютами. Единственная книга, в которой неопытный еще автор позволил себе роскошь полней всего отдаться своим художественным влечениям, менее всего осложняя их привходящими «динамическими» мотивами, остается прекрасная в своей композиционной наивности и непосредственности его первая книга охотничьих рассказов. В ней поэтому легче всего вскрываются основы тургеневского стиля и с наибольшей четкостью обнаруживаются принципы построения его позднейших созданий. Мы присутствуем здесь при первых робких усилиях художника строить свой рассказ по каноническим законам движения, действия и борьбы, т. е. по законам, еще глубоко чуждым его художнической натуре.
Так композиция «Записок охотника» возвещает архитектонические приемы зрелого Тургенева. Его роман в своей подпочве и первооснове остается таким замечательным собранием глубоко самоценных портретов и пейзажей, приведенных в движение столкнувшимися устремлениями сердечных или социальных коллизий.
Натурализм Чехова

I
«В Гете рядом с поэтом прекрасно уживался естественник», – пишет Чехов в своих письмах, и не в этой ли краткой фразе он со своей обычной сжатостью выразил и свое воззрение на совершенного художника и меткую характеристику собственного творчества?
Естественник, медик, биолог, анатом как бы составляют в Чехове тот коренной, прямолинейный, строго очерченный стержень, вокруг которого волнисто вьется душистая и многоцветная, росисто-свежая и бархатисто-нежная флора его неподражаемой поэзии. Ланцетом хирурга он систематически проводил первые глубокие надрезы в рыхлом житейском материале своей экспериментальной лаборатории, чтоб затем подчинить его обработке всех тонких резцов и шелковисто-мягких кистей своей художественной студии. С терпением ученого исследователя он производил свои опыты точного наблюдения действительности и с профессиональной беспощадностью оператора рассекал трепещущие ткани жизни, чтоб безотчетно отдаться затем всем очаровательным случайностям ее красок и оттенков, всей импровизации ее звуков, шорохов и полутонов.
И это богатство цельной, неразложимой, вечно торжествующей жизни так решительно пробуждало в натуралисте поэта, в бесстрастном вивисекторе вдохновенного художника, в холодном позитивистве нежнейшего лирика, что лучезарное сияние алмазных звезд, которыми он так волшебно усеивал сумеречное небо своих рассказов, совершенно затмевало холодные отблески стекла и стали его врачебной лаборатории.
Чехов-врач неотделим от Чехова-писателя. Недаром в бесконечной галерее его образов с особенной любовью отмечены двойственные типы поэтов-химиков или врачей-философов. С какой симпатией изображает он кроткого доктора Рагина, который готовился в духовную академию, но попал по недоразумению на медицинский факультет, аккуратно получает журнал «Врач», но всей медицинской мудрости предпочитает Марка Аврелия, Эпиктета и даже беседу со своими сумасшедшими клиентами. И как характерен для Чехова его увлекающийся Ярцев, этот фиолог и магистр химии, педагог и драматург, который так походит на историка, когда говорит о зоологии, и так напоминает естественника, когда решает исторические вопросы. Даже рассудочный эгоист доктор Благово проявляет склонность к утопическим мечтаниям и любит говорить о таинственном иксе, ожидающем человечество в далеком будущем.
«Все гинекологи идеалисты, – категорически утверждает Чехов в письме к одной писательнице. – Ваш доктор читает стихи, чутье подсказало вам правду; я бы прибавил, что он большой либерал, немножко мистик и мечтает о жене во вкусе некрасовской русской женщины».
И конечно не случайно он помещает поэта Некрасова в число немногих друзей своего профессора-медика из «Скучной истории». Герой этого чеховского шедевра – один из самых цельных и привлекательных образов в галерее его поэтов-мудрецов. Ветеран науки, трогательно преданный точному знанию, накануне своей смерти мечтающий воскреснуть через столетие, чтоб хоть одним глазком взглянуть на успех своих преемников, этот фанатик исследования и опыта сохраняет в своей мещанской обстановке какие-то чисто артистические наклонности и неизменно вносит в научную работу принципы поэтического творчества. Он любит красивую одежду и хорошие духи, классический театр и французские романы, а в лекции свои, помимо научных сведений, вкладывает еще вдохновение, страстность и юмор настоящего оратора-художника. На университетской кафедре он ставит себе образцом хорошего дирижера, и главная научно-педагогическая задача его чтения никогда не заслоняет в нем художественной озабоченности о литературности изложения, о красоте фразы и меткости своевременного каламбура. При этом он с нескрываемым презрением относится к серым работникам науки, добросовестно изготовляющим свои бесчисленные препараты и рефераты, компиляции и переводы. С чутьем истинного поэта он верит, что настоящее знание только там, где есть вдохновение и творчество, фантазия, изобретательность, чуткое умение угадывать, великая способность к тем мучительным сомнениям и разочарованиям, от которых седеют таланты.
Во всех этих родственных образах артистов-ученых сказалась исконная симпатия Чехова к гетевскому типу поэта-натуралиста. Литератор-химик, хирург-мечтатель, гинеколог-идеалист или врач-мистик оставались для него тем излюбленным человеческим образом, который он, может быть, бессознательно охватывал несомненным автобиографическим налетом.
II
Рядом с поэтом и в нем, как в Гете, прекрасно уживался естественник. Медицинский факультет и врачебная практика играют несомненно решающую роль в чеховском творчестве. Они наметили ему метод художественной работы, сообщили ему богатейший житейский материал для литературной обработки, возвели четкое здание его мировоззрения, углубили и во многом прояснили его жизненную философию.
Недаром он так гордился своей профессией, постоянно называл медицину своей законной женой и часто забрасывал литературу для практической врачебной деятельности. Работа в холерных участках, прием и посещение больных крестьян, редактирование медицинского отдела в суворинском календаре, целый ряд чисто врачебных функций беспрестанно отрывали его от писательских занятий. Богатство и пестрота патологической стороны жизни так увлекали этого жадного наблюдателя действительности, что, даже отправляясь на летний отдых в живописную глубь Украины, он не перестает мечтать о гнойниках, отеках, фонарях, поносах и «прочей благодати».
Медицинская школа сказалась прежде всего на методе его работы. Недаром он с таким благоговением говорит о тех, кому Бог дал редкий дар научно мыслить. В своих письмах он восхищается литературной статьей за то, что она написана, как дельный рапорт, просто и холодно трактует об элементарных вещах и, как хороший учебник, старается быть точной. Как практические медики, он любит в своих описаниях индивидуализировать каждый отдельный случай, разбираться во всех его мелочах, уяснять себе все его частности и особенности. В одном из своих писем он сообщает о своем намерении купить приборы для занятия медицинской микроскопией. План этот остался, кажется, неосуществленным, но Чехов из области медицины перенес его в родную сферу своей писательской деятельности. Здесь он выработал такие точные приемы безошибочного изучения и точного фиксирования мельчайших волокон жизненной ткани, что творчество его в процессе своего развития как бы проходило через своеобразную стадию литературной микроскопии.
Научная точность в поэтическом творчестве представлялась ему незаменимым качеством. Не в одном только Гете он отмечает свой любимый тип поэта-естественника. Он хвалит, – и, может быть, даже свыше меры, Поля Бурже за то, что тот так полно знаком с методом естественных наук, и совершенно развенчивает Эдуарда Рода за его отречение от натурализма. В своем собственном творчестве, он постоянно отмечает преимущество пройденной медицинской школы.
«Мне, как доктору, кажется, что душевную боль я описал правильно, по всем правилам психиатрической науки», – пишет он о своем «Припадке».
Строжайший художник, положительно охваченный манией краткости, он решается вставить клином специальный научный разговор в рассказ, чтоб усилить его медицинское правдоподобие.
«Я врач, – оправдывается он от упреков, – и посему, чтобы не осрамиться, должен мотивировать в рассказах медицинские случаи».
Высшей похвалой он считает признание дамами верности описания родов в его «Именинах».
– «Право недурно быть врачом и понимать то, о чем пишешь…»
И даже в письмах к молодым литераторам, снисходительно и мягко разбирая их чисто художественные промахи, он безжалостно бракует их рассказы за малейшую медицинскую погрешность.
– «Предоставьте нам, лекарям, изображать калек и черных монахов», – пишет он в одном письме. – «Вы не видели трупов», – укоризненно отмечает он в другом.
Те же требования он предъявляет даже своему великому учителю Толстому. Восхищаясь художественной стороной «Крейцеровой сонаты», он относительно медицинской части повести изобличает в авторе «человека невежественного, не потрудившегося в продолжение своей долгой жизни прочесть две-три книжки, написанные специалистами»… Увлекаясь «Войной и миром», он не упускает случая отметить и здесь возможность таких же погрешностей. По первому же поводу врач просыпается в восхищенном читателе и портит своим скептицизмом все художественное наслаждение. «Странно читать, что рана князя, богатого человека, проводившего дни и ночи с доктором, пользовавшегося уходом Наташи и Сони, издавала трупный запах…»
«Если б я был около князя Андрея, то я бы его вылечил» – спокойно заключает медик-эксперт литературный отзыв художественного критика.
Школа Дарвина и Клода Бернара в методологии литературной работы Чехова выработала строго материалистические принципы. Он с изумительной последовательностью проводил их даже в своих мистических исканиях. От противников позитивизма он требовал, чтобы они указали ему бесплотного Бога в небе так, чтоб его увидели, и в середине 90-х годов он с радостной надеждой предсказывал новое увлечение русского общества естественными науками. Как верный ученик Базарова, он называл 60-е гг. святым временем и утверждал, что мыслящие люди могут искать истину только там, где пригодны их микроскопы, зонды и ножи.
Строго позитивные методы своей медицинской школы он вносил и в первую стадию своего литературного творчества. Анатомия, физиология, микроскопия жизни – вот неизбежное преддверие и первые приступы чеховских вдохновений.
Но, помимо метода, медицинская школа внесла в его творчество и богатейшее содержание. Врачебная деятельность сообщила ему ряд сюжетов для его рассказов и несомненно сильно отразилась на выработке его общего мировоззрения.
III
Медицинская практика с изумительной полнотой раскрыла перед Чеховым ужас жизни, жестокость природы и беспомощность человека. Одни только упоминаемые в его рассказах и письмах случаи из его врачебной деятельности разворачивают такую жуткую картину жизненной нелепицы, что неизбежный пессимизм ее наблюдателя заранее предопределен ими.
Мужик с проколотым вилами животом, ребенок, наполовину обваренный кипятком, фельдшерица-морфинистка, кончающая сумасшедшим домом, жена молодого фабриканта, через неделю после свадьбы насквозь зараженная им, «девочка с червями в ухе», поносы, рвоты, сифилис – вот та действительность, которая широко пахнула своим гнилым и смрадным дыханием в лицо смеющегося Антоши Чехонте с первых же шагов его практической деятельности.
С этого момента определилось его основное воззрение на мир и людей. Над проколотыми животами, холерными корчами и гниющими детьми выяснилось его отношение к окружающему. Человек предстал перед ним прежде всего, как больное животное.
С этого момента Чехов начал смотреть на мир с глубокой и подчас даже брезгливой грустью, с этой минуты безнадежность стала окутывать все его мечты о будущем золотом веке, и мелькающий в нескольких письмах его шекспировский образ раненого оленя так невыносимо страдающего,
Что кожаный покров его костей
Растягивался страшно, точно лопнуть
Сбирался он, и жалобно текли
Вдоль мордочки его невинной слезы, —
этот образ затравленного животного сближается в его сознании с обычным для него зрелищем полураздавленного человека. Стоит перечесть в его письмах рассказ о весенней тяге в Мелихове, когда Левитан подстрелил молодого вальдшнепа и Чехову пришлось добивать его ружейным стволом, чтоб определенно почувствовать здесь обычное чеховское уподобление человека раненому животному. В беглом рассказе о красивой влюбленной птице, бессмысленно раздавленной равнодушными убийцами – знаменитым живописцем и знаменитым писателем – промелькнуло обычное раздумие автора «Чайки» о бессмысленной жестокости в судьбах всего живущего. Раненый вальдшнеп с окровавленным крылом и безумно изумленными глазами предстал перед ним вечно грустным символом человеческой судьбы.
Герои его рассказов определенно проводят такие же философские параллели. «Когда я лежу в траве, – говорит один из них, – и долго смотрю на козявку, которая родилась только вчера и ничего не понимает, то мне кажется, что ее жизнь состоит из сплошного ужаса, и в ней я вижу самого себя…».
Но участие к этим трагическим судьбам всего живущего не ослабляло в Чехове его бесстрастно точного изучения мира. Взглядом пытливого диагноста он окинул всю разворачивающуюся перед ним картину человеческого разложения, физической боли, идиотизма и безумия. Врачебная привычка к больному телу сообщила ему тот точный, немного холодный, но изумительно ясный взгляд на сущность человеческой природы, который навсегда избавил его от доверчивых иллюзий, пленительных ошибок и наивно-мечтательной веры.
Точные данные научного подхода к действительности сдерживали пугающий мистицизм людских судеб и ограничивали какими-то пределами тайну божественной духовности человека. С тонким искусством спокойного позитивиста Чехов обнажил человека от всех бытовых условностей, литературных прикрас или философских возвеличиваний и с изумительным умением выделил какое-то простое, первобытное, естественное начало из сложнейшего аппарата всяких наносных воззрений, житейских предрассудков, исторических традиций и общественных форм. За громоздкими декорациями жизни, за парадом условного возвеличения человека, за всеми примелькавшимися ярлыками чинов, званий, славы, репутаций, за всеми литературными метафорами и философскими иллюзиями Чехов неизменно различал простой материал для исследования биолога – человека-животное.