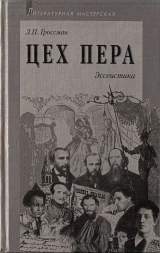
Текст книги "Цех пера. Эссеистика"
Автор книги: Леонид Гроссман
Жанр:
Публицистика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 26 (всего у книги 34 страниц)
– О, нет, это так давно писано, я от этого совершенно ушел. Это словно не я писал…
Но через несколько дней мы услышали стихи Брюсова, отчасти навеянные этой поездкой. В оде Максимилиану Волошину, написанной ко дню его рождения, Брюсов изображает его, genius loci Коктебеля, пользуясь эпизодами и впечатлениями нашей морской экскурсии и даже отмечая затмение Луны, которым ознаменовался в тот вечер наш обратный путь. Ода была великолепно прочитана Брюсовым за праздничным пиршеством среди обильных гроздей винограда и августовских крымских плодов.
В тот же вечер Брюсов принял деятельное участие в живом кино, устроенном С. В. Шервинским. Ставилась комическая пародия на авантюрные фильмы. Брюсов исполнял роль офицера французской службы в одном из африканских фортов – капитана Пистолэ Флобера. Одним из главных партнеров его был Андрей Белый в роли какого-то международного авантюриста. Оба поэта с увлечением выступали на столь необычном для себя поприще, великолепно поняв комизм задания и тонко разрешая эту трудную проблему.
В частности Брюсов вызывал дружный смех зрителей своими широкими жестами при повторявшейся фразе конферансье-режиссера: «Садитесь. Через десять минут я покажу вам Африку…»
Таковы были минуты беспечности, оживления и участия Брюсова в общем радостном настроении. Они перемежались иногда с иными настроениями – и теперь этот коктебельский месяц Брюсова представляется действительно его эпилогом – в общем прекрасным и радостным, но все же подернутым местами той крепкой и пасмурной печалью, которую поэт, кажется, всюду носил с собою.
Ничего строгого, властного, холодного не было в коктебельском Брюсове. Он был прост, общителен и мил. По-отечески снисходительно и дружелюбно вступал в спор с задорными девицами, отрицавшими огулом всю русскую культуру или отвергавшими какое-нибудь крупнейшее поэтическое явление. Участвовал в каждой морской или горной экскурсии в многолюдном обществе молодежи, выступал в диспутах по поводу прочитанных стихов, играл в мяч, налаживал литературные игры.
Но тень какой-то глубокой утомленности и скрытого страдания не покидала его. Часто он казался совершенно старым, больным, тяжко изнуренным полувеком своего земного странствия. Когда он сидел иногда, согнувшись на ступеньках террасы, в легкой летней сорочке без пиджака, когда, перевязав мучившую его больную руку, жестикулировал во время беседы одной свободной рукой, когда читал в продолжение целого вечера свои новые стихи, которые явно не доходили до аудитории, встречавшей и провожавшей их глубоким молчанием, – в такие минуты что-то глубоко щемящее вызывала в вас фигура старого поэта. Его поэтические триумфы, его роль литературного конквистадора, величественный блеск его имени, – все это словно отделялось, как отошедшее прошлое, от его глубоко утомленной и скучающей фигуры. Словно слышались знаменитые строфы его ранней поэмы:
Я жить устал среди людей и в днях,
Устал от смены дум, желаний, вкусов…
Но теперь это звучало роковой и неизбывной подлинностью. Чувство глубокого пресыщения, утомленности и безразличия к тому, что еще может дать жизнь, столь ярко, богато и плодотворно прожитая, вот что выступало как основная доминанта его переживаний. Не казалось ли ему, что круг существования завершился, что вечер уже сгустил недавние сумерки в близящуюся ночную черноту, что наступает давно отмеченный им час, обрывающий жизнь на какой-то «строфе случайной»:
Я знал, я ждал, предвидел, мерил,
Но смерть всегда нова. – Не так ли
Кураре, краткий дар Америк,
Вжигает в кровь свои пентакли?..
Так писал Брюсов за год до смерти.
12 октября, над разрытой могилой Новодевичьего кладбища, настойчиво и властно зазвучали в памяти другие, давно написанные им строфы, – прекрасные фрагменты эпохи брюсовского зенита:
Помоги мне мать-земля
С тишиной меня сосватай,
Глыбы черные деля,
Я стучусь к тебе лопатой.
…………………………………………
Я тебя чуждался, мать,
На асфальтах, на гранитах,
Хорошо мне здесь лежать
На грядах, недавно взрытых.
…………………………………………
Помоги мне, мать. К тебе
Я стучусь с последней силой,
Или ты в ответ мольбе
Обручишь меня с могилой?..
Эти стихи молодого Брюсова звучат по-новому в моем сознании, когда я вспоминаю последний образ старого поэта на фоне Коктебельских гор, его сутулящуюся, почти согбенную фигуру, слабые жесты его больной руки, его мелькающий взгляд, полный тоски и горечи. И я чувствую, что мне дано было присутствовать при закате жизни одного великого поэта, и понимаю, почему прекрасная торжественность этой славы облечена для меня в тона такой непоправимой печали.
X. 1924.
Гершензон – писатель[109]

Мы поминаем сегодня одного из мастеров литературного портрета. Попытаемся же почтить его в той форме, которую он так любил и над которой столько потрудился. Покойный писатель ценил в своей работе точный штрих, подлинный документ, живые и верные подробности. И он был прав: нам достаточно будет воспроизвести с возможной точностью черты его писательского облика, чтоб произнести ему высшую похвалу.
* * *
Ученый, историк, мыслитель, критик, исследователь, редактор – вот обычные предикаты М. О. Гершензона. Между тем, над всеми ими, думается нам, должно господствовать другое определение, полнее и ярче отвечающее основной его духовной сущности.
Художник слова, мастер повествовательного стиля, создатель нового литературного жанра художественной биографии, истории-повести, монографии-новеллы, и даже общественной хроники, граничащей с психологической драмой, М. О. Гершензон, при всех своих огромных научных заслугах, принадлежит, прежде всего, литературе. Так, видимо, сам он смотрел на свое призвание, и к такому выводу неизменно приводит нас прикосновение к каждой его странице – образной и динамичной, эмоционально окрашенной и лирически волнующей. Вот почему мое поминальное слово я посвящаю Гершензону-писателю.
Огромные, ответственные и сложные темы исследований, протянувшихся от «Истории молодой России» до «Мудрости Пушкина», несколько заслонили от нас облик замечательного артиста слова, подарившего нас этими драгоценным книгами. История идей, анализ миросозерцаний, обследование сложных путей духа, умственные и религиозные кризисы, критика учений, оценка верований и общественных направлений, все это так значительно, обширно, увлекательно и важно, что за этим движением систем менее заметным становился тот первоклассный словесный живописец, который развертывал перед нами эти широкие общественные фрески или замкнутые индивидуальные портреты.
Высокая артистичность исторических трудов Гершензона сказывалась прежде всего в единстве их замысла и цельности их общей идеи. Его книги не являются серией картин или собранием материалов. Их поднимают, двигают и охватывают обширные и целостные творческие раздумия. Учение о правильном устроении каждого индивидуального духа, уверенность в том, что «пустая и грешная жизнь», разросшаяся махровым цветом «на злачной почве крепостного труда», создавала свои сложные и сильные характеры, подлежащие вниманию и изучению потомства: наконец, глубокое убеждение в призвании каждой личности осуществлять в своем бытии представший ей «образ совершенства» – вот главные стержни, объединяющие эти многообразные разыскания и изучения. Как в поэме, как в трагедии или философском романе, мы ощущаем здесь это единство замысла и отражение цельного миросозерцания в борьбе и столкновении идей.
Это особенно сказалось на тех книгах о полузабытых героях прошлого, которые можно было бы назвать трилогией Гершензона и которые следует поставить в центр его литературного наследия; я имею в виду «Чаадаева», «Жизнь Печорина» и «Декабриста Кривцова». От канонического типа биографий их отличает острый драматизм основной темы, хотя и сосредоточенный целиком на внутренних конфликтах личности. Напряженность умственных исканий, беспокойные скитания духа, вся сложная эпопея одинокого интеллекта – здесь волнует и захватывает сильнее самых потрясающих внешних катастроф. Пусть речь идет только об этапах миросозерцания, пусть отдельные главы в «Жизни Печорина», например, названы: «Рождение мысли», «Отчаяние», «Обращение», «Пробуждение». – эти кризисы сознания сообщают им такой волнующий интерес, какой едва ли вызовет в нас самая яркая сюжетность беллетристического письма. Сложные законы чисто артистической композиции господствуют над этими материалами и придают им движение, окраску и образность тончайшего повествовательного искусства.
Этой художественной монолитности книги соответствует творческая обработка ее отдельных моментов. В сложные исследования о философских системах и научных исканиях прошлого Гершензон вводил нас легко и радостно. Какая трудная, громоздкая, грузная тема – славянофильство! Но опытной рукой Гершензон приподымает складки тяжеловесной, старинной драпри; «В кабинете Чаадаева, вероятно, в 1840 или 1841 г. молодой Самарин впервые встретился с Киреевским и Хомяковым». Вот подлинные истоки славянофильства. Мы сразу введены в круг живых людей: перед нами молодежь сороковых годов, которая вот-вот начнет свои нескончаемые диспуты, и главное, все это происходит в том просторном и озаренном кабинете, который хорошо знаком нам по старинным эстампам и по стихам Пушкина.
И так всегда. Как сложны философские искания Петра Киреевского в многокнижной Германии 40-х гг.! Но раскроем Гершензона:
«В первый день Рождества Киреевский обедал и провел вечер у Тютчевых, где для детей был устроен немецкий Weihnachtsbaum».
Для нас достаточно. Этот свежий запах рождественской хвои и звонкий плеск детских голосов будет долго сопровождать нас в дальнейшем изложении старых манускриптов и забытых книг. Архивная пыль уже не страшна нам.
Еще пример. Сколько изучений посвящено у нас знаменитому кружку Станкевича, его идейным битвам, нарождению западничества, общественной роли вождя этого философского содружества. Но к этой теме подходит с обычным вниманием к живым героям автор «Молодой России»: «Станкевичу идет 20-й год. Он мил, изящен, умен и беззаботен. Со стороны глядя, можно подумать, что он счастлив и живет непосредственно всем существом. Но это не так: едва заметная трещина уже бороздит его ясный образ». Мы сразу вступаем в самую гущу сложной психологической повести.
Эпоха всегда дается в летучих беглых намеках. Не история быта, а лишь мелькающие его фрагменты, дающие нам ощущение реального. Моды, костюмы, обстановка, украшения – все вещественные следы былого никогда не являются предметом и целью в книгах Гершензона. История в гонкуровском смысле ему чужда. Духовная культура всегда доминирует у него над этими осязаемыми явлениями быта, которые здесь еле намечены и слегка лишь очерчены. Так, по слову Гершензона – поэзия Огарева «не показывает в ярком свете материальную действительность, но лишь позволяет угадывать ее».
Но иногда эти мелькающие видения прошлого развертываются в обширные и детальные картины. Остановимся на одном отрывке, особенно показательном в этом отношении. Быть может потому, что речь идет о самых любимых и заветных образах Гершензона – о Пушкине и Чаадаеве – сближение их имен вдохновляет его на особенно пластическую, живую и яркую страницу:
«Легко представить себе, как с шумом и хохотом, сверкая белыми зубами, врывается в кабинет Чаадаева смуглый, курчавый, невысокий, быстрый в движениях юноша – Пушкин. Он, может быть, кутил до утра, но у него крепкие нервы, и очень вероятно, что проснувшись поздно, он еще час-другой, полулежа в постели, писал свою поэму о Руслане, потом оделся небрежно-щегольски, вышел на Невский, прошелся и решил зайти к Чаадаеву. Между ними, казалось бы, не должно быть ничего общего. Чаадаев – аристократ, блестящий гвардейский офицер и, вместе с тем, ученый мыслитель… Он богат и независим; его спокойная уверенность в обращении с людьми, вероятно, предмет страстной зависти для Пушкина; он импонирует сдержанной любезностью – вот в чем его сила. Его кабинет – сочетание элегантности и учености. Что свело этих двух несхожих молодых людей? – Но это будущий величайший поэт России и ее сильнейший философский ум».
Какая мастерская страница! И как отрадно и радостно читателю, после этой превосходной картины, перейти от живых фигур к вопросам поэзии и философии, искусства и политической мысли.
Этот прием развертывания внутренней драмы на фоне живой и конкретной действительности встречается и в историко-литературных трудах Гершензона.
Мы знаем, как темны и запутаны душевные кризисы великих творцов и мыслителей, как загадочен путь «перерождения убеждений», как, по слову Достоевского, «трудно менять богов». Нелегко и зафиксировать в слове эти катастрофические сдвиги большого, мятущегося сознания в момент его критического перелома.
Но вот Гершензон подходит в такую минуту к Тургеневу: «Солнце садилось в полесской гари, все кругом затихло, готовясь к усыплению ночи; Тургенев лежал у дороги, ожидая, пока запрягут лошадей. И тут не с громом и молнией, а в тихом веянии снизошло на него откровение…» Следует этюд о натурфилософии Тургенева.
И все подобные места не просто – зачины, заставки или виньетки, цель которых возбудить внимание, поднять интерес, занимательно начать. Они органически слиты со всей повествовательной манерой и беглым штрихом намечают дальнейший внутренний драматизм повествования.
Так понимал Гершензон задания историка. И как немногие из русских мыслителей и ученых, он обладал замечательным даром делать волнующими идеи, драматизировать абстракции и этим захватывать своего читателя. «Воскресить полузабытый образ», «понять мысль в связи с жизнью», «раскрыть душевное ядро в человеке» на основе его жизненного опыта, «изобразить историю общественной мысли в ее живой конкретности», развернуть «картину эпохи в смене личных переживаний» – вот какие задания он постоянно ставил перед собой. И для их разрешения аналитику-исследователю должен был сопутствовать поэт-созерцатель, не собирающий только, но и творчески претворяющий объекты своих наблюдений.
Нужно признать, что в русской литературе Гершензон создал этот превосходный исторический жанр. Он ввел у нас эту форму замкнутого и живого исторического повествования, которая до него лишь на Западе имела некоторых представителей. Не собираясь поднимать вопроса об учителях Гершензона, отметим некоторую традицию в разработке его жанра, восходящую к корифеям мировой литературы.
Одним из самых ярких представителей его был несомненно Карлейль. Автор «Героев и героического» считал, что история есть сумма биографий и что основная задача историографии – воскрешение и оживление минувшего – легче всего может быть разрешена изучением жизни отдельных выдающихся деятелей. На этом стержне развернулись красочные эпопеи английского историка. Он, как известно, исходил из великого образца биографического жанра, из автобиографии Гете. «Dichtung und Wahrheit» представлялась ему самой прекрасной из всех существующих книг, великим даром поэта человечеству. Он называл ее «Одиссеей, изображающей странствования и блуждания не во внешнем мире, а во внутренней душевной сфере человека, до тех пор, пока странник снова обретает свою родину, т. е. становится предметом спокойного самосозерцания»…
Другой представитель того же художественно-исторического метода, конечно, Тэн. Он признавал высшей заслугой историка – изучить человеческие события в живых личностях, которые их создают или переживают. Не нужно, чтоб абстракции скрывали от нас контуры вещей и облики деятелей. Во Франции в XVIII веке – 20 миллионов населения, 20 миллионов человеческих жизней. Какая память, какое воображение в состоянии представить себе эту огромную живую ткань во всех ее узлах и волокнах? А между тем, именно она-то и является подлинным объектом истории, и в труде летописца первое место принадлежит этим необъятным множествам, этим безвестным массам, этим исчезнувшим бесчисленным толпам. Как изучить, как осветить и зафиксировать этот неуловимый поток существ? Не единственный ли способ – выделить из этой массы отдельные группы, из этих групп характерные фигуры. И не является ли поэтому монография наилучшим инструментом историка?
Таковы были предшественники Гершензона. Но созданная им у нас историческая форма получила особые своеобразные черты, тесно связанные с русской жизнью, литературой и общественностью. При разнообразных книжных воздействиях и различных национальных уклонах, покойный писатель был проникнут темами русской культуры, ее считал своей духовной родиной, постоянно жил ее преданиями, проблемами и устремлениями.
И прежде всего – он несомненно сообщил нашему повествовательному стилю некоторые новые оттенки. Он нашел приемы и средства утончить или оживить русскую философскую прозу. В сложной области этих трудных научных тем он сумел придать языку какую-то новую впечатлительность, большую нервность, окрашенность и остроту, при сдержанности и простоте общей манеры. Он умел ровную ткань своего рассказа оживлять тонким афоризмом или яркой и живописной словесной формулой. Вспомним:
«Чаадаев любил готический стиль: его философия – словесная готика». – «Старое мировоззрение рухнуло – начался великий ледоход русской мысли». – «Личное спасение – это загробный гедонизм». – «Петрарка – первый турист нового времени». – «Свет проповедей Толстого – жестокий свет и больно ранит сердце, томящееся во сне».
Над каждой из таких сосредоточенных и кратких фраз, открывающих бесконечные перспективы мысли, можно мечтать часами. И замечательно, что вопросы словесной культуры действительно постоянно занимали М. О. Гершензона, и филология у него как-то соприкасалась с философией и этикой. Для него важно, что «в санскрите невзгода и теснота выражаются одним и тем же словом, простор и благоденствие – тоже одним». И какой прекрасный словесный комментарий дает он в своих афоризмах:
«Русский привет расставанья „прощай!“ удивительно хорош по смыслу. Прежде всего не о чем-нибудь другом, а о прощении, и притом: не теперь однократно прости, но прощай непрестанно во все время разлуки; каждый раз, как вспомнишь обо мне, – прости, чем я тебя обидел. Уж наверное чем-нибудь да обидел: ведь я только человек…» И тут же указание на то, что слово «прощай» неблагозвучно и что недаром Пушкин «неизбежно употреблял более мягкое „прости“, наперекор народному языку: „Прости, он рек, тебя я видел“ или „Прости и ты, мой спутник странный“».
Так мысль Гершензона была направлена к проблемам русской речи, которой он явственно указал в плане исторического повествования еще неиспользованные стилистические приемы. Как все его писания, и эти страницы о минувшем проникнуты редким чувством меры, поразительным чутьем границ, безошибочным и строгим вкусом, диктующим писателю великие законы сдержанности и простоты. Этим Гершензон замечательно отвечает общему стилю русской литературы XIX века с ее ровным, рассеянным, матовым и поразительно успокаивающим освещением, без резких бликов и контрастных пятен. Достоевского из этого круга приходится, конечно, исключить. И я знаю по личным беседам с М.О., что автор «Бесов» был ему чужд. Но световая атмосфера Тургенева, Льва Толстого, Тютчева, Гончарова или Чехова дает тот же тон и отбрасывает такие же мягкие светотени.
И в этом отношении, конечно, был прав писатель, сравнивший книги Гершензона с пейзажами Левитана: «Оба, и Левитан и Гершензон, умели схватить как-то самый воздух России, этот неясный воздух, не солнечный, этот обыкновенный ландшафт и обыкновенную жизнь, которые так присасываются к душе и помнятся гораздо дольше разных необыкновенностей и разных величавостей».
Таков общий облик почившего писателя. Все эти явственные черты художнической организации были охвачены высшим признаком подлинно творческой натуры: влюбленностью в свои видения. Не хладно и не спокойно брался Гершензон за свои исторические или философские труды. Он обращался к ним в силу тех категорических императивов сердца, которыми определяется созидательный труд художника. «За что я люблю, за что Россия любит Тургенева?» вот обычная постановка его тем. И в их развитии он умел идти дальше простого ответа на этот вопрос о причинах душевной тяги к писателям, – он открывал новые источники влечения к их творчеству и внушал нам свою неистощимую влюбленность в забытые и неумирающие «образы прошлого».
И, как всегда в таких случаях, происходило чудо оживления мертвецов. Сквозь очарования своего прозрачного стиля историк выводил из забвения два-три поколения русских людей и показывал нам этих ушедших героев в их напряженной внутренней жизни и архаически-изящном внешнем облике. Он показал нам, как они жили, учились, мыслили, спорили, боролись и до отчаяния томились гнетом мрачной эпохи и суровыми постулатами жадно ищущей мысли. С редким даром великого живописца душ он заставил нас любоваться этими неведомыми людьми, жить их запросами, мучиться их внутренними конфликтами, болеть их душевными ранами и сострадать их нравственным драмам.
Это может показаться малым, и как это значительно! Прекрасное искусство историка развернуло перед нами тот подлинный мир, который был знаком нам в бессмертных отражениях Пушкина, Грибоедова, Гоголя, Тургенева, Льва Толстого. Нам раскрылась какая-то обширная область русской жизни, пребывающая в плане величайших шедевров ее поэзии, им сопутствующая и наново озаряющая их светом исторической были. Книги Гершензона связаны какими-то неразрывными нитями с бессмертными страницами русского классического романа. Вот почему, быть может, в них так просторно и свежо, столько воздуху и так свободно дышется. В известном смысле они соседствуют с «Дворянским гнездом» и «Войной и миром», с «Горем от ума» и «Пиковой дамой». Не только в научной традиции, но и в читательском представлении они уже стоят рядом.
Не является ли этот несомненный факт самой полной оценкой и наградой их автору? Он принес в русскую литературу свое сердце еврея, влюбленного в славянскую душу, и с подлинной праведностью в выполнении своего призвания, простодушно и ненамеренно, осуществил свое жизненное дело и оказался неожиданно для себя на вершинах русского творчества рядом с его великими и незабываемыми именами. И для нас, его современников, слушателей и собеседников, уже ясно, что история русской литературы сохранит навсегда эти глубоко своеобразные, пленительно-одухотворенные и пластически прекрасные творения, а вместе с ними будет жить и память о создавшем их замечательном художнике русского слова.
Пушкин или Рылеев?

В августе 1924 г., общество литераторов, собравшееся в Коктебеле у М. А. Волошина, заслушало статью К. А. Гофмана «Пушкин и Рылеев». Предлагаемый в ней отвод знаменитого послания «К Чаадаеву» от Пушкина и приурочение его к Рылееву вызвали заметный интерес собрания. Присутствовавший на нем покойный В. Я. Брюсов безоговорочно согласился с автором статьи и признал вопрос решенным: авторство Рылеева, по его мнению, было доказано, и стихотворение «Любви, надежды, тихой славы» отныне теряло право на включение его в собрания пушкинских текстов.
Во время прений по этому вопросу пишущий эти строки, несмотря на авторитет обоих пушкинистов, пришедших к одинаковому выводу, позволил себе высказать сомнение в окончательности их согласного решения. Не оспаривая права исследователей ставить здесь вопрос о подлинном авторстве Пушкина ввиду отсутствия автографа или именной публикации, я усомнился в правильности отнесения спорного текста к Рылееву и высказал ряд соображений о серьезных шансах «пушкинской традиции» остаться в силе и после возникшего на эту тему диспута.
По предложению редакции «Недр», излагаю свои соображения по этому спорному вопросу, подводя под прежние возражения новые документальные обоснования.
I
История опубликования спорного стихотворения изложена М. Л. Гофманом не полностью. Публикация «Северной Звезды» 1829 г. не есть собственно начало текстовой биографии этого послания.
Его печатная история имеет свою праисторию, весьма существенную и важную для нас. Отрывок из интересующего нас послания появился впервые за два года до напечатания его в «Северной Звезде»[110], а именно, в «Сириусе» 1827 г., изданном тем же М. А. Бестужевым-Рюминым, который редактировал альманах 1829 г. («Северную Звезду»). В эпистолярном отрывке «Следствия комедии „Горе от ума“» (переписка между главными лицами комедии и их знакомыми) в письме Чацкого к Лестову мы находим выдержку из послания к Чаадаеву. Чацкий между прочим пишет:
«Утомленный печалями, исполненный какого-то особенного предчувствия, с каким-то особенным нетерпением я жду чего-то лучшего.
Нетерпеливою душой
Я жду с томленьем упованья,
Как ждет любовник молодой
Минуты верного свиданья.
Не думай, чтоб я сделался и стихотворцем, если в сих прекрасных стихах П. заменен мною роковой заветный стих собственным незначащим. Это только для рифмы».
Академическое издание отмечает: здесь вовсе нет лишнего стиха, вставленного Чацким будто бы для рифмы, а имеется только пропуск – «конечно, по цензурным соображениям» – двух стихов: «Отчизны внемлем призыванья» и «Минуты вольности святой».
Во всяком случае запомним следующий факт: отрывок из стихотворения «Любви, надежды, тихой славы» впервые появился в печати с прозрачным указанием, что это – «прекрасные стихи П». В 1826 г., в момент зенита пушкинской славы, эта формула совершенно равносильна полному наименованию имени Пушкина (заметим, что другого мало-мальски популярного поэта с инициалом П. тогда и не было в русской поэзии[111].
Читатель с совершенной несомненностью воспринимал приведенную оценку, как прямое указание на Пушкина.
Это впечатление усугублялось явственными намеками на политическую нецензурность стихов (чем, как известно, в то время славился именно Пушкин): «в сих прекрасных стихах П. заменен мною роковой заветный стих собственным незначащим». Издатель усугублял впечатление многозначительной сноской: «А нам кажется (стих) пропущен» и проч. Это опубликование прошло без всяких возражений с чьей бы то ни было стороны. Молчал и Пушкин.
Через два года тот же Бестужев-Рюмин, публикуя в 1829 г. почти полностью (за исключением последней строфы) послание «К N.N.», т. е. «Любви, надежды тихой славы» за подписью Ап., отмечает в предисловии: «Издатель, благодаря г. Ап., доставившего к нему тринадцать пьес (из коих несколько помещено в сей книжке) должным находит просить гг. Неизвестных об объявлении впредь имен своих издателю».
«Таким образом, – замечает Академическое издание, – в 1827 г. Бестужев-Рюмин говорил о послании к Чаадаеву, как об известном произведении, обозначая имя автора – П…, а в 1829 г. напечатал послание, приписав его неизвестному, скрывшему свое имя под буквами Ап.».
По мнению М. А. Цявловского, эта последняя подпись снова придумана Бестужевым-Рюминым для сигнализации читателю; в случае возможного укора, латинские буквы можно было толковать, как начало слова «Anonyme», фактически же в читателе вызывалась неизбежная ассоциация с пушкинскими инициалами (А.П.). Отметим, что некоторые стихотворения Пушкина появились в печати за этой именно подписью[112].
Первый намек 1827 г. хотя и ослабленный, оставался все же в силе.
Пушкин, как известно, заявил в своих критических заметках 1830 г. свой протест против всей этой уклончивой и в то же время явной игры с его именем. К этому заявлению мы еще вернемся.
Пока же заметим, что у печатных первоистоков вопроса мы встречаемся с целым рядом явных указаний на авторство Пушкина и не имеем ни одного хотя бы отдаленного и косвенного намека на Рылеева. Первый отрывок из послания характеризуется издателем, как «прекрасные стихи П.», первая подробная редакция помещена в одной партии с 5 несомненными пушкинскими стихотворениями (при одном непушкинском, включенном, очевидно, по ошибке), но во всяком случае не в соседстве с какими-либо рылеевскими стихами. Все это помещено за суггестивной подписью Ап., вызывающей невольное сближение с пушкинскими инициалами и не имеющей ничего общего с вензелем К.Р. (Кондр. Рылеев). Эта последняя публикация встретила отзвук со стороны Пушкина, который во всяком случае сам нисколько не отвергал своего авторства по отношению к стихотворению «Любви, надежды, тихой славы».
II
Этого мало. Пушкин не только не отвергал своего авторства, но в другом своем послании к Чаадаеву весьма отчетливо признал его. В стихотворении «К чему холодные сомненья?» 1820 г., бесспорно пушкинском и несомненно посвященном Чаадаеву, поэт совершенно недвусмысленно упоминает свое первое обращение к тому же лицу. Оба стихотворения с давних пор сопоставляются исследователями, как несомненно внутренне согласованные. Возражение М. Л. Гофмана, считающего вопреки традиции, что за исключением одного образа (да и то трактованного по-иному) «нет решительно никакой внутренней связи между обоими посланиями», ни в коем случае не может быть принято.
Полагаем, что связь эта очевидна. В момент второго послания Пушкин уже отошел от безудержной революционной восторженности своего недавнего прошлого, – он во многом стал спокойнее и скептичнее. Это новое настроение и выражается во 2-м послании. Все оно построено на противоположении возникшей сердечной лени и тишины прежнему «восторгу молодому» и мятежной отваге. Из этого противопоставления двух крайних настроений явственно выступает первое обращение к Чаадаеву (т. е. наше спорное послание).
Вспомним окончание послания к Чаадаеву 1820 г. (бесспорного):
Чаадаев, помнишь ли былое?
Давно ль с восторгом молодым
Я мыслил имя роковое
Предать развалинам иным?
Но в сердце, бурями смиренном,
Теперь и лень и тишина,
И в умиленьи вдохновенном
На камне, дружбой освященном,
Пишу я наши имена.
Вопрос, поставленный в начале этого заключения («давно ль с восторгом молодым я мыслил имя роковое предать развалинам иным?»), явно указывает на первое послание. Здесь, как и во всем стихотворении, – противопоставление первому посланию. Теперь перед поэтом развалины храма Дианы, где происходили трогательные эпизоды классической дружбы Ореста в Пилада:
На сих развалинах свершилось
Святое дружбы торжество…
В первом же случае говорилось об «обломках самовластья», т. е. отнюдь не идиллических руинах. Это и подчеркивается во 2-м послании в стихах о предании «рокового имени» (конечно, носителя самовластья) «развалинам иным» (обломкам трона).
Параллелизм антитезы углубляется и далее: в 1818 г. Пушкин мечтал видеть «наши имена» (т. е. свое и Чаадаева) написанными воспрянувшей от спячки революционной Россией «на обломках самовластья» – теперь же с ленью и тишиной в сердце, даже с чувством умиления —








