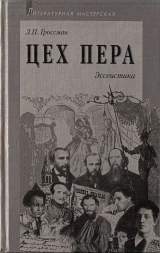
Текст книги "Цех пера. Эссеистика"
Автор книги: Леонид Гроссман
Жанр:
Публицистика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 34 страниц)
От Урала до Дуная,
До большой реки,
Колыхаясь и сверкая
Движутся полки;
Веют белые султаны,
Как степной ковыль;
Мчатся пестрые уланы,
Подымая пыль;
Боевые батальоны
Тесно в ряд идут,
Впереди несут знамена,
В барабаны бьют;
Батареи медным строем
Скачут и гремят,
И дымясь, как перед боем,
Фитили горят.
И испытанный трудами
Жизни боевой,
Их ведет, грозя очами,
Генерал седой.
Идут все полки могучи,
Шумны, как поток,
Страшно медленны, как тучи,
Прямо на восток.
Здесь опять без звукоподражательных эффектов дана не только зрительная, но и слуховая картина движущихся войск, – бой барабанов, медный грохот батарей и глухой шум отдаленного людского потока.
В самом стихе слышится какая-то бодрость, стремительность и грозящая непреклонность стройного массового движения – это темп похода и ритм наступления.
Только поэт, принимавший участие в сражениях, может создавать такие по существу своему военные строфы. Положительно кажется, что декламация «Спора» могла бы сообщить тот ритмический порядок ходу войск, который достигается обыкновенно хоровым пением или оркестровой музыкой. Эта баллада Лермонтова могла бы стать народной солдатской песнью, как это произошло уже с «Коробейниками» Некрасова. И, наконец, картины замирающей и отходящей битвы завершают эти боевые фрески. После сражения исчезает возбуждение от общего действия опасности и шума битвы, и остается голый ужас действия. Утомленный офицер хочет зачерпнуть воды в ручье, – «но мутная волна была тепла, была красна»… Напряжение схватки сменяется неподвижной картиной смерти и разрушения.
Уже затихло все. Тела
Стащили в кучу; кровь текла
Струею дымной по каменьям, —
Ее тяжелым испареньем
Был полон воздух…
Все в мире осквернено, отравлено, загублено войной; кровью густо окрашены ручей и камни долины, даже горный воздух насквозь пропитан ее испарениями. Тяжелой затхлостью лазарета веет от этих кавказских пейзажей Лермонтова. В них чувствуется пресыщение борьбой.
И Лермонтов произносит эти антимилитаристические протесты. Знаменитые строки Валерика («Жалкий человек! Чего он хочет? Небо ясно»… и т. д.), уже предчувствуются в одной из ранних поэм Лермонтова.
Зачем в долине сокровенной
От миртов дышет аромат?
Зачем? Властители вселенной
Природу люди осквернят.
Цветок измятый обагрится
Их кровью, и стрела промчится
На место птицы в небесах
И солнце отуманит прах.
Крик победивших, стон сраженных
Принудят мирных соловьев
Искать в пределах отдаленных
Других долин, других кустов,
Где красный день, как ночь, спокоен,
Где их царицу, их любовь,
Не стопчет розу мрачный воин
И обагрить не может кровь.
Это осуждение войны необыкновенно знаменательно для Лермонтова. Здесь раскрывается самая заветная сущность его натуры. Все творчество его было намечающимся, но не успевшим еще осуществиться, преодолением демонизма. И если он искал в войне забвения и героизма, наслаждения острыми ощущениями смертельной опасности, опьянения и дурмана, он устами Печорина признал, что и чеченские пули не разгоняют скуки.
Такова эволюция Лермонтова. От юношеского культа военного подвижничества к горькому сознанию его безнадежно жестокого смысла.
Смельчак офицер, представленный к награде золотою саблей за храбрость и оплаканный Ермоловым, он с мудростью и сердечной чуткостью гения осудил исторические жертвы массовых жертвоприношений. Голос Лермонтова отчетливо звучит в хоре протестантов против оружия. От «Валерика» тянутся нити не только к «Севастопольским рассказам» и «Войне и миру», но и к «Четырем дням» Гаршина и «Красному смеху» Андреева. Исполненное глубокой скорбью раздумие поэта над кавказской «речкой смерти» намечает всю преемственную проповедь пацифизма в русской литературе, а укоризненно-недоуменный вопрос Лермонтова о причинах и смысле «беспрестанной и напрасной» человеческой вражды продолжает звучать чем-то трагически современным в теперешнюю кровавую эпоху его столетней годовщины.
Тютчев и сумерки династий

L’explosion de Février a rendu ce grand service au monde, c’est qu’elle a fait crouler jusqu’a terre tout l’échafaudage des illusions dont on avait masqué la réalité.
Тютчев: «La Russie et la Révolution» (апрель 1848 г.).
Современники революций никогда не видят их в свете цельного и сплошного энтузиазма. Это удел отдаленных потомков. Только на расстоянии многих десятилетий можно слушать «Марсельезу», не вспоминая о лязге гильотин, и восхищаться кличами народных трибунов, не думая о пролитой крови.
Очевидцы великих переворотов менее счастливы. Им близки оба течения мятежной стихии, и под огненным потоком преображения они чувствуют беспрерывное бурление поднявшейся со дна мути и грязи. Им слишком знакомы страшные будни и жуткая проза революций. И душа их, разодранная на части этими судорогами сменяющихся подъемов и падений, сочувствий, восторгов и возмущений, не перестает переживать в продолжение всего кризиса глубокую и тягостную драму.
Некоторым суждено пережить ее с особенной остротой. Такова была участь Тютчева. Идеолог самодержавия и апостол всемирной теократии, он с ужасом отвращался от революции. Но как творческая натура, вечно стремящаяся к последним граням освобождения, как жадный созерцатель «древнего хаоса», он чуял в революции родное, близкое и неудержимо влекущее к себе. Отсюда его глубокая внутренняя разорванность. С омертвелой душой и широко раскрытыми глазами, потрясенный, опечаленный и бессильный, он следил за стихийной катастрофой мирового преображения, одинаково чувствуя величие и ужас совершающегося.
Но драма его не угасла с ним. Она возрождается с каждым новым великим сотрясением, и мы глубже поймем себя и трагический смысл происходящего, если проследим ее этапы.
I
От звездного неба и ночного океана Тютчев часто отводил свои взгляды к географической карте современной Европы. Созерцатель надмирного и вечного в своих творческих видениях, он силою жизненной судьбы стал внимательным наблюдателем всех треволнений текущей истории. Этот маг, астролог и тайновидец в свои обычные часы был дипломатом, политиком и царедворцем. Сумрак мировых тайн не заслонял перед ним тонких и хрупких нитей, сплетающих пряжу проносящейся современности, а тревожные колебания государственных границ глубоко волновали этого вещего созерцателя потустороннего. Рядом с Сведенборгом в нем уживался Талейран. Из кабинетов заграничных посольств и канцелярий петербургских министерств он зорко следил за опасной игрой правительственных или династических интриг, кидающих целые нации в яростную горячку взаимных истреблений. И глубоко взволнованный этим трагическим турниром венценосцев, послов и министров, он часто рифмованными строфами набрасывал свои негодующие или иронические замечания на поля шифрованных депеш и политических передовиц.
Он дал свой творческий отзвук. Текущая политика имела для Тютчева свой фатум и свой пафос. Не одни только «демоны глухонемые» небесных гроз зажигали его вдохновение, но и все проносящиеся события текущего исторического часа. Голос Клио всегда в нем будил Полигимнию. Стоя у самого источника политических катастроф, видя первое зарождение человеческих волн, смывающих правительства и режимы, он из этой лаборатории современной истории откликался на все ее голоса. И часто на еле вспыхивающие зарницы и далекие ропоты надвигающихся бурь он отвечал дрогнувшей медью своих строф, как электроскоп, трепещущий перед грозой своими золотыми лепестками.
До конца эти острые углы проносящейся современности глубоко задевали и ранили его. Бесконечной грустью веет от рассказа о его последних днях. В Царском Селе, где Тютчев так любил в осенних сумерках следить за беззвучным летом призраков минувшего над гаснущим стеклом озер и порфирными ступенями екатерининских дворцов, старый друг застал его в плачевнейшем состоянии. Это были те
роковые дни
Лютейшего телесного недуга
И страшных нравственных тревог,
когда кажется, что все отнято казнящим Богом у отходящего от жизни, кроме последнего сознания измученности, беспомощности и скорого уничтожения.
Паралич вершил свое беспощадное дело, и предсмертное разложение шло полным ходом. Половиной тела Тютчев совершенно не владел, он не мог писать, мозг изнемогал от сверлящей боли, центры речи были поражены, и некоторые звуки он уже затруднялся произносить. Еще несколько дней – и он не сможет исповедываться: отнимется язык, и умирающий свершит только глухую исповедь. Но пока дар слова еще не окончательно отнят у него, Тютчев по-прежнему весь в треволнениях современности. «Голова свежа, – замечает посетитель, – поговорили о литературе, о Франции…»
И, вероятно, опять, как незадолго перед тем в своих письмах, Тютчев с восхищением отозвался о первом президенте третьей республики, как об одиноком, но непоколебимом борце. В своих последних беседах он негодовал на правую сторону национального собрания, снова бросавшую еле очнувшуюся страну в грозную и жуткую неизвестность гражданских войн и вражеских нашествий.
И, конечно, умирающий Тютчев не мог просмотреть этой новой угрозы западному миру. Приближающийся конец не сделал его равнодушным к назревающим политическим драмам. С напряженным вниманием он по-прежнему жадно всматривался в их запутанный ход сквозь тупую муку своего медленного угасания. Он мог исчезнуть, но Европа оставалась! И перед надвигающейся ночью небытия, перед лицом вплотную подошедшей смерти, прикованный к постели, неподвижный, почти потерявший голос, он продолжал коснеющим языком говорить о творческих силах и грядущих обновлениях европейской жизни, о духовном и рыцарском ордене ее вождей и героев, вдохновителей и бойцов.
Бодрящей силой веет от этой агонии семидесятилетнего паралитика. Как чувствуется в ней тот, кто через несколько дней погаснет со словами: «Faites un peu de vie autour de moi!»
До последнего часа Тютчев жил и горел всеми болями и ожогами современности. До конца он шел к вселенской мистерии земными путями, через человеческую трагедию. Драмы истории могли только приблизить его к этой заветной цели. И со смертного одра он по-прежнему склонялся над клокочущим водоворотом политических событий, как Данте над подземным потоком, с ужасом вслушиваясь в рыдания, стоны и вопли, несущиеся к нему со дна бушующей пучины.
Так до конца в политической злободневности Тютчев прозревал лик всемирной истории. До конца известия посольских меморандумов и сообщения агентских телеграмм поднимались им до значения религиозной драмы мирового преображения. И, конечно, он принял бы, как лозунг своих философских раздумий, слова, сказанные Наполеоном Гете:
– Политика – вот подлинный трагический рок наших дней.
II
Судьбы эпохи не отказывали Тютчеву в захватывающих зрелищах. Как Цицерон, он посетил «сей мир в его минуты роковые» и мог считать себя собеседником богов на яростном спектакле расовых состязаний.
Войны, революции, падение тронов и зарождение новых властей щедро наполнили европейскую хронику его поры. Детство его пало на горячечное время наполеоновских походов, а старость совпала с перелицовкой европейской карты прусским мечом. Он родился за год перед венчанием Бонапарта императорской короной, а умер через полгода после «Наполеона малого», пережившего триумфы своих военных авантюр и гибель своей державы.
За эти семь десятилетий он был свидетелем нескольких великих войн. Еще девятилетним ребенком он был увезен из Москвы в панике перед тем нашествием, которое впоследствии он назвал первой пунической войной Европы с Россией. Он всегда с волнением вспоминал тот всемирно-исторический момент, когда «вещий волхв в предчувствии борьбы» произнес на Поклонной горе свое фатальное заклинание.
В разгаре его политической деятельности разразилась Крымская кампания, глубоко взволновавшая его. Он сразу почувствовал, что этот медленно нараставший кризис, способный переломить и преобразить мир, окажется таким продолжительным и ужасным, что всего остального века не хватит для его окончательного усмирения. Как только он узнал, что морской министр везет в Константинополь ультиматум петербургского кабинета, он сразу понял, что зачинается нечто неизмеримо важное и роковое, неуловимое для оценок современников. И с первых же военных действий он начал предсказывать, что возникшие события – уже не война, не политика, а «целый мир слагающийся…»
И, наконец, уже в старости он с волнением следил за угрожающим ростом Пруссии. И когда незадолго до смерти он стал свидетелем ее нападения на Францию, ему почудилось, что там, вокруг Седана —
Из переполненной Господним гневом чаши
Кровь льется через край и Запад тонет в ней…
В своих письмах он предсказывает, что последствия франко-прусской войны могут оказаться совершенно неожиданными для всего мира: вызвав окончательное подавление в европейском человечестве религиозной совести, эта война приведет Европу к состоянию варварства, беспримерному во всей всемирной истории и открывающему пути неслыханным злодействам.
«Это простой и полный возврат христианской цивилизации к римскому варварству, – пишет он о новой имперской Германии, – и в этом отношении князь Бисмарк восстановляет не столько Германскую империю, сколько традиции Римской. Отсюда этот варварский дух, отметивший приемы последней войны, эта систематическая беспощадность, возмутившая мир… Это Кесарь, вечно пребывающий в борьбе с Христом».
Но еще обильнее были в его эпоху зрелища революций. От греческого восстания и декабрьского бунта, через польские мятежи, через июльские и февральские дни в Париже до русского террора и Парижской коммуны он не переставал изучать психологию и дух революции во всех ее оттенках, видах и формах. Он прошел за это время целый путь от ужаса перед грозным смыслом безбожной революционности к признанию в ней жизненных начал обновления и творческих сил.
Представитель петербургского кабинета в самую грозную пору российского самодержавия, Тютчев под конец жизни философски принял революцию и политически приблизился к ней. В его письмах, до сих пор нигде не собранных, в неизданных рукописях его политических статей часто отражается его сочувствие катастрофическим обновлениям застоявшейся истории. Этот мятежный облик консервативнейшего чиновника остается до сих пор в глубокой тени, и ключ камергера тщательно скрывает от нас его трехцветную кокарду республиканца. Мы прекрасно знаем Тютчева, возмущенного адской силой революционных взрывов, посягающих на «незыблемые высоты», нам знаком традиционный облик этого вельможи-реакционера, подающего Николаю записки о необходимости подавления русским оружием европейских бунтов, но от нас скрыт этот сочувственный провозвестник наступающей республиканской эры, предсказывающий спасение России огнем революционного действия.
«Если бы Запад был един, – пишет он в своих письмах, – мы бы кажется погибли. Но их два: Красный и тот, кого Красный должен поглотить. Сорок лет мы отбивали у Красного эту добычу, но вот мы на краю бездны и теперь-то именно Красный и спасет нас в свою очередь».
И уже незадолго до смерти он с живостью великих ожиданий отмечает повсеместное понижение династических чувств, падение монархического авторитета и неизбежное вступление европейского мира в республиканскую эру.
Так эволюционировал этот ученик Жозефа де Местра. На громадном протяжении от восстания карбонариев и убийства Коцебу до поджога Тюильри и выстрела Каракозова менялись приемы, тактика, дух и смысл революции. Менялось и отношение к ней Тютчева.
В процессе истории преобразилась вся его философия власти. Священный характер единодержавия и религиозный ореол монархического владычества потускнели и выветрились под напором совершившихся исторических фактов. Безбожная революционность оказывалась могущественнее божественной власти королей. Гарибальди и Герцен казались героичнее Франца-Иосифа и третьего Наполеона. Воля наций становилась мудрее самодержавных манифестов.
Древняя священная власть агонизировала на глазах у Тютчева. Сцена истории преображалась. Цари уходили, умирало последнее очарование династических могуществ. Увяли лилии Бурбонов, захирели орлы Мономаховичей. На всех тропах мира короли-герои угасли, как светильники законченного богослужения. Чувствовал ли умирающий Тютчев, что даже сану российских самодержцев оставалось менее полувека жизни?
Но не только силой раскрытия и зачинания новых эпох влекла его к себе революция. Своей изначальной глубинной сущностью она сильнее всего отвечала исконной потребности его души. В грохоте восстаний и крушении режимов, в катастрофические моменты господства хаоса на путях истории он прозревал в ней заветную сущность всемирных судеб человечества. Внезапно выступавшая из всех оков и скреп эта «злая жизнь с ее мятежным жаром» сметала пред ним все условные покровы обычных политических будней. И в огне этих вечных всплесков прометеевых возмущений перед ним обнажались до последних истоков глубочайшие подземные родники текущей истории.
В сокрушительных выступлениях раскованной народной стихии из всех воздвигнутых преград государственности, в диких стопах воспламененной истории он ловил желанный отзвук вечной тяге своей души к темной и грозной стихии, обтекающей мировую жизнь: в ропоте революционных эпох, как в завывании ночного ветра, Тютчев слышал родные голоса, поющие ему страшные и желанные песни «про древний хаос, про родимый…»
Вот почему этот ранний единомышленник Меттерниха не дрогнул перед зовом идущей революции. Он отважно вступил с ней в борьбу, в разгаре битвы разглядел лицо своего противника и, пораженный его грозным и величественным обликом, отбросил свое оружие и признал его власть. Nenikeas, o Gelaio! как бы слышится из тех тревожных строк о будущем Европы, которыми этот сподвижник государственного канцлера пророчески возвещает передовым разъездам человечества о крутом повороте и новых путях всемирной истории.
III
Революция ковала его государственную философию. В борьбе с мятежным духом новейшей истории строилось его политическое исповедание. В народных переворотах ему почудился какой-то гомеровский образ вероломства и кощунственной злобы. Из его политических меморий и докладных записок революция выступила страшной мстительной Девой,
Которая в мир чуть заметной приходит, а вскоре
Грозно идет по земле, в небеса головой упираясь.
С первых же своих шагов он должен был разрешить этот труднейший вопрос практической политики. В аудиториях Московского университета он мог еще беспечно восхищаться пушкинской одой «Вольности» против всех «самовластительных злодеев» и в ответ писать свои студенческие гимны о пламенеющем огне свободы и закоснелых тиранах. Но на такие события, как военные мятежи и восстания в Кадиксе, Лиссабоне, Неаполе и Пьемонте, на все эти еле замирающие или еще длящиеся в момент его поступления в Иностранную коллегию бунты, казни и междоусобия нужно было отвечать немедленно и категорически с мужеством государственного деятеля и непоколебимостью представителя великой державы.
События эпохи ставили вопрос остро и неуклонно. Время обязывало к быстрому и решительному ответу. Нужно было одним ударом сбросить этот нож с пути или упасть на него грудью.
За три года молодой мюнхенский дипломат вырабатывает свое политическое исповедание и оправдывает занятую позицию. Пока заговорщики разрушали инквизиционные тюрьмы, пока расстреливали масонов и карбонариев, пока при Миссолонги пал Байрон, а на Мадридской площади
Мятежный вождь Риэго был удавлен, —
Тютчев тщательно взвесил все pro и contra мучительной проблемы, и к моменту декабрьского бунта его позиция прочно установлена. Он не с Каннингом, страдающим за оскорбленную Испанию и молящимся о сохранении португальской конституции, он с Меттернихом, приготовляющим новый удар греческой гетерии. Он не с гвардейскими полками, поднимающими бунт в семеновских казармах, он с Александром, готовым послать русскую армию в пылающую военными бунтами Испанию.
Но каждая новая революция глубоко тревожит его, ставит в огонь испытания выработанную доктрину, преображает, углубляет и как бы наново обжигает ее. И только после февральской революции его философия прочно устанавливается и стройно кристаллизуется в тезисах его политических статей.
За это время он прошел через три цикла революций. Он начинал свою деятельность «средь бурь гражданских и тревоги», в беспорядочной суматохе восстаний и мятежей смутной эпохи Реставрации. Он принимался за распутывание дипломатического клубка в атмосфере междоусобий и правительственного террора, когда Сильвио Пеллико томился в моравских темницах, и даже афонские монахи брались за оружие. Назначенный младшим секретарем баварского посольства, Тютчев прибыл в Мюнхен как раз во время веронского конгресса, где Шатобриан призывал священные дружины к подавлению испанской вольницы.
Современность всячески обостряла трудность возникшей проблемы. Греческое восстание осложняло ее потрясающими ужасами хиосской резни и резко ставило перед историком вопрос: всегда ли власть от Бога, а революция от сатаны? Перед зрелищем разъяренных янычар, убивающих тысячами греческих повстанцев, перед бесконечными вереницами замученных, задавленных и зарезанных, трагически оттачивалась трудная задача оправдать эти каннибальские зверства султанской жандармерии догматом борьбы священной власти с безбожной революцией.
Но Тютчев рассекает с плеча этот гордиев узел. Как дипломат он весь в заветах священного союза: он за королей, за освященную веками власть, за скипетры и троны против чудовищной гидры якобинства.
Все революции его эпохи одинаково вызывают в нем чувство ужаса и возмущения. Он против восстания греков. События, вдохновившие Пушкина и погубившие Байрона, оставили его скептически недоброжелательным. «Целый народ (т. е. турок) выгнать трудно», сказал кому-то Тютчев в разгаре борьбы. Очевидно, как государь на веронском конгрессе, он усмотрел в волнениях Пелопонеса только гибельные признаки надвигающегося террора.
Он против декабристов. И на этот раз его возмущение напрягается до творческого гнева. Когда он узнает, что по пути следования сосланных в Сибирь толпа в Ярославле забросала их мокрой грязью, он приобщается к этому взрыву темной народной ненависти и бросает свою головню в костер Гуса. Он не прощает безумной отваги этим «жертвам мысли безрассудной», он оправдывает народ, поносящий их имена, и грозит им вечным забвением потомства. На вершинах русского творчества это единственное осуждение декабрьских мучеников, а на светлой ризе тютчевской музы – единственное теневое пятно.
Но вскоре возникает новый революционный цикл, подвергающий великому испытанию его философию. В смятении следит он за «великим заблуждением тридцатого года». Когда легендарный Лафайет гарцевал по парижским улицам, королевская гвардия подчинилась народным депутатам и молодой журналист Тьер, – тот самый, которому суждено будет через сорок лет волновать и восхищать Тютчева на его смертном одре, – отважно подписал прокламацию, требующую «несколько живых голов», в русском посольстве баварской столицы жадно следили за всеми фазисами парижской борьбы. И вместе со всеми дипломатами Европы Тютчев с чрезвычайной вдумчивостью должен был вчитываться в редкий документ, которым призванный Божьей милостью к власти монарх навсегда отказывался от престола за себя и за дофина.
И пораженный беспомощными попытками последнего Бурбона ухватиться за корону. Тютчев впервые раскрыл в революции ее глубокое духовное начало. В июльские дни он признал в ней новый культ и заговорил о целом революционном вероисповедании, связанном с общим историческим ходом философской и религиозной мысли на Западе.
И с обычным прозрением в надвигающиеся судьбы истории он немедленно же предсказал вступление Европы в последовательный ряд великих народных переворотов….
И, конечно, как все современники июльских дней, он был поражен международной заразительностью революций. Почему падение Карла вызвало восстание в Нидерландах, воспламенило население Болоньи и Модены, зажгло революцию в Германии и, наконец, отдалось братоубийственной войной там, за границами его родины, на берегах Вислы?
Кажется, не было в текущей политике событий, потрясших Тютчева сильнее польских мятежей. О глубокой моральной драме свидетельствуют его строфы, полные неуспокоенной скорби за принесенную страшную жертву. Защищая свершение того, что представлялось ему исторической необходимостью, он оплакивает роковой удар, нанесенный «горестной Варшаве», и не ликуя, а с отчаянием Агамемнона, несущего богам «дочь родную на заклание», обращается к истекающей кровью Польше:
– Ты пал, орел одноплеменный,
На очистительный костер!
И когда через тридцать лет над русской Польшей снова навис кошмар междоусобия, какими негодующими и горестными строфами Тютчев откликнулся на этот новый взрыв борьбы! В этих прерывистых, осекающихся и ниспадающих строках словно чувствуется жест руки, поднятой в порыве гнева и упавшей от отчаяния.
Сбылось его предсказание. Революционная эра действительно наступила. Когда в 1848 г. вся Европа запылала в одном сплошном пожаре восстаний, Тютчев изнемогал под тяжестью нахлынувших впечатлений. Друзья тревожатся и болеют за него. Он не перестает «кипеть и витийствовать», и все его нравственное существо возбуждено и подвигнуто до последней степени.
И сколько отчаяния и ужаса слышится в его строках: «Запад исчезает, все рушится, все гибнет в этом общем воспламенении: Европа Карла Великого и Европа 1815 г., римское папство и все западные королевства, католицизм и протестантизм, вера, уже давно утраченная, и разум, доведенный до бессмыслия, порядок, отныне немыслимый, свобода, отныне невозможная, и над всеми этими развалинами, ею же созданными, цивилизация, убивающая себя собственными руками…»
И вот тут, в огне событий, пока Париж покрывается баррикадами, Берлин оглашается перестрелкой, и сам Меттерних падает, сметенный волною всеевропейской революции, текущая хроника политических событий раскрывает Тютчеву далекие пути в минувшее и грядущее. В пожарном зареве 48-го года озарились перед ним таинственные судьбы европейской истории и раскрылся весь сокровенный смысл единой на протяжении веков сплошной и цельной драмы.
В поэте и дипломате проснулся политический писатель. Опыт своих долголетних раздумий и наблюдений он хочет отлить в большом всеобъемлющем труде о России и Западе. В немногих сохранившихся отрывках здесь раскрывается грандиозный план охвата единой историко-философской системой всех вопросов европейского будущего. Это целый Tractatus politicus, но только, как молитвенник, с крестом на переплете.
IV
В осколках хронологии он рассмотрел отражение единого трагического облика. Образ новой Европы раскрылся ему в искаженном напряжении внутренней борьбы. Вся история ее предстала перед ним в виде битвы двух стихий, двух вер – христианства и революции.
Крест и баррикада – вот формула его исторического исповедания. Распятие и нож мерещутся ему в борьбе трона и черни. Два великих исторических образа конкретно воплощали для него сущность этой философии и служили ему живыми символами этих враждующих стихий: в сумраке средневековья – создатель и могучий организатор христианской Европы Карл Великий, в бурях современности – венчанный воин революции Наполеон.
Образ Карла Великого был особенно дорог Тютчеву. Этот отважный разрушитель языческих капищ и благоговейный почитатель блаженного Августина служил ему высшим прототипом священной власти. Замечательно, что из всего Гюго Тютчев перевел только один отрывок, задевший в нем, по-видимому, какую-то живую струну. Это выхваченный из целой трагедии монолог Дон-Карлоса у аахенской гробницы:
Великий Карл, прости!..
Сей европейский мир, руки твоей созданье,
Как он велик сей мир!
Часто и подолгу живавший в Риме Тютчев, конечно, не раз останавливался в Ватикане перед знаменитой фреской Рафаэля, изображающей венчание Карла Великого. Таинственные судьбы западного мира раскрывались ему в этой праздничной роскоши красок и образов. Увенчанный митрой папа, в кругу кардиналов и рыцарей, готовый возложить зубчатую корону на чело коленопреклоненного Карла, – этот момент нарождения новой исторической эры среди сверканий и переливов парчи, шелков и ковровых тканей, пылающих шандалов и рыцарских доспехов как бы обнажал перед ним первоистоки императорской власти. В парадных палатах Ватикана главный тезис его исторической философии словно воочию воплощался перед ним, облачаясь в ризы и багряницы всех рафаэлевских великолепий.
Но на эти священные силы христианской империи поднимался мятежный дух новой истории. Революция убивала Карла Великого. Она сметала алтари и троны и утверждала свою власть на безграничном культе личного начала. Ее величайший апостол и выразитель трагически разыграл «на обломках империи Карла Великого пародию на империю Великого Карла».
Личностью Наполеона безбожные бунтарские силы истории бросили свою последнюю ставку в борьбе с Божественным началом державных судеб. Предопределенность в этой гибели сказалась в его мучительно раздвоенном облике, разорванном властью «двух демонов», двух яростных и хищных сил. Внутренняя борьба этого миропомазанника революции была ужаснее всех его битв и грознее его последних поражений. Самоубийственным закланием веет от всего его жизненного подвига:
Сын революции! Ты с матерью ужасной
Отважно в бой вступил и изнемог в борьбе:
Не одолел ее твой гений самовластный!..
Бой невозможный, труд напрасный:
Ты всю ее носил в самом себе!..
Этот «центавр, который одною половиной своего тела – революция», воплотил весь ее дух и смысл. «Он был земной, не Божий пламень»! Душа революции – безверие, лозунг ее – антихристианство. С Великой Французской революции началось разложение западного мира медленным погружением его в нравственную стихию безбожия. Она не была случайным взрывом, вызванным злоупотреблениями власти, но роковым фактом народного духа, обличающим оскудение веры.
Вот величайший ужас революционного действия в глазах Тютчева: обезбожение неба, обожествление человека человеком, возведение людской воли в нечто абсолютное и верховное, притязание заменить личным человеческим началом высшие силы, ведущие судьбы истории.
Он сравнивает революцию с духом тьмы, поражающим душу и тело верного Иова. Он не может простить ей этого похода на святыни, этой отмены религиозных ценностей, этого заглушения высших духовных стремлений. Революция для него прямое последствие отречения христианского общества от Христа. Она выражает полностью всю новейшую европейскую мысль со времени ее разрыва с церковью: апофеоз человеческого я, отпадение от религиозной соборности. «Церковь, – восклицает Карлейль, – какое слово! Оно богаче Голконды и сокровищ целого мира…» Это забывают вожди восстаний. Но Тютчев, мечтавший о единой церкви, обнимающей обе половины европейского мира, с ужасом видел занесенный над нею таран.








