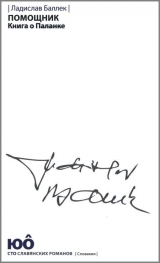
Текст книги "Помощник. Книга о Паланке"
Автор книги: Ладислав Баллек
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 28 страниц)
Конечно, затевались разговоры и на гражданские темы. Мяснику запомнилось одно такое утро. Он остановился перед воротами как раз в тот момент, когда к группе женщин подошел аптекарь Эуген Филадельфи, чахоточный алкаш, известная в городе личность и завсегдатай ресторана «Централ». До утра он пил и теперь боялся не столько жены с тещей, сколько неотвязных мыслей о близкой смерти – войти в квартиру и лечь в кровать ему было страшно, вот он и бродил до открытия своей аптеки по городу. Пожалуй, это был единственный паланчанин, который любил утренние очереди перед магазинами, – благодаря им он по крайней мере не чувствовал себя совсем одиноким. В это утро Филадельфи шел откуда-то со стороны парка – в последнее время он пристрастился в таком виде бродить вокруг дома, где жила молодая прачка Нела Лаукова. Молодая красивая девица совершенно лишила его покоя, он воспылал к ней такой любовью, какой может воспылать только тяжко больной и распутный мужчина. Она-то его и видеть не желала.
Филадельфи подошел и начал приставать к женщинам с разговором. Он не хотел их обидеть, он просто философствовал на их счет, и Речану запомнилось, что говорил аптекарь – трясущийся, жалкий, изнуренный: дескать, обе мировые войны выиграли женщины. Взрыв смеха, которым ответили ему женщины, не сбил аптекаря с толку, он продолжал развивать свою мысль. «Что стало с мужчиной? – вопрошал он. И сам отвечал: – Он стал дерьмом, жалкой марионеткой, существом без воли и характера; лишенный своих законных прав, мужчина разучился действовать на свой страх и риск».
Это было уже что-то поинтереснее для собравшихся, простых, по большей части бедных женщин, склонных восхищаться богатством, образованием и высоким положением в обществе, поэтому смех постепенно смолк. Аптекарь вдохновился их вниманием и разошелся еще пуще. «Две мировые войны, экономические кризисы, политика и засилье техники настолько дискредитировали мужчину, что из великого зодчего, охотника, первооткрывателя и властелина он выродился в такого засранца, которому на все плевать, так что пройдет немного времени, и женщины, чтобы возбудить его, должны будут превратиться в размалеванных потаскух».
Скоро, пророчествовал он, женщинам придется тосковать по обыкновенной мужской любви, а в мире не будет больше честного мужского слова, на котором некогда зиждились не только государства, учреждения, но и каждый порядочный дом.
Хотя и этого было вполне достаточно, чтобы совсем разбередить старые женские раны, аптекарь заявил, что дети, родившиеся в войну и сразу после войны, осиротеют рано и многие из молодых не будут даже знать, что такое достойная старость. По его мнению, у третьего поколения не будет бабушек, дедов, собак и кошек, ведь те старики, которые доживут, будут ни на что не годными, так как война превратила их в ничтожества. Только с приходом четвертого поколения можно будет сказать, что Вторая мировая война наконец закончилась!
Но все это волновало в городе тех, кто был победнее, у так называемого хорошего общества в Паланке были другие, более специфические заботы. Оно бешено богатело и больше всего любило насыщаться. Состоятельные люди ели и ели и всякий день наедались так, что на несколько часов теряли способность соображать, утрачивали предприимчивость, самоуверенность и самоуважение. Но, начав снова ощущать голод, они изыскивали возможности его утолить, как и полагалось состоятельным людям. А по вечерам? Ну, по вечерам они чувствовали себя прекрасно и блестяще употребляли свои способности в самых разных направлениях. А ночью? Ночь и тьма здесь очень сильно влияли на людей. После возлияний богачи и нувориши распоясывались вовсю. Тут уж давала себя знать другая сторона их личности, деформированная войной, темная, зловеще жестокая и сластолюбивая. Они развлекались кто во что горазд, кутили, развратничали, их манил грех, скандал, дикие прогулки в колясках и в автомобилях, а то и верхом, нравилась охота на девушек и зверей, драки, стрельба, визг, дикие оргии с цыганками… Потом наступало утро, свет, оживали краски – и приходило отрезвление, умиротворение, оздоровляющие прогулки, деловые и интеллектуальные разговоры, исповеди, раскаяние, обещания, добропорядочная жизнь с церковью, торговлей, работой, детьми, женами… и подчеркнутая вежливость… а через некоторое время снова дикий взрыв искусственно подавляемых желаний. О мужских кутежах ходили легенды, но и женщинам темперамента было не занимать, у женщин тоже были свои способы развлечений. Паланк – город веселый, если говорить о богачах, а ночь имела над ними особую власть, многие, даже и не самые богатые, ночью сбрасывали бремя забот и условностей своей дневной жизни, чопорной, аффектированной и респектабельной.
Паланк одинаково сильно и непрестанно, быстро и пагубно действовал на всех своих обывателей; проходили дни, и уже старые и новые паланчане становились похожими друг на друга. Город засасывал каждого, кто в нем оказывался, как бы он этому ни пытался противиться поначалу. Казалось, достаточно вам остановиться в этом городе, сойти с поезда, пройти квартал или улицу, пообедать в гостинице, посидеть в кафе, и у вас появлялось желание выражаться витиевато и напыщенно, хотелось быть респектабельным и уметь солидно молчать. И вы крепко-накрепко усваивали манеру изображать, что все можете выдержать, все узнать, что вас ничем не удивишь, что вы умеете ждать своего часа и если уж поставите себе какую-то цель, то обязательно добьетесь. Это если вы только новичок в городе. А если постоянный житель?
В Паланке, в этом старинном центре одной из южных столиц, в городе военном, сельскохозяйственном, торговом, ремесленном и чиновничьем, все эти сословия благодаря местоположению города имели большой вес и силу, и в горожанах настолько было развито самосознание, что, казалось, его излучали даже камни мостовых, даже старые стены, подстриженная зелень и ухоженные клумбы, статуи, вывески, названия кварталов, парков, зданий и улиц.
Действительно, стоило человеку пройтись по городу, и он превращался в хитреца с благородными манерами.
Типичный житель Паланка, города в национальном отношении необычайно пестрого, где соседствовали все нации старой монархии, равно как и потомки разнообразных ее наемников, отличался следующими особенностями: он был рассудителен, с ленцой, впрочем скорее показной, медлителен, амбициозен, солиден, умел обращаться с ножом и вилкой, ухаживать за дамами, знал, как вести себя в конторе, в кафе или в купальнях недалекого курорта, умел разбираться в людях, мгновенно соображал, с кем надо держать ухо востро и кого не принимать в расчет; из-за близкой и часто меняющейся границы паланчанин волей-неволей должен был более или менее разбираться в политике, у него вырабатывалась своя концепция жизни, он умел ждать, гнуть спину, трепетать, но в нужную минуту безжалостно ударить, у него были хорошо развиты способности к любому виду торговли, он мечтал разбогатеть, умел, если надо, отбросить принципы, проглотить обиды, но никогда не забывал их, понимал, куда не надо совать нос, думал только о себе, любил хорошо поесть, выпить, знал толк в вине и грехе, был надменным и самоуверенным, надменным, пожалуй, даже чересчур, был похотливым, как кот, но умел сдерживать себя, чрезвычайно берег свою репутацию, семью и детей, и при этом содержал любовниц… Одним словом, паланчанин умел многое, но знатоком жизни его делало прежде всего умение блюсти золотую середину: иметь все и ничего не терять, избегая чрезмерности, быть и не быть на глазах, чтобы о нем знали, но знали не все, чтобы не слишком возвышаться над толпой, но и не снижаться до среднего уровня. Таков подлинный паланчанин, таким он оставался, даже уехав отсюда, везде и всюду он знал, что должен вернуться назад, как возвратились почти все, кто до войны уехал из города. Одно слово – паланчанин! Он всегда бойко и быстро соображал, но у него никогда не оставалось времени думать основательнее о чем-то одном, так что он, собственно, никогда ничему безраздельно не отдавался. Все здесь были хитрыми, сметливыми, интеллигентными и талантливыми, во всяком случае, сами они в это верили, но возвышаться над общей массой люди остерегались, да у них на это и времени не было. В общем, здесь больше всего любили поесть и помечтать о жизни без забот. Мечтали и грезили довольно много, строили всевозможные планы, которым не суждено было сбыться, потому что в противном случае в погребках стало бы не о чем говорить, над чем плакать, грустить, рыдать, сетовать и рвать на себе волосы.
Таким был паланчанин, житель старого столичного города, пограничного не только по местоположению, затерянного в необъятных южных просторах, где-то у черта на куличках, среди полей кукурузы, табака, подсолнухов, арбузов, широких нив, гряд свеклы, помидоров, стручкового перца, среди лугов, акациевых лесов и рощ, в густой зелени садов, цветов, запахов, жары, высокого неба и облаков белой пыли, сочных фруктов и совсем особой грусти, навеваемой тяжелыми душными ветрами с усадеб, пыльных дорог, винокурен, от испарений медлительной, теплой, таинственной реки.
Тяжелая и душная атмосфера царила и над послевоенным Паланком.
Волент быстро и ловко рубил, резал, взвешивал и упаковывал мясо в вощеную бумагу, химическим карандашом, который был у него за ухом, чиркал на бумаге цену, подталкивал сверток к Речану и тут же переключался на следующего покупателя. При этом он непрерывно болтал, что, как он утверждал, отвлекало покупателей и позволяло лучше их надувать. Они не так внимательно следили, чтобы стрелка весов остановилась на месте, она регистрировала не только вес товара, но и резкий толчок; Волент не клал, а швырял мясо на весы. Он старался, хлопотал, создавая впечатление, что хочет каждого максимально быстро обслужить, так удивительно ли, что весы не могут остановиться? В конце концов, десять граммов туда, десять сюда. Покупателей это, может, и раздражало, но, поскольку уж он так старался, они не могли мелочиться. Что такое десять граммов туда, десять сюда? За месяц-то накапливались килограммы, а на черном рынке выручался такой куш, что он равнялся зарплате мелкого чиновника. Но до покупателей это не всегда доходило.
Речан брал свертки, выбивал чек, получал от покупателей талоны, которые дома по вечерам жена с дочерью наклеивали мучным клеем на большие листы бумаги, брал деньги, давал сдачу, вежливо благодарил за посещение его лавки и опускал свертки в их сумки. Он вел себя тихо, скромно, ему не требовалось даже сообщать людям сумму, раз ее показывала касса. Он крутил ручкой, касса издавала звонок, выталкивала выдвижной ящик с деньгами, и спереди в окошечке появлялись большие белые, слегка наклоненные квадратные цифры. У покупателей почти всегда талоны были отсчитаны и надрезаны, только изредка Речану приходилось протягивать руку за ножницами, чтобы самому состричь талоны с продовольственной карточки или дать на них сдачу.
В данный момент Ланчарич обслуживал барышню Кохову, служащую Государственного банка, плотную, уже махнувшую на себя рукой старую деву, которая что-то воротала нос от куска говядины, каковой и правда никак нельзя было причислить к лучшим. От этой светловолосой, располневшей пожилой барышни Воленту ничего не было нужно, и ее бледное, хотя еще красивое лицо его отнюдь не воодушевляло. Кохова работала в банке давно, казалось, она с незапамятных времен считает деньги всех режимов, из чего вытекало, что она аполитичная, педантичная и тихая. А раз у нее такая трезвая голова, то можно было заранее угадать, каков и темперамент. У Коховой на руках был старенький отец, бывший школьный надзиратель, так что старой деве жилось нелегко. О ней говорили так, как обычно говорят о старых девах покрасивее, что она, дескать, была недурна, да разборчива, и вспоминали ее роман с господином Гёнзёлем, владельцем кафе «Матра», который сбежал и от нее, и от своей жены Аранки с молоденькой официанткой в Париж.
Кохова брала мясо для двух соседок, старых женщин, из которых одна уже годы не вставала с постели, и тем не менее очередь всякий раз роптала, хотя все понимали, что барышня делает это из добрых побуждений. Волент все это знал, но никогда не упускал случая засомневаться в этом, при одобрительном поддакивании абсолютного большинства покупателей. Он любил поддеть барышню и часто так сбивал с толку, что она от растерянности начинала заикаться.
Недовольство Коховой пришлось ему кстати.
– Геть, милостивая барышня, провалиться мне на этом месте, если это не самый красивый кусочек мяса во всем Паланке!
Люди ждали какого-то замечания в адрес Коховой и потому с готовностью рассмеялись; старым девам жилось здесь нелегко.
Она ответила ему смиренно:
– Раз вы так утверждаете, пан Ланчарич…
– Да вы сами-то посмотрите, – лукаво кивнул он на очередь, – сколько народу сожалеет, что он не достался им… Милостивая барышня, – повысил он голос, – да с таким кусочком вы можете выйти даже на прогулку, так он подходит к вам! – В поднявшемся хохоте почти не было слышно его слов. – С таким вот фалатком[19]19
От венг. falat – кусок.
[Закрыть] мясца вас впустят даже в рай! – Это замечание слышали только те, кто стоял рядом; они просто скорчились от смеха. Стоявшие поодаль даже притихли от любопытства и начали шепотом переспрашивать, что там отмочил Волент, и, узнав, начинали покатываться от смеха, хотя чувствовали, что это уже не так остроумно, как насчет прогулки.
А Волент тем временем добавил ей мозговую кость, как будто все же чувствовал ответственность за суп Коховой.
Речан смотрел в окно витрины, куда-то повыше головы приказчика, жмурился от солнца, которое все ярче светило в лавку. Волент мигом подметил оттенок горечи в лице хозяина и сразу посерьезнел. Хозяин никогда не делал ему замечаний, но Волент нутром чувствовал, что тот не любит подобных шуток. Кто знал Ланчарича, тот, несомненно, удивлялся тому, что этот дерзкий, порой просто грубый мужик, которому было на все плевать, относится к своему мастеру с таким уважением. Вот и сейчас ему захотелось угодить Речану.
Приказчик посмотрел в сторону витрины, молча кивнул, вытер руки о белый фартук и поднял руку в знак того, что он на минутку делает перерыв. Прошел за прилавок и нажал выключатель вентилятора. Тот сразу же загудел. Потом Волент подошел к двери, чтобы опустить на окно витрины полосатую маркизу.
Люди притихли, угадав причину этой резкой перемены в поведении Волента, и начали с любопытством поглядывать на Речана.
Речан, тронутый этим, слегка покраснел, взял у Коховой талоны – маленькие бумажные квадратики, где в рамочке был напечатан вес, – положил их в коробку от ботинок фирмы Батя и с интересом взглянул на банкноту с портретом старика – первого чехословацкого президента[20]20
То есть Т. Г. Масарика.
[Закрыть], – такую новенькую, напечатанную будто сегодня утром, и почти засомневался в ее подлинности.
В это время Волент, вытаскивая из-за двери ручку от шторы, опять принялся за свое, но уже потише и добрее:
– Посмотрите, как огорчается барышня Тишлерова, что не ей достался этот кусочек мяса, а она-то уж не возьмет для своего ангела что попало…
Кохова, все еще пышущая румянцем, только надула губы и нарочито медленно укладывала свертки в зеленую сумку с круглыми костяными ручками. Кивком поблагодарила Речана за мясо, он в ответ поклонился ей тоже и поблагодарил. Она тихо сгребла сдачу, положила в красное портмоне и нерешительно повернулась лицом к очереди, стараясь сохранить солидность, и тут же почувствовала облегчение – все смотрели в сторону двери, где стояла высокая худощавая женщина в шляпе и хорошо сшитом коричневом костюме. Это была Гертруда Тишлерова. Она делала вид, что замечание Волента ее не касается и смотрела через круглые очки холодно и не мигая.
Даже Речан немного высунулся из-за кассы, чтобы получше рассмотреть ее. Вошедшая держала в руках сумку, сплетенную из грубой конопляной бечевки, и показалась ему чересчур высокой. Ее длинное, почти мужское лицо, решительное и интеллигентное, безобразили бородавки. Одета Тишлерова была до педантизма опрятно, пористое, запудренное лицо выдавало, что она привыкла не жалеть пудры. Ее считали чудачкой, она жила одна, в городке появилась недавно, и люди не могли взять в толк, для чего она морочит им головы россказнями о каком-то «падшем ангеле», которого, мол, должна кормить. Все считали этого «падшего ангела» нелепым рекламным трюком этой, впрочем, вполне искусной дамской портнихи.
В первый же раз, подойдя к прилавку, она прямо заявила, что ей надо мясо на двоих. Тишлерова после многих лет отсутствия вернулась в пустой родительский дом, и Речан предположил, что она не знает здешних порядков. Он терпеливо объяснил ситуацию со снабжением, которое не позволяет ему продавать больше мяса, чем положено. Она крутила головой и настаивала на своем, но он не желал вызвать недовольство очереди и не соглашался. В тот день он торговал вместе с женой, Волент был по своим делам в районном центре. Тишлерова гневно хмурилась, а когда Речанова резко и энергично поддержала мужа, дамская портниха так вызывающе оглядела ее, что у жены мясника вспыхнули красные пятна. Это кое-что значило – Речанову было не очень легко смутить. Но тут она притихла, как воды в рот набрала.
– Извините, пожалуйста, – торопливо сказал Речан, – для кого еще вы хотите взять мяса, когда все, – он показал на очередь, – утверждают, что вы живете одна?
Портниха ответила веско:
– Я должна кормить падшего ангела, который прилетел ко мне.
– А что он у вас делает? – спросил кто-то сзади, заикаясь от изумления.
– Спит, – сказала она спокойно и даже не оглянулась.
Речан не нашел, что ответить, и чуть не отрезал себе пальцы ножом. Воспоминание об этом разговоре до сих пор его беспокоило.
– Геть… что, как там живет-может ваш ангелок? Ась? Летает? Или все боженьке молится? – спрашивал Волент весело, пробираясь через дверь на улицу.
– Так, значит. Так чего уж, молится и, наверное, раскаивается… Кается, раз упал, – объяснила она ему сдержанно, глубоким голосом, и никто даже не улыбнулся, как будто в этом было что-то зловещее.
– Ц-ц-ц! – процедил Волент недоверчиво. – Геть, кишасонька[21]21
От венг. kisasszony – барышня.
[Закрыть], этот ваш ангелок, что же, все бездельничает, палец о палец не ударит? Его бы сюда к нам на бойню, геть, здесь бы ему пришлось потрудиться… иштенем – боже ты мой, Волент, и что бы тебе не родиться ангелочком?! Отдайте его, милая барышня, к нам на бойню, пусть хоть раз в Паланке ангелок будет гентешом – мясником, значит, чтобы люди не говорили, что добрый гентеш водит дружбу с чертом…
– У него такие нежные ручки, – не задумываясь, холодно отозвалась Тишлерова, – и он может порезать свои мягонькие пальчики. Ангелы, пан Ланчарич, как вам должно быть известно, ножами не орудуют, поросяток и коровок не убивают. Как это ангел будет резать поросят и коровок. Сами посудите! Да вы недавно уже спрашивали меня уже об этом…
– Чего… а-а-а-а!.. Кому вы это говорите, милостивая, я разве не знаю, что ангелы носят саблю? Огненный такой струмент. И служат жандармами на небесах? Провалиться мне на этом месте, если этот ваш не удрал оттуда… – Он показал на небо… – Или, может, вы держите его под кроватью? – Он подмигнул ей и продолжал: – Ну что ж, пусть молится и кается, а то ведь свои-то схватят его, ух ты – только перья полетят!.. Голову даю на отсечение! Пусть уж ему Бог поможет, если эти, – снова показал он вверх… – офицеры узнают, что он тут внизу спит, там ведь тоже за дезертирство сажают на цугундер. За такое здесь по головке не гладят, такого не терпит ни один режим, чтобы парни заместо армии, да под кроватью… того… чаварговать – бродяжничать то есть, – как… – Голос его затих за стеной, но он и там продолжал весело разглагольствовать. Вероятно, он делал это нарочно, задетый тем, что людей не слишком забавляет его болтовня.
Он подошел к витрине, посмотрел внутрь, подмигнул Речану, помахал кому-то на улице, засунул ручку в зубчатый механизм и медленно опустил желто-красную полосатую маркизу. Внутри немного потемнело, свет стал желтоватый, приветливый. Люди спокойнее оглядывались вокруг, на некоторое время воцарилась тишина, потом послышались более оживленные голоса, как будто все заново знакомились друг с другом.
– Чего-нибудь да выкинул, – сказал Волент, вернувшись, убрал ручку и не торопясь прошел за прилавок.
– Так почему же вы так решили? – спросила Тишлерова безразличным тоном.
– Чего-нибудь да выкинул, – убежденно повторил Ланчарич, – раз задал стрекача и прилетел сюда вниз к барышне…
– Прошу вас, – быстро сказал Речан, повернувшись к хрупкой светловолосой женщине в черном траурном платке, которая от печали и недоедания просто тонула в темно-коричневом, плохо перекрашенном пальто. Женщина, до сих пор отрешенно смотревшая перед собой, оживилась и открыла рот, чтобы что-то сказать, но ее прервал глубокий голос Тишлеровой. Женщина так и осталась стоять с полуоткрытым ртом, словно бы ее кто-то одернул.
– Навряд ли что-нибудь такое, за что его стали бы искать ангелы небесные. Если бы так было, они уже давно бы нашли его. Я думаю, что он, – объяснила она с серьезным видом, – один из тех ангелов-хранителей, что забыли свои обязанности. Кто-то плыл в Америку, упал с корабля и утонул в той большой воде, в море. Ангел-хранитель не выполнил свой долг. Вот ему и стыдно показаться на небе. Я думаю, что это было так; человек, которого он охранял, ехал отсюда в Америку и упал в воду… А ангел здесь – в назиданье другим, чтобы они лучше выполняли свои обязанности, и вы тоже, не так ли, пан Ланчарич?
Волент уперся концом ножа в каменную доску прилавка и хотел уже сказать что-нибудь резкое, но Речан стремительно повернулся к маленькой женщине в трауре, повторив свой вопрос, приказчик тут же опомнился, довольный, что его перебили. Он вздохнул и энергично принялся за работу. На Тишлерову он больше не взглянул, даже тогда, когда подошла ее очередь. Он выдал ей столько мяса, сколько положено на одного, и на этот раз она не возражала.
Довольно долго приказчик держался более приветливо и занимался только работой, лишь время от времени отпуская шутку, чтобы в лавке не было слишком тихо и скучно. Когда хотел, он умел быть вежливым и милым, почти по-мальчишески сердечным и предупредительным.
Он встрепенулся, когда в лавку вошел пожилой мужчина. Волент сразу заметил его, настолько он возвышался над всеми. Спереди над толпой белел его тяжелый, по-стариковски отвислый подбородок, а когда он повернулся – высоко выбритый затылок. Еще в дверях он снял со стриженной ежиком головы венгерское кепи с длинным козырьком, вытер носовым платком лоб, а потом седые волосы, короткие и жесткие, как проволока. Шея у него была могучая, верхняя пуговица поношенной гимнастерки не застегивалась. На нем были военные галифе и тяжелые солдатские ботинки, зашнурованные бечевкой.
Это был Пали Карфф, бывший полицейский. Одно ухо у него было изуродовано, и он им не слышал. Люди знали, что Пали Карфф коллекционирует почтовые марки, предпочитая треугольные экзотические марки колоний, вроде Французской Экваториальной Африки, с пальмами, тиграми, жирафами и прочей живностью. Их красочность отвечала его вкусу, одурманивала его душу и явно отупевший мозг; а экзотические звери в свою очередь соответствовали его хвастливому характеру. Он уже порядком свихнулся и позже действительно кончил в «белом доме», как в те времена называли сумасшедшие дома. Кто знает, правда это или нет, но в Паланке говорили, что такой вот дом, выкрашенный в белый цвет, стоял когда-то в городе Нитре, куда с незапамятных времен паланчане увозили своих сумасшедших. И как всегда бывает, свидетели этому были, да только померли. Душевных болезней люди тогда стыдились больше, чем вшей и чесотки.
Половина города знала о бывшей профессии Карффа и военной карьере двух его сыновей. Болезнь его проявлялась обычно так: стоило ему завести с кем-то разговор, как он начинал всячески поносить марки венгерской королевской и германской почты. Если такие марки попадались ему под руку (а случалось такое часто, ведь тогда их было довольно много), он сладострастно сжигал их, всякий раз приглашая кого-нибудь в свидетели.
У Волента Ланчарича со стариком были старые счеты. Он терпеть не мог Карффа. Как только он увидел в дверях его сильную и в то же время какую-то угловатую фигуру, глаза у него прямо-таки засияли. Он проглотил слюну, зажмурился, сосредоточиваясь. Речан, заметив это, начал переступать с ноги на ногу, чтобы как-то обратить внимание приказчика на то, что ему будет неприятен любой выпад против покупателя, но Волент не обратил на это внимания.
Начал он, конечно, с марок, которых не любил полицейский, и кончил политикой.
– Вы бы Пали-бачи[22]22
Дядя (венг.).
[Закрыть], вот как Бог свят, так не говорили, если бы все по-другому обернулось! Вы бы во все горло, до хрипоты, хвалили Миклоша-бачи[23]23
То есть Миклоша Хорти, фашистского диктатора Венгрии в 1920–1944 гг.
[Закрыть] и Адольфа-бачи[24]24
То есть Адольфа Гитлера.
[Закрыть]. Я-то знаю, что говорю. А сегодня вы говорите так потому, что эта парочка получила под зад коленом, раньше-то вы пели по-другому, я ведь хорошо помню.
– Я? Ну что ты, Волентко, – говорил Карфф ласково, по-стариковски доверительно, желая вызвать сочувствие. Ведь он и приходил-то сюда отчасти из-за этого. Жил он на другом конце города, возле казарм, по дороге сюда, на Торговую улицу, проходил мимо трех мясных лавок, потому что любил ходить именно сюда. Ведь только Волент расспрашивал его о том, о чем ему страстно хотелось поговорить. Здесь ворошили его прошлое, и он мог его объяснить.
– Ты никак не мог слышать, чтобы я говорил такое, – продолжал он, – ей-богу, нет, Волентко. Ты ведь, наверно, помнишь, голова-то у тебя не дырявая, я ведь давно это говорю, я ведь первый здесь сказал, что будет плохо. Но я, сам знаешь, не мог особенно рисковать. Я должен был помалкивать, потому что мой двоюродный братец, бедолага Калман, большевик, сидел в толонхазе[25]25
Толонхаза – пересыльная тюрьма (венг.).
[Закрыть]… Что я мог? Если ты, сынок, государственный служащий, то должен быть правоверным, а то тебя в момент выгонят, и можешь идти пасти овец. Но ведь, – старик вдруг оживился и счастливо улыбнулся, – когда я однажды был в мозиба – в кино, где показывали тот самый парад, и увидел, как маршируют молодые венгры, то сразу сказал: мальчики, дела плохи, вы идете на убой, на бойню почище, чем были балканские войны и та, Первая мировая, где пришлось воевать мне. Я сразу понял, что их гонят на смерть: все они были крепкие, откормленные, какими бывают солдаты первого призыва, которых посылают на убой. Я сразу понял, что дело швах, войны не миновать, – это точно, я тогда сразу понял, что земля снова требует мяса молодых парней, что ей уже не хватает витаминов. Разве я был не прав? Сколько их погибло? Святый Боже, сколько же их погибло!
– А я вот помню, – прервал его Волент, ловко точивший нож, который у него так и мелькал в руках, – вы, Пали-бачи, всегда расхваливали тех, других… что адмирал, мол, голова, клевый мужик, рука у него крепкая, голодранцам воли не дает… Или вы, может, этого не говорили?
– Я, мальчик мой, имел в виду таких, как Салаши[26]26
Салаши, Ференц (1897–1946) – лидер фашистской партии «Скрещенные стрелы»; в октябре 1944 г. на не освобожденной от фашистов территории Венгрии объявил себя «вождем нации», в 1946 г. казнен как военный преступник.
[Закрыть].
– Нет, Пали-бачи, вы подразумевали бедняков и кричали, чтобы все позабыли, как вы здесь после первой войны завели шашни с красными, превозносили Белу-бачи[27]27
Имеется в виду Бела Кун (1886–1939) – деятель венгерского и международного рабочего движения. Основатель Венгерской компартии.
[Закрыть], дескать, он отхватил столько земли для венгров и мировой революции. Да, да, Карфф-бачи, все здесь хорошо помнят, что вы были с красными, что вы снюхались с ними в плену в России. Ну, так или нет, скажите?
– А-ха-ха! – хихикнул Карфф. – Ты это, Волентко, говоришь только для разговора, я ведь тебя знаю, ты всегда был большой плут. – Он вытер носовым платком мясистое лицо и деланно рассмеялся.
– Геть, – возразил Ланчарич, – теперь я для вас Волентко и плут, но, когда перед «Централом» вы влепили мне по морде за то, что я заикнулся в защиту тех, которым после Комарно пришлось драпать из Паланка, в ту пору я был для вас вонючий хорват Волент.
– Тогда ты был помоложе, – быстро сказал Карфф.
Люди засмеялись его увертке, но кое-кого этот разговор тяготил, ведь многие желали, чтобы старые грехи были забыты.
– Вы восхваляли адмирала и того, с усиками: дескать, далеко пойдут, потому что делают в своих странах что хотят, – кивнул головой Волент и нахмурился.
– Да нет, – спокойнее возразил Карфф, – если я что и говорил, так это то, что ефрейтор, мол, может пойти дальше комиссаров, что у ефрейтора храбрости больше. Я помогал себе, служба заставляла. Я ошибался, тут ты прав, но кому я навредил? А знаешь, почему я дал тебе оплеуху? Нет? Я для того дал тебе оплеуху, Волентко, чтобы не тащить в жандармерию, хотя, конечно, Кохари тебя бы вызволил, ты был его правой рукой.
Волент медленно поднял голову и закрыл глаза. Речан заметил, что приказчика слегка передернуло и он покраснел.
Карфф не унимался:
– А помнишь, что я сказал однажды в корчме у Белы Мадьяра? Ты там был. Ну, вспомни-ка? Ты там был, ты пил со всеми… Я сказал тогда, что, если немети пойдут против русских, им придется пожалеть. Геть, так оно и вышло, я был там, знаю, какая там зимища, я прямо заявил тогда, что русский не сдастся, генерал Мороз бил и таких, что были почище этих немети, ведь я как раз за несколько дней перед этим разговаривал с теми, которые здесь еще оставались… Русские, говорил я им, не сдрейфили даже перед Наполеоном. – «Да, да», – говорят мне, головами кивают, значит, я прав. Я так говорил, помнишь, Волентко, – продолжал бывший полицейский более убежденно и громко, – говорил, что немети плохо кончат. Когда я в первую войну попал в плен, я прожил год у одной… ну, что я болтаю! У одного крестьянина… – (К его радости, очередь прыснула.) – И потом, уже в лагерях, когда мы по утрам выбегали, извиняюсь за выражение, пописать, геть, прошу прощения, в снегу получалась палочка… желтая, кривая… – он захохотал… – палочка значит. Вот, я и сказал, – он посерьезнел, – что немети выбегут утром, извиняюсь за выражение, пописать, да? А потом подкрадется русский, посчитает палочки в снегу и сразу будет знать, сколько там солдат.
– Как же, как же, вы не верили! – раздраженно заявил Волент. – Только не верили в то, что они получат по шее.
– Ты прав, – весело ответил Карфф, – не верил, конечно, не верил, что по шее получит русский, так-то вот.
– Ой ли? – сказал приказчик иронически.
– Конечно, – ответил бывший полицейский, но как-то с опаской, и тревожно посмотрел на Волента.
– А когда пошли ваши мальчики, Нанды и Адам, воевать, вы что, изменили свое мнение, а?!
– Об этом, пожалуйста, Волентко, не надо… – тихо прошелестел Карфф.
– Почему же вы допустили, чтобы ваши мальчики пошли в армию даже раньше срока, ведь вы, Пали-бачи, говорят, даже в Будапешт ездили просить, чтобы их взяли в кадетский корпус…








