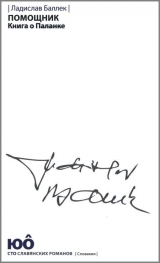
Текст книги "Помощник. Книга о Паланке"
Автор книги: Ладислав Баллек
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 26 (всего у книги 28 страниц)
– Дома? – спросила Эва.
– Тогда я не волнуюсь, – ответил он.
– А здесь волнуетесь? – спросила Эва громче, потому что перед этим ей пришлось прокашляться.
– Перед слушателем я волнуюсь, – сказал Куки важно, – и это естественно. Некоторые музыканты говорят, что, если человек не волнуется, он по-настоящему не сыграет.
Она покачала головой – может быть, догадалась, что он, собственно, пришел разыграть ее, – медленно повернулась на каблуке и шагнула к барьеру террасы, вдоль которого тянулись вьющиеся растения. Она остановилась под веткой дерева, листья которого в свете лампы приглушенно светились, и стала смотреть в сад. Куки что-то колебался, может быть, хотел встать, но передумал и с издевательским видом начал наигрывать известную «Песнь любви» композитора Сука.
Эва облокотилась о барьер. Минуту стояла, несчастно и потерянно глядя на лампу.
– И это вы играете ей? – сказала она вполголоса, когда он кончил.
– Кому? – спросил он.
Эва не ответила, а только ниже склонила голову.
– Как вы узнали?
– Скажите лучше, как ее зовут?
– Клара.
– Вы ее любите?
– Да, – ответил Куки и ухмыльнулся.
– Какая она?
– Красивая, как вы, Эвичка, только очень злая, – рассмеялся он.
Эва недоуменно покачала головой.
– Она совсем не заслуживает этого, – возразил Куки патетически.
– Говорите, вы ее любите… хотя она и не заслуживает этого? – сказала Эва горько. – Почему же любите… того, кто не заслуживает? Вы… – Она вздохнула и опять беспомощно покачала головой. – Ведь красивые люди не должны любить нехороших… Что она может в таком случае дать вам?
– Вы сомневаетесь, есть ли что-то хорошее в такой любви, не так ли? – иронизировал Куки.
Эва кивнула в знак согласия, сложила руки и крепко их сжала.
– Да, есть, – заявил он важно. – Я думал, она не может уничтожить меня. Думал, я достаточно сильный, чтобы не поддаться ей, что она не причинит мне зла, а только еще больше предаст меня музыке. Эту связь я пестовал, как каприз. Но я не знал, что она такая темная, еще темнее, чем я… Я думал, не существует более порочного мира, чем вот этот паланкский, не существует более порочного человека, чем я, но я ошибался… существует и более порочный мир, и даже более порочные люди, чем я. Видите, я говорю так откровенно, что мой отец даже утверждает, что я не в своем уме.
– Она красивая, и все же такая испорченная?
– Такая… как весь этот послевоенный мир, – горько улыбнулся он. – Она говорит, что может быть какой угодно скверной, но от этого красоты у нее не убавится, потому что красоты у нее – в избытке. Она называет себя демоном. Ничто ее не волнует, она живет как ей вздумается.
– Гм, – вздохнула Эва, – как же вы в таком случае можете…
– Могу… Она такая испорченная, что даже я рядом с нею благородный и честный, – иронизировал Куки над вздохами Эвы – Она делает то, чего я не посмел бы. Наверно, это в ней и притягивает меня. Но многие музыканты, в том числе и самые великие, любили порочных женщин. Они больше всего вдохновляли их своей страстностью и необузданностью…
Куки начал с напускной задумчивостью ходить по террасе. Потом молча подошел к роялю и попробовал подтолкнуть его к двери. Эва тут же прыгнула, чтобы помочь ему. Куки бросил рояль и вернулся к лампе, словно она притягивала его, как ночных насекомых.
– Я никогда не забуду вас, Эва, – сообщил он девушке. – Я очень любил ходить к вам.
С трагическим видом он подошел к барьеру террасы, проворно перепрыгнул его, потом было слышно, как он идет по саду, насвистывая, перелезает через забор и спрыгивает на тротуар.
Эва все это время стояла не двигаясь, потом автоматически двинулась к двери, медленно вернулась к лампе, механическим движением подняла ее и унесла в комнату. Потом заперла дверь и через минуту потушила свет. Вскоре потемнели и окна ее спальни.
Речан подождал, не произойдет ли еще чего-нибудь. То, что дочь ушла в свою комнату, его успокоило. Он боялся, что она будет ходить по дому. Он спустился в кухню и до утра проворочался без сна, все прислушиваясь, не пойдет ли дочь с отчаяния в ванную, где лежит его бритва. Он не мог дождаться утра. В ту ночь, хотя отчаяние не давало ему спать, он решил наконец кое-что предпринять.
Речан ходил по двору, держась за лацканы пальто, и от волнения хромал. Он думал о том, что снова натворил. Вчера набрался мужества, зашел к Воленту и попросил, чтобы тот взял его с собой в северную Словакию. Волент сделал вид, что просьба мастера его не удивила, и, поразмыслив, сказал, что ладно, мол, он в дороге ему для чего-то там пригодится. К тому же раз ему так сильно хочется…
Речан поблагодарил, ему и в голову не приходило, что это так неловко. Волент держался самоуверенно, смотрел на просящего с таким превосходством, что, будь на месте Речана другой, он бы сквозь землю провалился.
Мясник подошел к карликовым сливам и оперся на одну из них – так сильно скручивало его волнение.
У него онемели ноги, он сел на землю, поднял уже спокойнее козырек картуза, выпрямил ноги и пошарил в кармане брюк, ища табак. Медленно, раздумчиво скрутил сигарету. Затянулся, задержал дыхание, прошел языком по верхней губе и медленно выдохнул. Это насилие над собственными легкими доставляло ему удовольствие. Дым у него выходил изо рта и носа, поднимался вверх и растворялся в воздухе, словно уходил куда-то на табачные поля за Паланком. Весной они расцветут цветом, алым, как поставленная против огня человеческая ладонь, как открытая рана или рассеченная кость. Ах, этот цвет! Розовый, острый, как коготь хищника, безжалостный, неизменный, душащий, скулящий, как пес. Паланкские поля розового цветущего табака! Бесконечные, сочные, жадные, берущие цвет из ядов земли, светящиеся, не знающие ни любви, ни сострадания. Из года в год, каждой весной, и всегда цвета рассеченной человеческой плоти!
Речан прислушивался, не идет ли Волент. Ученик Цыги, черный увертливый парнишка, сейчас лежал в больнице после операции аппендицита. Как же он испугался, что и этот мальчишка у него пропадет! Только этого ему не хватало! Не было дня, чтобы он не забегал в больницу справиться, не ухудшилось ли его состояние.
Он услышал крадущиеся шаги за воротами. Кто-то постоял перед ними, потоптался на месте, попробовал нажать ручку, потом толкнул левую створку. Мокрую поверхность подворотни осветили скупые солнечные лучи. Внутрь заглянула дочь, но, заметив его, исчезла.
Он поднял беспомощно плечи и нерешительно покачал головой. С тех пор как ее посетил Куки, Эва потеряла интерес ко всему и все время сидела дома.
Они ехали на север и молчали. Речан смущенно смотрел в окно на осенний пейзаж, опустевший и голый, а Волент ел хлеб с колбасой, запивая чаем из термоса; ему, мол, некогда было дома пообедать, столько дел. Вид у него был довольный, самоуверенный, он не вертелся в кабине, как Речан.
Проезжая деревню, они остановились перед шлагбаумом, пропуская пассажирский поезд со стареньким паровозом – тем самым, что когда-то привез сюда Речана. Он смотрел, как приближается паровозик, и, прикрыв глаза, слушал ритмические удары небольшого станционного колокола. И вдруг спокойно открыл дверцу кабины и с невозмутимым видом выпрыгнул на шоссе, подлез под шлагбаум, чем вызвал недовольство пожилого железнодорожника с красным флажком, но не обратил на это внимания. Состав остановился. Речан вошел в последний вагон и сел. Когда поезд тронулся, Речан вышел в тамбур. Облокотился о железные перила и с каменным лицом смотрел на удаляющийся железнодорожный переезд. Машина с Волентом переехала его и помчалась вниз по деревне на север.
Кондуктор не появился, так что Речану не пришлось объяснять, почему он едет без билета.
Из поезда он направился в привокзальный ресторан и заказал пиво. Сидел, попивая пиво, впервые в паланкском ресторане и курил вплоть до наступления темноты, словно ничто в мире его больше не касалось. Потом отправился на бойню. С момента, когда покинул кабину машины, до самого прихода к своей мясной он был словно во сне.
Перед воротами что-то его взволновало, скорее всего, какой-то тайный замысел, о котором он знал заранее и просто старался не думать. Он открыл ворота, вошел, запер их и направился прямо к забору, где Ланчарич прятал ключи от своей квартиры. Открыл комнату, зажег свет. Он что-то предчувствовал, и сердце билось у него где-то в горле.
Комната была убрана, кровать заботливо застелена, ковры чистые, везде непривычный порядок. Минуту в беспокойстве постоял, потом подошел к шкафу, открыл и тут же нашел, что искал, точнее, что думал увидеть здесь. Между костюмами Волента висел женский купальный халат с цветочками, внизу, среди ботинок, сияли красные туфельки. Волей-неволей ему пришлось признать, что халат и туфли принадлежат его жене. Как в лихорадке, он поднял подушку на кровати приказчика. Под ней лежало старое полотенце жены. И, чтобы уж гибель была полной, чтобы уже ни в чем не сомневаться, заглянул в тумбочку. В первом ящике стояли почти полностью использованные баночки с кремом и косметика, во втором – несколько ночных рубашек, тоже ему хорошо знакомых.
Закрыл дверь, запер, ключ положил на место и пошел через двор бойни в сад, кое-как дотащился до скамейки и лег на нее лицом вниз.
Около полуночи его разбудил холод. Он направился домой, брел еле-еле вдоль стен и заборов, ведь спешить ему было уже незачем.
Ворота дома были заперты. Перед ними стояли три легковые машины, одна из которых принадлежала жене. Из дома слышались звуки проигрывателя и пенье: «Ах, клен, клен зеленый…»
Значит, в доме веселье, подумал он мельком, перелез через забор и приблизился к самым окнам гостиной. Через щель в занавесках увидел танцующие пары. Сначала внимание его привлекла красивая молодая женщина в красном, которая перегибалась от смеха. Это была жена Винтиера Люборецкого, оптового торговца скобяными товарами. С ней, подпрыгивая, танцевал коренастый офицер в расстегнутой рубашке, в галифе и франтовских мягких сапогах. Вокруг его жены, держа ее за талию, вертелся стройный невысокий офицер с усиками. Оба были красные, пели, раскачивая головами и работая ногами. Все пары, как он мог заключить, были изрядно пьяными. Их было пять, мужчины – в форме, но мясник, как только заметил, что у жены сзади на платье расстегнута молния, так, что было видно до самого ее зада, начал судорожно высматривать, принимает ли участие в этом веселье его дочь. Долго не мог найти, но наконец увидел и ее. Речан понял, что мешает ему разглядеть хорошенько эти пьяные пары и полуголых женщин – ее плечо, которое закрывало часть щели. Она стояла, облокотившись на окно, но была не одна, так как на плече у нее интимно лежала мужская рука.
Он, пятясь, отступил, споткнулся о корень дерева и свалился на зад. Проворно вскочил, стряхнул пыль со штанов и отправился на кухню. Зажег свет, запер дверь, чтобы никто не вошел, вынул из ящика кухонного шкафа самый длинный нож и брусок, поплевал на него и механически стал точить. Он начнет с жены, чтобы не размякнуть, потом примется за дочь. Нет, сказал он себе, надо как раз наоборот – начать с дочери, чтобы сердце ожесточилось, а потом уж прикончить жену. Офицеров он оставит под конец. Он знал, что дает им шанс сбежать, но иначе не мог.
Он сбросил пальто, снял шапку, потушил свет и босиком прокрался к двери.
Сейчас он тихо откроет дверь, войдет в спальню, услышит крик, пение и топот, почувствует запах лаванды, одеял, ковров, мягкой мебели. В темноте будет светиться богатство, которое окружает его женщин. Голоса он различит хорошо, ведь его будет отделять от них только высокая белая дверь с позолоченной ручкой. Он услышит жену и дочь, они громко поют. Они пьяные.
У него вспухли глаза, онемело тело, на него давит будущая смерть, он уже видит остывающие тела, разбрызганную кровь, предсмертный пот, испражнения… Ему хочется закричать, чтобы предупредить их, он сходит с ума, открывает рот, ему нечем дышать, он бы и крикнул, но они там, в глубине дома, ничего не услышат, он движется в темноте, хоть бы споткнулся о что-нибудь… И действительно спотыкается. Падает на ковер, но вдруг успокаивается, что все так легко и просто, меняет направление ножа, целя себе прямо в пах. Падает, почти счастливый, рука уже выбрала направление. Падает на нож, вопит от боли, а еще больше от отчаяния. Стонет, сползая на пол, скоро наступит конец. Его обнаружит одна из пар, которая зайдет сюда, и поднимет тревогу. Утром по нему зазвонит колокол, а на третий день его вынесут из дому и похоронят у каменной ограды паланкского кладбища.
Дверей Речан не открыл, внутрь не вошел, после страшного видения о своем конце он совсем очнулся. Собственно говоря, ничего похожего он сделать и не собирался, в худшем случае вошел бы туда с ножом в руке и разогнал бы всю эту разнузданную компанию.
Он постоял у двери, повернулся и в сердцах запустил ножом в кухонную дверь. Зажег свет, вошел в переднюю, открыл гардероб и вынул из него пакет с одеждой, которую ему год назад купила жена, приволокся на кухню, разделся, сложил старую одежду на диван, надел костюм из дорогого материала, почти совсем не смятый, обулся в полуботинки, завязал галстук, надел зимнее пальто и шляпу.
Запер дом и через забор выбрался на улицу. Его прыжок с забора, с виду решительный, был неудачным – он приземлился на пятки. Беспощадная тупая боль, которая на секунду овладела его телом, только умножила в нем тоску безнадежности, унизительное чувство стыда и полной тщеты.
Оглушенный, он смотрел перед собой и боялся двинуться, так как довольно долго не был уверен, что сможет встать на ноги.
У ворот стояли легковые авто, привезшие сюда всех этих веселых гостей, который, несомненно, уже давно привыкли запросто наведываться в его дом. Три машины стояли в доверительной близости деревьев, их вымытые черные кузова сияли под кронами каштанов темным блеском, отражая слабое сияние уличных фонарей, почти полностью поглощаемое листьями деревьев. Лампочки под белыми эмалированными колпаками освещали на небольшом пространстве расточительные, пестрые краски осенних листьев могучих деревьев, главным образом кленов и каштанов, создавая иллюзию крикливо пестрых лампионов, развешанных над узкими каменными тротуарами по обеим сторонам улицы.
Ночные улицы Паланка, прежде всего вокруг парков, каждый год поздней осенью приобретали вот такой выразительный восточный оттенок, дикий и угнетающий, но незабываемый, напоминающий чем-то ностальгию майских или летних танцевальных вечеров и балов в больших садах и парках.
В машинах под деревьями вызывающе флюоресцировала красная кожа сидений, хромированные циферблаты больших спидометров и тикающих часов. Стекла окон были чистые, мощные двигатели в продолговатых капотах уже остыли, от них исходил запах холодного лака, шин, вонь от масла и бензина. Машины стояли, но все же вроде бы не отдыхали: их форма, приборы, педали, рычаги, двигатель, фары, прекрасные шины, багажник, колеса и их отпечатки в дорожной пыли свидетельствовали о том, что они готовы снова рвануться в дорогу.
Через слабо освещенную Парковую улицу, пустынную и тихую, временами пролетал порыв резкого ветра и приносил с собой последние запахи лета, позабытого в стволах деревьев, листьях и в созревших фруктах. Из особняка доносились звуки, значит, необузданное веселье все нарастало. В конце улицы шагал запоздавший прохожий. Он спешил домой, ступая по шуршащим листьям.
Лето кончилось.
12
После полуночи Речан сел в поезд. Он решил уехать домой, к матери и брату, чтобы посоветоваться с ними и привезти с собой в Паланк. Мать, как он грозился с отчаяния, должна будет взять под свой контроль дом, жену и в первую очередь дочь Эву, младший брат Яно займется торговыми делами, так что помощник Волент Ланчарич окажется не нужен.
Вскорости после того, как он заперся в пустом купе, поезд тронулся по линии, захолустной и забытой, более всего ассоциирующейся с крушением людских надежд, как одинокие тополя или вышедшие из строя вагоны в тупике, красные от ржавчины, с вырванными досками. Ночь была неприветливая, туманная и ветреная, поезд ехал мимо станций с маленькими почерневшими вокзальчиками под липами, акациями или каштанами. Их освещал блеклый, мигающий, желтоватый и близорукий свет керосиновых ламп, который, казалось, был в вечном споре с ветром, так же как пар, деревья или дым. До рассвета поезд должен был прибыть в Зволен, перед ним была дорога в кромешной тьме, частые остановки и звон станционных колокольчиков.
Перед отходом поезда мимо окон прошел дежурный по станции, он направлялся к паровозу и держал в руках фонарь, излучающий свет, зеленый, как вода. Был он в длинной шинели, высокий, худой и вскоре остался позади, смотря на хвостовые фонари поезда. Так разлучались лоцманы, воздухоплаватели и несчастливо влюбленные кадеты. Большинство дежурных по станции на этой линии быстро тучнеют и преждевременно седеют от тоскливой службы.
Зеленые вагоны, освещенные синими ночниками, вызывающими у многих пассажиров досаду, двинулись к стрелке, минуя грузовую платформу, приземистые строения станционных складов, части разъединенного состава и мигающие огоньки, и, проехав через переплетение рельсов, погрузились в темноту. За окнами потянулись фруктовые сады и последние жилые дома на дороге к верхней таможне, свежепобеленное здание которой в темноте напоминало маяк. Дорогу к ней, посыпанную мелким гравием, окаймляли черешни, с которых слетали красные листья. Вдоль освещенного здания таможни проходила государственная граница. Минуло больше года после войны, но здесь все еще чувствовался какой-то тяжелый воздух, так что у людей, живущих в непосредственной близости, по ночам появлялось ощущение, что они спят на наклонной плоскости, и где-то в подсознании их сверлила боязнь, что в самый неподходящий момент они начнут скользить и скатятся в чужую клумбу самых хрупких, нежных и редких цветов.
Между железной дорогой и Паланком ширилась полоса темных полей. За железнодорожным переездом город скрылся из виду, пропал в темноте.
В купе Речана вошел проводник с фонарем. Он оценил его одежду и ловким маневром, который, очевидно, любил пускать в ход, так как был молодой и самоуверенный, почти в один прием проверил его билет и закомпостировал его. Он осмотрел купе, повернулся на каблуках, ретировался в коридорчик, сообщив, что на курорте вчера был пожар, и закрыл за собой дверь. Мясник встал, расставив ноги, и свернул себе сигарету. У него задергалось веко, он слегка потер его, глубоко втягивая в легкие большие глотки дыма, и, казалось, смотрел на огни паровоза, которые преломлялись на каждом препятствии около линии, чаще всего на деревьях, сгибающихся под напорами все более дикого ветра. Речан докурил, опустил окошко, выбросил окурок, минуту нервно проветривал купе, потом поднял окно и быстро сел. Как только он ощутил на лице доверительное прикосновение зимнего пальто, его отпустило. С широко раскрытыми глазами, вспотевший и бледный, он ждал, что вот-вот разрыдается, но ему это не удалось. На мгновение почувствовал парализующую тоску, напоминающую вспышку метеорита, потом заснул.
Он очнулся в момент, когда состав прорывался сквозь узкую долину. Железнодорожная линия в ней теснилась вместе с дорогой и несколькими разбросанными домишками за речкой. От близкого леса над линией отражался шум, гудение и непрестанный стон паровоза. Он устало посмотрел в окно. Из соседних купе доносился громкий храп.
Речан неловко встал, потянулся, подошел к окну, щурясь и протирая свои сухие глаза. Вскоре долина стала шире. За следующим поворотом появился освещенный город. Над ним в редеющей темноте и клубах дыма высился замок и торчало несколько высоких труб.
Поезд въезжал в вокзал города Зволена, словно ища самый удобопроходимый путь среди длинных освещенных составов и огромных тел пышущих паровозов. Наконец юркнул между вторым и четвертым путями. Из соседних составов выходили продрогшие люди, все типичные пассажиры третьего класса, женщины и мужчины из недалеких деревень, и никого из дальнего мира, откуда, как кажется, приезжают все паровозы и рассвеченные окнами вагоны.
Толпа валила в старое здание вокзала. Утро было холодное, зябли пальцы, ветер раскачивал лампы и деревянные цветочные горшки, висящие на цепочках, в которых летом цвели анютины глазки и герани. Дым паровоза жался к земле. Раздался резкий свист, за пассажирскими составами послышалось глухое ух, лязгнули цепи, буфера, задрожала земля. Вдоль ближнего паровоза шел машинист с фонарем и длинной масленкой, за ним следовал кочегар, что-то объясняя ему и шаря по карманам короткими ловкими руками.
Когда немного рассвело, Речан сел в поезд на Баньску Быстрицу. Вагон, в который он вошел, был некупированный, занятый людьми по большей части в национальной одежде. В задымленном пространстве и желтоватом электрическом свете этих старых вагонов мелькали сигареты, желчные, осунувшиеся лица и невыразительные глаза, в которых не было ничего мирного, нежного или отталкивающего. Они принадлежали горцам – людям, которых чужой не оценит. Они разговаривали громко, обстоятельно, помогая себе жестами, запястья у них были обмотаны ремешками, и в том, как они держались, скрывались франтовство, суеверие и преклонение перед силой. Одежда людей была пропитана запахами утреннего тумана, дешевого табака, смолы, пота, железа и грубой пищи. Они ехали на разгрузку дров на станциях (из рюкзаков, сшитых из военного брезента, торчали топорища и рукоятки двухручных ножовок), на погронские лесопилки, в каменоломни, на стройки и на рынок в город.
Рядом с мясником сидели две старые женщины, похожие друг на друга как две капли воды. Они ехали на рынок. Перебирали четки и шептали утреннюю молитву. Они были, несомненно, близнецами, и казалось, будто каждая из них сидит перед большим зеркалом. На противоположной скамейке расположился корзинщик из Хайник с мальчиком в суконных штанах, коротком кожушке и старомодной, некогда черной, потертой барашковой шапке. Отец обнимал сына за плечи, видно, не мог взять в толк, как ему держаться – заносчиво или застенчиво, и из-под широкой скаутской шляпы внимательно оглядывал зимнее пальто Речана с меховым воротником. Оно ему явно нравилось. Сам он был одет в длиннополую шинель, оказалось, что у него нет левой ноги. Позже, когда он разговорился со старухами, сказал, что потерял ногу во время Восстания. После ранения в Кремницких горах его увезли на санитарной телеге в госпиталь. По дороге телега наехала на мину, лошадей, возчика и сестру убило, тяжело ранило лежащего с ним рядом солдата, а ему оторвало левую ногу. Он рассказывал, радуясь, что есть слушатели, но, как только сын его покраснел, а старухи в смущении опустили глаза, стих. Видно, раньше он был здоров как бык и все еще не мог этого забыть. Они с сыном жили плетением корзин. Речан слушал его историю, заглядевшись на зарю за окном. От Грона и лугов по обеим сторонам железной дороги поднимался редкий туман. Время от времени мясник поглядывал на мальчика, в ясных глазах которого проглядывала решимость. Только отец его кончил говорить, как он начал абсолютно точно подражать свисту дрозда. У женщин с четками захватило дух, они начали радостно улыбаться и стали похожи на старушек, которые присматривают за стайкой маленьких внучат. Вагон постепенно затихал, серьезные с виду мужики начали изумленно озираться, вставать со скамей и тесниться поближе к свистуну. Когда до них доходило, откуда исходит пение дрозда, добродушно хватались за головы и бесшабашно хохотали. У старушки, сидевшей напротив мальчика, соскользнули на пол четки, отчего ее сестра сконфузилась больше, чем она сама. Мальчика, разумеется, одолел смех, он прыснул, сорвал барашковую шапку с головы и закрыл ею лицо. Его отец скалил зубы, хватался за живот и начал показывать пальцем на мальчика, чтобы обратить внимание и на себя. Вдруг он сильно оттолкнулся от скамьи, вспрыгнул на свою единственную ногу и уже собирался дернуть ручку стоп-крана, но передумал, сел и быстро, чтобы скрыть собственное смятение, вынул из кармана жестяную коробку с сигаретами.
Речан вышел только на главном вокзале. Он помог одноногому хайничанину сойти с поезда и, купив у него небольшую корзину, ушел с платформы. На узкой размытой дороге за вокзалом, разъезженной и грязной от ночного ливня, Речан остановился и огляделся.
Ветер рябил лужи, по краям мостовой чернела жидкая грязь, неподалеку стояла телега, устланная перинами, немного дальше была запаркована небольшая машина с мокрым брезентовым верхом. Над Баньской Быстрицей висели тяжелые тучи, осенняя безотрадность и гнетущая печаль раннего утра. В сыром воздухе пахло дегтем, мокрым углем, мокрым пеплом, дымом, запахом дерева и опилок. На погрузочно-разгрузочных путях с вагона на железную платформу упал тяжелый ствол, в недалекой мастерской по обработке камня с натугой разбежалась пила для резки камня, похожие звуки доносились и из-за мутного и стремительного Грона. Поля зияли пустотой, по железнодорожной линии недалеко от спичечной фабрики на станцию подъехала дрезина и через минуту исчезла за зданиями складов. Вниз по дороге от верхней казармы спускался закрытый военный грузовик, маленькая «эрэнка».
Речан подвернул штаны и осторожно, чтобы не запачкать грязью полуботинки, направился в город.
Некоторое время он постоял возле чумного столпа и снова с любопытством осмотрелся. Моросил мелкий дождь, люди шли в плащах и под зонтами, спеша по своим утренним делам, чаще всего на рынок и в магазины. Тучи над городом поднимались выше, разрывались и пропускали все больше света, крыши домов уже заметно начинали поблескивать, но в тупиках около стен все еще стояли синеватые сумерки. В магазинах горел свет и манил прохожих осмотреть свой пестрый, уютный и прогретый теплом печей мир.
После долгого отсутствия он опять любовался прелестно расположенными домами, костелами и башнями исторической площади, построенной словно с мыслью о вечной жизни, драгоценном времени и золотом пороге. В эти городские дома он никогда не входил, знал разве кварталы на Мичинской улице, Тросках или Углиске, эти склады человеческого жилья, в которые город упрятывал на ночь своих рабов в соответствии с нравом двадцатого века, который лучшие ангары предоставлял технике – дорогостоящим вещам.
Речан наконец размялся и пошел в продовольственный магазин Мейнла, что был поблизости. В хорошо и практично обставленном магазинчике, где его обслужил рыжий, запоминающейся внешности парень, он купил водку, шоколад и сладости; у Кемов – два платка для матери и большой отрез на платье и блузку, потом направился к дому Беницкого, где в подвале был магазин игрушек Леви. Там он выбрал для племянников деревянных лошадок с тележками, племянницам тряпичные куклы и, нагруженный полной корзиной и пакетами, заглянул на рынок. Ему было интересно, как там корзинщик и его сын. Они завтракали. Отец опирался об одолженную двуколку, мальчик стоял перед ним, жадно откусывая хлеб и размахивая руками.
Мясник свернул в узкую улочку, миновал старую городскую ратушу и вышел на Серебряную площадь. Позади остались простота рынка, доверительная близость стен, окон и ворот, все то тесное пространство с запахом глубоких и непроветриваемых дворов и агрессивными ароматами бедных кухонь. За Харманецким ручьем он прибавил шаг. Из корчмы, что за мужской гимназией, выходил возчик и немного нетвердым шагом направлялся к своей упряжке. Речану повезло, он встретил знакомого – младшего Капусту из Тайова. Они хорошо знали друг друга, вместе были призваны в армию, им было о чем потолковать. Дорога, которая за Подлавицами отлого поднималась среди лесов вплоть до их родного села, убегала незаметно. Телега тащилась в гору то через лес, то по открытой дороге, а они двое, Капуста и Речан, все говорили и говорили и никак не могли нарадоваться нежданной встрече.
Погода прояснилась, потеплело, а лошади все тянули их через леса вверх, в горы.
А в Паланке наступил обычный осенний день. Речанова проснулась раньше, но встала с постели только после десяти, когда ее раздразнили запахи из кухни. До тех пор она ворочалась в кровати – у нее болели все кости. Ночью она досыта напрыгалась, как следует выпила, к тому же ее кавалер после ухода остальных гостей вернулся к ней в спальню, так как она об этом соответствующим образом намекнула ему.
Вдоволь наворочавшись под периной, она встала, надела халат, отворила окна и пошла посмотреть на дочь. У порога ее спальни сунула руку под коврик, куда ночью спрятала ключ, тихо открыла дверь и некоторое время всматривалась в полумрак. Эва спала без движения, с волосами, прилипшими к вспотевшему лицу. Видно, ее мучили кошмары, перина у нее соскользнула на пол, и, глядя на ее тело, мать увидела вдруг, что дочь превратилась в молодую женщину. В спальне был тяжелый воздух, который выдавал увлечение Эвы резкими духами, а также то, что она ночью пила. Когда Эва выпила лишнего, чем тут же воспользовался старший лейтенант Ходак, рослый красавец из артиллеристов, мать вывела ее из гостиной, толкнула в спальню и заперла на ключ.
Мать прикрыла дверь и по коридорчику прошла на кухню. Служанка вертелась вокруг плиты и, увидев ее, вскрикнула. Речанова сердито посмотрела на нее, как, мол, она встречает хозяйку, но служанка показала на разбитую дверь, брусок, нож и кучку одежды Речана на диване.
Речанова остолбенела. Ее прошиб озноб, она догадалась, что Речан наблюдал их веселье, и, когда она представила себе это, ей расхотелось завтракать. Она вышла из кухни, на лестнице еще больше побледнела, но взяла себя в руки и отправилась в сад, где тщательно осмотрела каждое дерево и куст. С бьющимся сердцем заглянула в прачечную, потом, держась за горло и готовая закричать, осмотрела подвал и все пространство вокруг дома. Вернулась в комнату, открыла все шкафы, посмотрела даже под кроватью. Наконец, вооруженная карманным фонарем, решилась подняться на чердак. Перед железной дверью на чердак она почти бессознательно вооружилась железным ломиком на случай, если муж жив, но сошел с ума. На чердаке было не так темно, как она ожидала, окошко в крыше пропускало достаточно света, чтобы в темноте она не споткнулась о тело мужа. Она все же посветила фонариком во все углы. Вниз она спускалась, уже успокоенная. Когда открыла гардероб в передней и осмотрела его, тихо и с глубоким облегчением рассмеялась.
Потом пошла к дочери и сообщила ей новость: отец бросил их – скорее всего, уехал домой. Он, как она предполагала, явился ночью – видно, у них испортилась машина, – увидел их в гостиной в обществе стольких мужчин, переоделся и убрался домой к своей мамаше. Эва вытянулась под периной, прикрылась ею до подбородка, покраснела, отвернулась и уставилась в угол. Мать это рассмешило, она медленно повернулась, закрыла дверь и ушла в ванную. Приняв ванну, она плотно позавтракала, с необычной сердечностью болтая со служанкой. Когда она одевалась, то несколько раз невольно хлопала в ладони, что все ей так удается. Посмотрела в окно, порадовалась хорошей погоде и пошла пешком в город.








