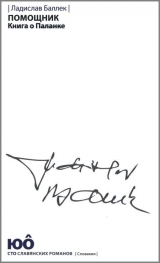
Текст книги "Помощник. Книга о Паланке"
Автор книги: Ладислав Баллек
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 18 (всего у книги 28 страниц)
Откуда его изгнали? Кто? Если бы он знал!
В нем жило чувство глубокого разочарования. Ребенком он был не особенно ловким, да и не слишком сообразительным, развивался медленно и еще медленнее становился взрослым. Сначала и физически был слабее своих сверстников, часто болел, потому что никто о нем не заботился, он всегда ощущал, что его никто не любит, что для всех он обуза.
Вопреки всем обидам он привязался к супругам Кохари. Его очень страшил сиротский дом, вот он и обрадовался, что они взяли его к себе. Сначала он привязался к жене мастера, которая как бы заменила ему мать. Постепенно он усваивал ее представления о мире, о том, что хорошо и что плохо. Он принял ее радости и ее страхи. Он понимал мир так же, как она, пел и говорил то, что слышал от нее. Она определяла ритм жизни этого дома, вот он и стремился быть похожим на нее и во всем старался ей угодить. Из благодарности и от страха, что она его не заметит, бывало, ужасно ревновал ее к сыну, когда она погладит того по голове. Этого мальчишку он готов был сжить со света, но никогда этого не показывал, потому что ей нравилось, когда они были в дружбе. Временами он становился раздражительным, вспыльчивым, неуправляемым, хитрым и расчетливым, как она сама. Тайного мира мужчин он не знал. Кохари вообще им не занимался, пока, к своему удивлению, не заметил, что у него ловкие руки и редкостные способности к счету и торговле.
Часто Воленту казалось, что картина той утраченной страны намного реальнее и достовернее, чем его повседневное бытие. Покинула ли его душа эту страну? Покинула ли ее вообще? Не осталась ли она там, а в этот мир он шагнул только ногами, руками, животом, глазами, носом… Но что-то в этой стране он оставил, недаром здесь все время ему чего-то недостает. Может, это его земное странствование – просто-напросто кошмар, который ему снится там?
При виде раскинувшихся виноградников он чувствовал счастье и удовлетворение.
Способ, которым чета Кохари воспитывала его, оказывал свое действие. Конечно, они воспитывали его для себя, то есть прямолинейно и жестоко. А он был, к несчастью, чувствительный ребенок. По понятным причинам жена мастера в первую очередь воспитывала в нем воздержанность, покорность, скромность, аскетизм. Он должен был быть набожным и безответным. Но как только он стал взрослеть, в нем зародились бунт и анархия. И с тех пор в нем противоборствовало природное и воспитанное, страстное мужское стремление к смелой и драматической жизни соседствовало со странной неуверенностью, гонор с запуганностью, чувственность с самоограничением, голод по женщине с неспособностью или даже страхом перед жизнью с одной женщиной, которая проникла бы в его тайный мир. Он умел быть чересчур самостоятельным, но жить один боялся. В нем сидел страх, что его откуда-то выдворят, выгонят, не оценят. Он чувствовал себя уверенным только тогда, когда у него за спиной были люди, которых интересовала его судьба. Поэтому он боялся потерять Речана. И страстно желал его жену.
Близился вечер, но жара все не спадала. Внизу, у излучины реки, остановилась группа женщин, возвращающихся с полей. Это все были крепкие, крупные, белотелые женщины, как бы без лиц и рук, загоревших на жарком южном солнце дочерна уже с ранней весны. Раздевались они за деревьями и кустами. С дороги их видно не было, но отсюда – сверху – они были как на ладони. Женщины оголялись без стеснения, не спеша, обнажая крепкие ноги, широкие животы и полные груди… словно под покровом темноты. Их освобождала от стыда не только изнуряющая жара, тяжелая работа, ежедневное взаимное общение, но и странная сила этой земли, манящий запах сена, кустарника, травы и ленивой теплой реки. В воду они входили не торопясь, покорно, держась только за горло, чтобы не закричать от блаженства. Другой рукой заслоняли себе глаза и от заходящего солнца, отсветы которого сверкали на спокойной глади, и от предчувствия жаркой южной ночи, а река в тени густой, непроницаемой зелени трав, кустарника и деревьев, там, где на ее поверхности просвечивали длинные белые тела, была темной и чудесно зеленела.
Он смотрел на эти белые женские тела, медленно погружающиеся в воду, с тоской и жадностью, словно на нечто олицетворяющее его мечты – об успехе, богатстве, размахе, плодотворности, надежности и прочности. В этом образе как бы скрывался основной смысл его жизни.
Господи, как притягивает его эта река.
Каждый раз он чувствовал, что никогда не мог бы ее покинуть.
Любой, кто однажды увидел ее, уже никогда не забывал: она текла в нескончаемых лугах и, как все южные реки, таила в себе непостижимое очарование.
После гроз и дождей она становилась мутной, зловеще темной. Но никогда не ускоряла своего течения, а только раскидывалась вширь. Те, кто ее не знал, считали реку ленивой. После дождей она густела, распространяла даже на другой конец Паланка запах темной земли, трав, акациевых лесов, в которых петляли ее рукава, запахи всех деревень, которые она омывала. Это была самая извилистая река, какую вы когда-либо могли увидеть. Красивее всего она выделялась среди песчаных берегов и в спокойной тени ив. Самая медлительная и самая предательская река, как сам мир южан. Ежегодно весной и осенью она заливала тысячи гектаров земли, так что из деревни в деревню люди переправлялись на лодках, а то и вообще не могли добраться. Часто, словно по капризу, она меняла свое дно, делая все новые омуты и намывая новые мели, но никогда не изменяла своему первоначальному руслу. У нее была своя тайная жизнь, которую вы напрасно пытались бы понять.
Сразу за прибрежным лугом начиналось предместье Паланка с железнодорожным вокзалом. Там заканчивали свой путь поезда. Дальше уже была таможня и государственная граница. (А за ней – навсегда прощай, как говорил аптекарь Филадельфи, который интересовался не только прошлым, но и настоящим, не только политикой, но и лордом Байроном.) Паровозы прямо за вокзалом въезжали на большой поворотный круг, чтобы, развернувшись, возвратиться в глубь страны. Пути, проложенные еще во времена монархии, вели вниз, к морю. С вокзала часто раздавались жалобные гудки, тоскливые, дикие, навевающие печаль. Иногда там стояли и роскошные паровозы, готовые двинуться в дальний мир, бурно извергающие дым, искры, сдавленные стоны и горячий пар. О таких машинах можно было много чего думать. Они как живые: то прямо рвались с рельс, то изнемогали. И в человеческом теле есть множество прыгающих рычажков, винтиков, шарниров, свой поршень, и огонь и вода, такие же свистящие дырки, трубки, трубочки, заботы и намерения. Человек тоже мечтает тащить за собой свой дом и в нем своих пассажиров.
Жестокая река, это уж точно! Каждый год она заманивает в свои воды детей, не проходит ни одного лета, чтобы она не взяла с города свою дань за то, что кормит его рыбой, питает луга и сады, поля и скот из усадеб, с двух сторон омывает город, дарует свежесть не одной тысяче жителей во время адской жары. По меньшей мере дважды в году выходит из берегов и заливает нижние улицы Паланка. Украдкой, коварно, ночью, с тихим, наводящим ужас шумом. Среди сна людей будят грохот, визг и стоны. Вода уже подступила к кроватям, а на темном, вздувшемся теле реки покачиваются кастрюли и всякая утварь. Река уже успела переместить ковры, утопить птицу, довела до одичания свиней. Пришла как всегда неслышно, черная, вышла из берегов, зашумела в садах, вторглась в хлевы и человеческое жилье. На нижних улицах с вечера до утра люди могли кататься на лодках. А то и на коньках, если река приходила в третий раз – в начале зимы или в результате оттепели. Улицы и луга превращались тогда в огромный каток. Многие деревенские ребята зимой ездили в городскую школу на коньках.
Осенью же безбрежное озеро, которое она делала из лугов, приманивало стаи диких гусей. Тогда наступала пора большой охоты на лодках. При более сильных паводках она срывала целые хлевы со свиньями и птицей, уносила лошадей и коров. Внизу, под мостом, пожарники поджидали несчастных кур, гусей, уток, визжащих поросят, лошадей или коров. Однажды выловили полумертвую женщину. Она мчалась вниз по течению на своих вздувшихся семидесяти семи юбках, как на надувной подушке. От страха она потеряла сознанье, в остальном судьба оказалась к ней милостивой.
Так река безобразничала испокон веков, но люди с нижних улиц не переселялись в другое место. Отчего? Чужие не могли этого понять и приписывали врожденной лени и флегматичности южан, живущих у воды. Но нет, это было скорей почтительное, благодарное отношение человека юга к воде, возле которой всю остающуюся часть года ему живется хорошо. Она была доброй и действительно приятной во время изнурительной жары, изобиловала рыбой, по ней можно было ездить на лодке, купаться в ней, стирать, ее вода питала фруктовые сады и огороды, которые кормили людей.
В свое время героем реки ежегодно становился Саламон. Он жил за бродом, откуда сейчас тащилась огромная цистерна, которую тянули четыре черных буйвола. Белый дом Саламона, поросший диким виноградом, был расположен на самом низком месте и первым оказывался под водой. Но отставной офицер майор кавалерии Эрнест Саламон никогда не сбегал из него. Маленький, похожий скорее на Мальчика-с-Пальчика из сказки, чем на офицера императорской и королевской армии, он почти не слезал с лошади. Ездил на ней по городу, в костел, на почту – словом, всюду. И тщетно вода заливала ему сад, подвал, поднималась иногда до самых окон, он не бросал своего дома. Упорно сражался со стихией, как с неприятелем, которого она ему, несомненно, заменяла. Когда начиналось наводнение, он выносил мебель на чердак, жену, гончих собак и лошадь отправлял к знакомым, готовил лодку, на которой, если нужно, смело пускался в плавание, и ждал. Ждал, какая будет вода – обычная или такая, что бывает раз в десять или, храни Господь, в сто лет. В этом была чертовская разница. Обычно он отсиживался на чердаке, готовый каждому помочь, осматривал в бинокль окрестности и сжимал между ног штуцер, потому что знал, что стихия и беззащитность затопленных притягивают воров. Он держался всегда храбро, никогда не отступал, при более спокойной воде спасал тонущих животных, иной раз было и так, что приканчивал их. К мужчинам относился свысока, не удостаивал разговором, ведь любым из них он мог когда-то командовать. Любил только детей, вернее, маленьких мальчиков, будущих солдат. И так как любил хотя бы их, то все остальное ему прощалось. Маленьких мальчиков Паланк почитал за маленьких божков, которых называли здесь детьми. Маленькие существа в Паланке строго делились на детей и маленьких девочек. Люди, конечно, любили и маленьких девочек, но они были всего только «маленькими девочками».
Майор не всегда бывал таким уж серьезным, в саду за домом он любил играть с мальчиками в солдаты. Осенью они вместе собирали фрукты, сжигали на большом костре опавший лист и ботву и после каждой «войны» ловили в реке рыбу. Он мастерски потрошил ее и жарил на вертеле, научившись этому искусству на Балканах, где прослужил долгие годы. Несколько лет назад история с одним из этих маленьких сорванцов оказалась для него роковой. Мальчонка на самодельной лодке попал в водоворот и начал тонуть. Майор спас его из бурного течения, выплыв с ним только под мостами, простудился и вскоре умер от двустороннего воспаления легких. Тогда паланчане действительно простили ему все грехи, даже те, которые он никогда не совершал, но они-то думали, что грехов у него было множество и его было за что прощать.
Волент Ланчарич стоял и смотрел на вечерний город. Последние лучи заходящего солнца освещали бронзовую голову вечного юноши на здании гимназии. Он торчал, как мачта затонувшего корабля. Мчался вдаль с какой-то тайной миссией, цель которой была известна ему одному. Он бежал в мир.
Паланк гордился своей гимназией, она украшала его, скрывая не только темные стены старой тюрьмы и зловещего столичного управления, но и самую незначительность города, его скуку, консервативность, тщеславие, жестокость, вероломство, сомнительный блеск и подлинную нищету. Город отличался особой южной красотой, но был в то же время захолустным и совсем заурядным. Не для собственных обывателей, конечно, и не для Волента Ланчарича. В его представлении он был прославленный, столичный, богатый. Ему, как и всем типичным паланчанам, была свойственна жажда значительности, присущей чиновникам, и званий, обладателями которых были в свою очередь люди в форме. Столичное управление не давало никому спокойно спать, оно было символом власти и важности, именно такой, о какой в этом городе все мечтали.
Здесь жили чрезвычайно спесивые люди. Ланчарич мечтал, что сумеет когда-нибудь жить с ними как равный, но сам ненавидел их из-за этой же спеси. В крови у всех, и в его тоже, дремала старая, темная и безумная королевская Венгрия, которая презирала неблагородных и несостоятельных. Здесь считалось неприличным заговорить с бедным нечиновным человеком и не считалось зазорным дать ему по физиономии, обмануть его, облаять, соблазнить его жену, унижать на каждом шагу. Бедняк здесь не имел цены, он испытал это на собственной шкуре. Поэтому он – Ланчарич – должен что-то значить в этом городе! Но и разбогатевший здесь, он знал это прекрасно, не имел особой цены, если не приспосабливался к барскому образу жизни тамошней знати. Такое отношение к простым людям здесь было столь распространено, что коренной паланчанин никогда не осознавал его как нечто недозволенное и чудовищное. Даже потом, когда времена изменились, паланчанину надо было иметь очень доброе сердце, чтобы отказаться от подобного взгляда.
Город лежал, укрытый в зелени, расцвеченной огоньками. Под ними кишмя кишел муравейник. Весь город лихорадочно комбинировал, бурно дышал, вращая своими полоумными глазами.
Из щелей вылезали пауки. Каждый перед ними почтительно отступал, глядя на них как на маленькие существа, которые возникли из крошек и кусков разбросанной материи, из которой Творец создавал будущий человеческий мозг. Из-под густой освещенной зелени Воленту Ланчаричу слышался грохот колясок, стук подков, шум больших черных автомобилей, музыка из ресторанов, парков и садов. Русло реки светилось. Оно отделяло мир людей от мира лягушек, пресмыкающихся, комаров, сверчков, кузнечиков и прочей живности.
Даже здесь, наверху, Ланчарич чувствовал запах пыли, соломы, сена, хлеба, кукурузы, муки, отрубей, сирени, акаций, жасмина, роз, лип, фруктов, каштанов… Он чуял огонь, дым, перец, пряности, вино, винокурни, землю, лошадей, коров, усадьбы, арбузы, вокзал, мельницы, зелень, сухие стены города, дух пекарен, воды, но главное – запах сирени, белой, голубой, фиолетовой.
Он слышал голоса, поднимающиеся снизу, из-под зелени и сияния предвечернего времени, в высокое темнеющее небо. Он не мог отличить голоса женщин от голосов мужчин, голоса старых людей от молодых, умных от глупых… все сливалось в один гул, людской гул его любимого вечернего Паланка, и Волент внимал ему. Он поднимался, как стон тяжелой, раскаленной машины.
Огоньки на реке создавали впечатление парохода, скользящего по опасным водам.
В город, казалось, прилетали последние голуби.
И спустилась ночь, город утихал, но не переставал бодрствовать, только дышал осторожнее, чем города в глубине страны. Он лежал на демаркационной линии. Он не мог опомниться от ужасов, которые пережил. Он помнил каждый из них. И тот, который врывался некогда из недалекой турецкой крепости, где сейчас раскинулся большой акациевый лес. Из того пограничного «паланка», как турки называли свои деревянные крепости, по ночам к городу мчались те пресловутые всадники, чтобы поджечь водяные мельницы на реке и ровно в полночь загрохотать в городские ворота: БУМ! БУМ! БУМ! Волент Ланчарич спускался с «голгофы». Он чувствовал огромную решимость захватить этот город, отсюда, с высоты, он бросал ему свой вызов. Спускался с крутого косогора, чувствуя прилив невероятной силы и дикой энергии осуществить свой замысел.
Но как только он дошел до дому и свалился в кровать, им совсем неожиданно овладели те мысли, от которых он упорно бежал, его охватили совсем другие мечты, чем те, которым он предавался. Он с радостью снова выскользнул бы из дому и опять принялся бы убеждать себя, какой он молодец. Но сделать этого уже было нельзя.
– Мать его! – отвел он душу и повернулся лицом вниз.
Тщетно пытается он вырваться из ее ловушки… Рвется, рвется и… все больше запутывается. Влюбился в замужнюю женщину. Да и не просто в замужнюю, в жену своего мастера! Он знает – это просто бедствие, ничто в большей мере не поставит под угрозу осуществление его цели. Знает – и все-таки не может выбить это у себя из головы. Он теряет волю, поддается чувству, страстно мечтает о ней. Страсть буквально истомила его. Случилось то, на что он совсем не рассчитывал: не он, а она становится выше его на голову. Что его ждет? Это же сумасшествие. Он думает о ней непрестанно, у него в голове только она. Распрекрасно прибрала его к рукам, вот уж что есть, то есть. И он будет служить ей, как собачонка. Что останется от его планов, а? Он будет служить ей, как мастер, все время боясь, как бы не потерять ее расположения? Возможно ли, чтобы эта расчетливая бабенка имела на него столь сильное влияние?! А он-то считал себя неуязвимым: дескать, ни одна баба не заморочит ему голову… Да, влип по самые уши.
И сон не идет, хотя раньше он засыпал, едва добравшись до подушки. Ему нравились многие женщины, но ни одна не лишила его сна. Он, как мальчишка, не может дождаться, когда увидит ее, и она, как видно, это уже заметила – с тех пор как они тайком ездили осматривать то хозяйство, у нее всякий раз появлялись дела, когда им выпадало пообедать вместе. А он-то, господи, какой баран, надеется, что она снова соберется с ним в лес и предоставит ему новый случай, ждет, когда она придет на бойню, так, чтобы он мог поверить, что она пришла только к нему… Ищет каких-то намеков в ее словах, караулит ее взгляды и в то же время боится, избегает ее глаз. У него делается вид виноватого дурня, сопляка, который никогда не видел баб! Запутывается, запутывается! А ведь всегда умел владеть собой, мог приказать себе не касаться ничего недоступного, обходил за сто верст, чтобы попусту не мучиться и не стать посмешищем.
В ее присутствии он теряет уверенность, в ее глазах он, наверное, становится все более ничтожным, смешным, того и гляди она начнет командовать им, как своим мужем, которому из-за ее каприза приходится спать на кухне, о чем шушукается весь город, потому что старая служанка всюду раззвонила об этом… На него скоро тоже станут пальцами показывать – посмотрите, вот он, дурачина, Волент-приказчик, что втюрился в жену мастера, как осел в копну сена, и теперь у нее на побегушках. Что-нибудь в этом роде. Для всех он станет посмешищем. А ему придется помалкивать и покорно вкалывать на чужих за слово похвалы, за то, что его вроде бы считают своим, за улыбку признания – какой он, дескать, ловкий и удачливый торговец.
Нет, боже упаси! Он должен пересилить себя! Должен! Никаких любовных интрижек, думать только о делах! И о своих планах. Ведь если мастер что-то заметит – конец всему, она же рассказывала, какой он ревнивый. Выгонит в два счета, как своего ученика.
С чего он размечтался-то? Почему так осмелел? Оттого что она тайком была с ним в лесу? Господи, что его во всем этом так волнует?! Разве было в этом что-то обещающее, чтобы он так уж сходил с ума? А? Что ему на обратном пути так уж вскружило голову? Что такого необычного, если он даже немножко нравится ей как мужчина? Несомненно только то, что она с ним заодно. Но почему? Потому что она расчетливая. Потому что ей мало того, что у нее есть. Потому что она знает, что Речана уже не раскачать, действительно не раскачать, ему уже надоели ее штучки. Потому… Да, потому, что она хочет стать еще богаче, ей все мало. Для дела. Только для дела. Только ради этого она избрала его своим сообщником. А он, осел, размечтался.
Томится дни и ночи напролет, бродит, не посидит, точит зубы, собирается с духом, а потом снова поддается слепой страсти к этой хитрой женщине. Рисует себе фантастические картины, снова и снова представляет, как она приходит ночью сюда, пока ему не покажется, что она на самом деле пришла, и он вскакивает с кровати к окну. Иногда мысли о ней так завладевают им, что он не думает о работе, шатается и смотрит на часы, не пора ли уже идти наверх, к обеду. Она разлагает его, мешает сосредоточиться и стремиться к заветной цели – стать совладельцем оптовой мясной. Он злится на нее, минутами ненавидит, но снова и снова подчиняется страстному желанию – пережить с ней все.
Оказалось, что он совсем не такой неуязвимый, как сам считал. Возжелав интимной близости с женой мастера, он поддался главной юношеской мечте о прекрасной женщине.
Он вздрогнул – кто-то шел сюда, почувствовал, что это Речан, хотя было непонятно, зачем тот явился в такой поздний ночной час. Волент испугался. Чего он от него хочет? Что это значит?
Речан вошел, смущенно извиняясь, что так поздно беспокоит его, и со всякими экивоками начал спрашивать, что у Волента за счеты с приказчиком Полгара. Сам пан Полгар полчаса назад был у него дома. Ланчарич, как только немножко опомнился, конечно, заявил, что ничего у него с приказчиком Полгара не было, и даже рассердился, что, мол, это за дела, он сам зайдет к Полгару и спросит его, почему тот возводит на него напраслину.
У Речана отлегло от сердца, и он уже спокойнее рассказал, что хотел от него коллега мясник.
Приходил-то он из-за политики. Рассказал, что готовится, и намекнул, за кого будет он, Полгар, и все порядочные торговцы голосовать. Он, не таясь, сказал, что все порядочные торговцы будут голосовать за демократов, что того же ожидают и от него, уважаемого коллеги Речана. Упомянул, как все они помогают друг другу, как он, Полгар, всегда бескорыстно предупреждает всех о контролерах, за что Речан, конечно, поблагодарил его. Полгар даже не побоялся сказать, что многие торговцы делают взносы для обеспечения успешного хода выборов. Пока Речан размышлял, делая вид, что ничего не понял, Полгар только так, между прочим, спросил, что за счеты у их приказчиков. Но сразу перешел на другую тему. Реакция Речана была для него неожиданной, и он, видно, решил, что тот ни о чем таком понятия не имеет. Но Речана это взволновало, и он, чтобы отделаться, вручил Полгару небольшую сумму для обеспечения успешного хода выборов. Потом, сам не зная почему, испугался этого и начал говорить, что он тоже знает, что ему полагается делать, за кого он будет голосовать.
Полгар ушел, а Речан помчался к Воленту, чтобы посоветоваться.
Дело в том, что ему совсем не ясно, за кого голосовать. Ведь агитацию ведут не одни демократы. К Речану приходили коммунисты, тот самый Добрик, из управления. Речан сразу сообразил, о чем будет речь, и, как только тот сел, сразу выложил, что он, конечно, знает, кого он должен благодарить за бойню, сам предложил взнос, но Добрик ответил, что если у него есть такие добрые намерения, то взнос можно послать по почте в секретариат партии. Речан был рад, что мог каким-то образом отблагодарить Добрика, и вдруг его захватил врасплох Полгар. Речан корил себя: сидит на двух стульях, но что он мог поделать, он так перепугался, ведь если Полгар что-то про них пронюхал, то может погубить.
Ланчарич не захотел ничего советовать хозяину, у него своих забот хватало. Господи, мастер совсем ополоумел, как он может, осел, сидеть на двух стульях?! Что он, в своем уме, хочет угодить и тем и этим, а о делах, по его, Волента, представлениям, абсолютно не думает.
– Кретин, – зарычал он, когда Речан ушел. Заперев за ним ворота, Волент начал метаться по двору, сам не зная зачем.
Наконец ворвался на кухню, вытащил из буфета стаканы и тарелки и, проклиная обоих Речанов, шваркнул их об пол, отчего бешенство в нем сразу превратилось в жалость к себе самому. Он зажег свечу и стал пить, сетуя на Бога, что тот мучает его здесь, как маленького Христосика, пока не опьянел совсем и не начал пороть чушь.








