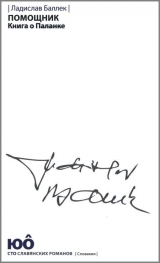
Текст книги "Помощник. Книга о Паланке"
Автор книги: Ладислав Баллек
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 25 (всего у книги 28 страниц)
Здесь и зимы-то порядочной не бывает, снег здесь держится лишь в январе, да и то его быстро съедает солнце. Только ветры холодные, настойчивые, вечные, с утра до ночи сотрясают ворота и ставни, словно возвещая о приближении несчастья. Господи, как ему здесь не хватало зимы! И этой прежней жизни в горах! Где она, его деревушка, занесенная снегом, засыпанная до самых гонтовых крыш, с этим рождественским праздничным настроением в освещенных и торжественно разукрашенных домиках. Паланк таких радостей не знал, здесь не звучали горские песни, коляды, бубенчики саней. Он, бывало, любил смотреть сверху, как сани, запряженные одной или двумя лошадками, мчатся вниз, в долину, в направлении к Баньской Быстрице, как они уменьшаются, исчезают, а колеи на снегу тянутся, тянутся вдаль… это были для него не просто сани, лошади, люди и постепенно стихающий звон бубенцов, заглушенный белым, тяжелым и глубоким снегом, это была непреходящая грусть, которая нужна человеку, как сон.
Он жаждал жить в согласии с миром своих вещей без сложностей, соперничества, зависти и злобы, он хотел избежать всего, из-за чего ему пришлось бы, как он выражался, терзать себя, он не хотел затрагивать ничего, что могло бы атаковать его, искалечить, уничтожить. Он мечтал прожить без особых забот, потрясений, перемен, в покое, в уверенности, что не потеряет ничего, что имеет для него смысл. У него не было особых претензий к жизни, ибо они, как об этом свидетельствовали случаи из Библии и воспоминания пожилых людей, влекут за собой беду и гибель. Речан не задумывался над тем, не приписывает ли он этим случаям и словам слишком большого значения: так думали и полагали люди, среди которых он рос.
Он выбрал простую жизнь, которая для людей в горах была в некотором роде неизбежностью. Эту умеренность обусловливала местность, суровая и трудная жизнь словацких горцев.
Его философия была хороша и полезна до войны или, пожалуй, до тех пор, пока он не приехал в Паланк.
Когда он поднимался на «голгофу», злость его прошла. Он уже не грозился, что убьет жену, зарежет, как курицу. Его грызла тоска и в еще большей степени неуверенность в том, что будет вечером, что будет завтра… что будет дальше. Он боялся даже думать об этом. Выпад жены парализовал его настолько, что он почти упрекал себя за него, словно это была его собственная вина. Только оскорблений нельзя было простить.
Внизу, у реки, он заметил девушку и узнал в ней свою дочь. Вскочил и начал быстро спускаться по виноградникам, потом ему пришлось замедлить шаг – так дрожали колени. Внизу на дороге он остановился.
Когда Эва увидела его, она медленно повернулась и двинулась к дому, все убыстряя шаг, словно боялась, что он ее догонит.
После обеда Речанова усадила Волента в кресло и села напротив, отчего он снова вспыхнул. Без обычных вступлений она сказала, что с сегодняшнего дня они вдвоем принимают на себя все заботы о торговле и лавке, так как на Речана рассчитывать больше нечего.
У Волента перехватило дыхание, он усердно кивал, но долго не мог обрести дар речи.
– Ну, раз вы так говорите, пани Речанова… – пробормотал он наконец.
– Да, так говорю, – подтвердила она с решительным видом, который не всякой женщине к лицу, – и так оно и будет. Он с этого времени будет приказчиком, если вообще захочет работать. А если вздумает ерепениться, получит то, что заслужил.
– Вы здесь хозяйка, вам виднее, – подыгрывал ей Ланчарич.
– Сама знаю, не волнуйся, – улыбнулась она самоуверенно.
– Но знаете ли вы, – попытался пошутить Волент, чтобы немного преодолеть смущение, которое он чувствовал в ее близости, – кто в Паланке делает торговлю?
– Мужчины? – спросила она язвительно.
– Мужчины, геть, мужчины делают кшефты, – засмеялся он через силу.
– А кто управляет мужчинами, этого ты не знаешь?
Он рассмеялся веселее:
– В Паланке говорят, что женщины должны держать кошку, думать о перине и поварешке.
– А ты что, не любишь торговые дела? – спросила она, разглядывая его и улыбаясь оттого, что он краснеет и отводит глаза.
– Да нет! – воскликнул он слишком громко. – Нет, это мой хлеб, я, геть, пани Речанова, только это и умею делать.
– Значит, ты будешь делать то, что умеешь, так как Речан этого не умеет, и мне здесь нужен мужик, а не тряпка, которую любой может в два счета обернуть вокруг пальца.
– Но он, – начал сбивчиво Волент, – неплохой человек.
– Для других – да, но не для нас с Эвой.
– Но ведь можно было бы договориться и с ним, разве нет?
– Нельзя. Ты сам хорошо знаешь это.
– Все еще можно поправить, – сказал он, сам не зная для чего.
– Ты что, без него не обойдешься? – спросила Речанова резко.
– Почему же… обойдусь… но если мы останемся без него, то одного человека нам будет не хватать.
– Не бойся, он не уйдет, не покинет свою дочь. Да разве ты не говорил, что нам нужен еще один помощник? Или тебе не верится, что мы оба теперь начнем им командовать?
Он покраснел и в ужасе уставился на пол.
– Ну что?! Тебя это мучает?
– Как же я буду командовать им, раз он здесь мештер?
– Ты можешь называть его так, этого я тебе не запрещаю, но делать ты будешь то, что скажу тебе я, а он в свою очередь – то, что скажешь ему ты, и скажешь это так, будто приказала я. Не бойся, скоро привыкнешь, и тебе это перестанет казаться странным.
Минуту он сидел неподвижно, не зная, что ему ответить.
– Такова жизнь, – опередила она его.
– Но мештеру не следует совсем выходить из торговли, – сказал он наконец, чтобы не выглядеть человеком, который визжит от радости, что у него вдруг все так удается.
– Он и не выйдет, – сообщила она ему сухо, – только уступит дорогу, потому что не умеет делать это так, как ты. Вот и все.
Он нерешительно покачал головой.
– А на бойне без него все идет как положено или нет? – спросила она.
– И пойдет еще лучше, – похвастался он.
– Вот видишь! – сказала она резко.
– Ведь мне тоже легче, когда у меня развязаны руки, – улыбнулся Волент, опасаясь, как бы случайно не разозлить ее.
– Ну, это мы все наладим, дай срок.
– Ну конечно, – ожил он, – ведь мы же столько вложили в это дело, вся система, которую мы вдвоем создали, распалась бы, а приводить все до ренду всегда трудно.
– Видишь, ты мужик умный, знаешь, что к чему, правда?
– Вы знаете, что нам надо, я давно об этом твержу, – улыбнулся он ей.
– Да, и я уже решила.
Она легко провела рукой по лицу. Ее глаза все осматривали его, и он не мог выдержать этого взгляда.
Тогда она сказала медленно, отчетливо и дразнящее тихо:
– Как-нибудь вскорости я загляну к тебе посмотреть, что ты там делаешь.
Он снова покраснел, почувствовав, как у него наливаются веки, и жадно кивнул в знак согласия.
Паланкские спальни оживали в ночь со среды на четверг, а чаще – с субботы на воскресенье. Этот обычай существовал издавна, сохраняемый всеми слоями общества, всеми возрастными категориями, как говорится, искони. Для этого не требовалось громких речей и каких-либо особых галантных приготовлений, он был как бы апофеозом благополучия и комфорта, отвечал представлениям об обязанностях по продолжению рода, а также общепризнанной морали, рекомендующей половую воздержанность. Эти два дня (а у пожилых партнеров – один) были как бы компромиссом обязанностей и похоти; обычай этот положительно влиял на супружеское и прочее сосуществование: в такие дни прекращались всякие распри и начиналось тщательное и педантичное очищение тела. Обычай отвечал тогдашним медицинским взглядам на телесную и душевную гигиену, которые утверждали: не перебарщивать, но и не запускать.
Паланчане, питавшиеся тяжелой, пряной едой и пившие много вина, были людьми довольно инициативными. Они бы в два счета забыли о сдержанности, если бы не сила привычки, одерживаемая авторитетом священников и врачей, которым приходилось прибегать даже к коварству (они предостерегали от излишнего перенапряжения, ссылаясь на угрозу размягчения костей, мозга, наступление импотенции, неестественных склонностей и нечистых мыслей у детей слишком рьяно сожительствующих родителей, на грех, а то даже на грыжу и паралич).
Паланчанин вопреки всему все же любил хвастать подвигами этого рода, правда лишь в своем кругу, и, конечно, в чисто мужском или чисто женском обществе. Он любил обмениваться информацией о технике любовных игр. Любил прихвастнуть и предать гласности свой опыт, считая это веселым дружеским развлечением. В сильном половом чувстве, в состязании, в еде и питье он видел здоровое и бодрое отношение к жизни.
Как и всюду, в этом городе людей волновал вид наготы, но больше всего их фантазию возбуждала атмосфера интимности.
Все скабрезные истории происходили либо в кукурузе, либо в густой высокой траве, в густом кустарнике, а сентиментальные – под расцветшими липами, каштанами, сиренью и акациями, тогда как грубые, как правило, совершались в ванной или в бочке с водой. Именно тут теряли доброе имя все служанки, по большей части неуклюжие и здоровенные деревенские молодки, всякий раз застигнутые врасплох, но под конец очарованные утонченным коварством хозяина, опытного, зрелого мужчины. Рассказ о женском теле, которое окунули в воду, прохладную (летом) или теплую (зимой), был способен моментально нарушить их в остальном общепризнанную флегматичность.
Речанова уже давно знала этот субботний обычай и особую атмосферу этого дня. В зимние месяцы, когда старые члены семьи пораньше расходились по своим комнатушкам, служанки получали выходной, а детей отправляли в кроватки, менее обеспеченные супруги купались в чане, а более состоятельные – в ванне. Они тщательно мыли друг друга с головы до пят. Летом мужчины отправлялись на недалекий бальнеологический курорт, а чаще – в укромные и тихие уголки реки. Одни притворялись, что идут, как обычно, загорать, купаться, ловить рыбу, другие без стеснения демонстрировали полотенца, туалетное мыло высшего качества, принадлежности для бритья, шампуни, всевозможные мази, кремы и всякие бутылочки с дразнящими запахами. Так каждую субботу к реке направлялись вереницы мужчин: пешком, на велосипедах, лошадях или машинах. Если их собиралась компания, то после небольшой заминки застенчивость исчезала, все входили в воду, постепенно переставая думать о своей наготе, начинали барахтаться, веселиться, ерничать.
Женщины приводили себя в порядок дома, до обеда или после него отправляясь в парикмахерскую.
Речанова приурочила свой визит к Воленту сознательно и с умыслом на субботу. Теперь она лежала в ванне, и теплая вода приподнимала ее большое, зарозовевшееся тело; с некоторой досадой отметив, что опять пополнела, Эва ритмично поднимала тяжелые, полные ноги, делала глубокие вдохи и выдохи, поднималась на руках, и кружение воды, быстро стекавшей по узкой, глубокой ложбинке между грудями на широкий живот, ее успокаивало.
Все, что она предпринимала, она делала вполне сознательно, в том числе сегодняшнее посещение Волента. Она всегда мечтала о такой жизни, какую вела сейчас. Она создала ее своей фантазией, шестым чувством хищника, разгадав подноготную лучших дам города. С детства при встрече с дамами она исподтишка изучала их, с завистью, ох с какой завистью! При всяком удобном случае она стремилась попасть в Быстрицу. В Паланке ей удалось приблизиться к заветной жизни горожанок. Теперь она овсобождалась от запретов, считая это своей личной победой, торжеством своей воли, разума, сообразительности и даже таланта, освобождалась от ограничений, запретов, связывающей робости, и делала это легко и быстро, действительно талантливо. Свою нынешнюю жизнь она почитала счастьем и позволяла себе все, о чем мечтала и чего желала, без ограничений и до конца. Это пьянило, дурманило, и уже не было силы, которая могла бы заставить ее вернуться вспять. Она уже и представить себе не могла такого, чтобы возвратиться в старый дом, на кухню, к простым платьям или, упаси боже, к деревенской одежде, к скромному столу, тяжелому быту, к простым знакомым. Теперь она познала и чужих мужчин, испытала наслаждение, и одно воспоминание об интимной близости с мужчиной было для нее блаженством и праздником. Она просто не понимала, как могла прожить столько лет, не зная этого.
Она только что решила единственную проблему сегодняшнего вечера: как одеться? Выбрала скромный наряд и решила, что парикмахер не нужен. В конце концов, она идет прибрать к рукам своего собственного приказчика! Практичное дело, решила она, требует практичной одежды, а то еще Волент возомнит о себе.
До сегодняшнего дня она особенно не задумывалась о предстоящем грехопадении, отгоняла мысли о нем. Но теперь сознание, что идет она всего-навсего к приказчику, взволновало ее. Она задумалась о соотношении подчиненности, зависимости и превосходства, поняла особую аморальность и смак этого адюльтера. Ею овладело любопытство.
Волент тем временем возвращался с реки, где в обществе таких же, как он, мужчин, искупался, а потом побрился и постригся у парикмахера. Этот парикмахер каждую субботу подрабатывал на речке, стриг и брил под ивами, и клиентов у него было хоть отбавляй.
Как только Волент узнал, что Эва субботним вечером (в субботу, в субботу! – повторял он исступленно) придет к нему, он не терял времени зря. Чтобы от ожидания не потерять голову, он прибегнул к проверенному способу здешних мужчин, о котором узнал еще мальчишкой: начал умеренно, но систематически пить, чтобы поддерживать в себе хорошее настроение, ничего не пугаться и ни о чем не думать, для того чтобы в критический момент не растеряться и не сплоховать. После нескольких дней такого питья с ним уже ничего подобного не могло приключиться, наоборот, считалось, что эта процедура делает из мужчины – во всяком случае, так утверждали в городе – просто неутомимого любовника. Он в этих делах был не новичок, а теперь, попивая вино, внушал себе, что будет при свидании нежным, ненасытным, гениально изобретательным и оригинальным. Одни нервные центры алкоголь у него притупил, другие, напротив, оживил.
Он шел домой, самоуверенный, как петух, глубоко убежденный, что сегодня вечером он получит Эву навсегда. В полупьяной голове у него роились банальные и затасканные, но испытанные слова. Его мужская сила извергнется сегодня вечером, подобно вулкану, и, поддерживаемая неукротимой волей, не истощится до самого утра, кичился он сам перед собой. У него, как у всякого метиса и южанина, от природы был на это талант, развитию которого способствовала пища, ремесло, характер и все тяжелое, темное и таинственное, что скрывалось в его натуре, сам Паланк со всеми проявлениями своей жизни послевоенного времени, в которой было и то, что после всякого мора и опустошения толкает даже святую невинность помышлять о грехе.
Он прибавил шагу. Дома его ждала работа: нужно богато накрыть стол, заставить его фруктами – в первую очередь нарезанными дынями и арбузами, блюдами салатов, всевозможного мяса, кувшинами вина, бутылками крепких напитков, соками и апельсинами из ЮНРРА, орешками, сладостями, пирожными и, конечно, цветами, цветами. Чтоб стол был как на старинных картинах, роскошный и изобильный, какой здесь и полагалось делать ради такого случая.
Речанова ничего этого не предполагала. Как только в сумерках она вошла в дом и увидела возле богато заставленного стола своего будущего любовника, пристально и нетерпеливо смотрящего на зажженную свечу, ее охватила дрожь. Когда он увидел, что она открывает дверь, его как током ударило, он вскочил, чтобы зажечь люстру, но, словно сраженный, бросился на колени и так и двинулся к ней, сгорая желанием прижаться к ее жаркой и теплой плоти. Она следила за ним с нескрываемым возбужденьем, а сама быстро и ловко отстегивала подвязки, чтобы он, боже упаси, не порвал дорогих шелковых чулок…
11
Мясник Штефан Речан теперь только и делал, что стоял в дверях своей лавки, курил одну сигарету за другой и бросал зернышки кукурузы в столб; каждый вечер на нем зажигался яркий фонарь, установки которого он наконец добился, но покоя это не принесло. Перед закрытием Речан нервничал еще больше, так как его ожидала дорога домой, где все было по-старому и где он не навел никакого порядка, как, храбрясь перед самим собой, собирался сделать. Единственным очевидным решением, на которое обратили внимание все, было то, что он отпустил усы, отчего выглядел еще более несчастным. Это решение, по всей вероятности, имело тот же смысл, что и жест Яношика под виселицей, когда тот от бессилия и жажды действовать – она ведь никогда не покидает настоящего мужчину – разодрал на себе рубашку.
Если в коридоре хлопала дверь, Речан вздрагивал, и только уже потом до него доходило, что это сквозняк открыл дверь, ведущую из коридора во двор, так как и жестяная дверь из коридора в лавку дрожала.
И всякий раз он бледнел, качал головой и после минуты оцепенения плелся закрывать наружную дверь. У него начала болеть ступня – по всей вероятности, от сильного желания выглядеть жалким, достойным сожаления. Закрыв дверь во двор и в лавку, он некоторое время стоял и вслушивался, не запер ли кого-нибудь в коридоре. Глазами прикидывал, далеко ли до ножа, который находился на прилавке. Тяжело дышал. Потом медленно брел к двери на улицу, чтобы окончательно прийти в себя на солнце поздней прекрасной и теплой паланкской осени.
На дворе трещал забор: Волент Ланчарич с учеником отправляли на тот свет одного за другим быков старым способом – когда оглушенное ударом животное в кожаной маске с клином на голове на полной скорости врезалось лбом в забор; они управлялись без Речана. А дома? Там он тоже никому не был нужен, словно и не существовал.
Стемнело. Речан сидел на застекленной веранде, и в ногах у него играл маленький радиоприемник. Он слушал голоса далеких городов, и ему не мешало, что он не понимает их, главное, что они были сильные, глубокие, густые, свидетельствующие об уверенности и спокойствии дикторов. Собаки у него уже не было, остался один приемник.
Он смотрел на город, туда, где простирался двор казармы с водонапорной башней, откуда по вечерам раздавался горн, играющий зарю. Тягучий, тоскливый голос на минуту рассеивал все звуки над городом, а потом исчезал где-то в просторах полей, между небом и землей.
Этот звук был так же неотъемлем от вечернего Паланка, как вода и воздух. Позже, когда в армии завели новые порядки и горн упразднили, для паланчан уже как-то не было ясно, зачем столько парней тренируются и не спят. Медный голосок трубы исчез, для чего же остались они?
Речан жил уединенно, сидел, пока не уснет весь дом, у себя на веранде. Волент по совету Речановой в ответ на его приказы ссылался на авторитет пани хозяйки, позже перестал делать и это, а действовал, как сам считал нужным. Днем и ночью бегал по торговым делам, лез из кожи вон, чтобы заслужить ее доверие. Разговоров с Речаном избегал и часто вообще делал вид, что его не замечает.
Речан не мог взять в толк, должно ли его оскорблять поведение помощника, или он должен просто привыкнуть к этому. Его обязанностью было теперь следить за лавкой да иной раз помочь в производственном зале или на бойне. О торговле и вообще о том, что он хозяин всего, уже и помина не было.
Жена делала вид, что его просто не существует, даже не отвечала на приветствия и приказала служанке не звать его к обеду. Все в два счета привыкли к его новому положению то ли приживальщика, то ли слуги, тем более что он даже не протестовал.
Все его сторонились, дочь, как и раньше, избегала его. Он ничего не предпринимал, только терзался. У него заметно дрожали руки, так что он начал стыдиться работать в лавке на глазах у посторонних, потерял сон, аппетит, целыми часами сидел в уголке, пялил глаза в пустоту. Он ждал катастрофы.
Внизу, в спальне жены, зажегся свет. Он выключил радио и прислушался. Через полуоткрытое окно донеслись голоса: мать уговаривала дочь, чтобы та кончила привередничать и не держалась так высокомерно с учителем музыки, ведь пан Хлаваты – человек приличный, с положением в обществе, правда, он небогат, но имеет постоянный заработок от государства, что для женщины всегда самая надежная гарантия. Хоть он и пожилой холостяк, зато человек заботливый и вполне может составить для нее партию, если в городе не найдется более подходящего жениха; так что она не вправе воротить нос от своего счастья, ведь девушки увядают быстро, как цветы.
Дочь в ответ бормотала, чтобы ее оставили в покое, что все ей надоело, а потом крикнула, чтобы мать вообще ей об этом не напоминала. Та в ответ начала ворчать, что дочь целыми днями просиживает дома, и что от нее несет табаком и ликером, и что стыдно в ее возрасте так опускаться, после чего дочь умолкла.
– Эва, – раздался приглушенный голос жены, по-видимому поглощаемый пространством платяного шкафа, – ну чего ты стоишь, господи, мы же опаздываем!
– Никуда я не пойду, – ответила дочь после большой паузы, по всей вероятности, от двери.
– Не морочь мне голову, одевайся, пора, – повелительным тоном сказала мать.
– Не пойду.
– Что с тобой? Ты что, правда не хочешь идти?
– Угадала, не хочу.
– Подумать только! Ты же сама обещала Трудике, она нас ждет, звонила только что, справлялась, выехали мы или нет.
– А мне не хочется, – заявила дочь угрюмо.
– Но ведь раньше, – отозвалась мать как-то с натугой, скорее всего, она стояла наклоняясь, – ты любила ходить, а теперь вдруг дичишься? Ну, дочка, что с тобой? Может, собралась здесь сторожить отца?
– Не пойду, и все тут.
– Не пойду, не пойду… – сердилась мать, – что это за разговор! Тебе нужно бывать на людях, неужто и ты хочешь сидеть дома на печке, как твой недотепа отец?
– Я сказала тебе, что не пойду, – значит, не пойду!
– Не становись на дыбы хоть ты, Эва, надоели мне ваши взбрыкивания. Обещала – значит, надо идти, ну что я буду говорить, как объяснять? Ну-ка помоги мне причесаться, вот заколки.
– Тебе бы только шляться, наряжаешься, как молоденькая…
– Пойдешь ты или нет? А меня оставь в покое. Что мне прикажешь делать? Сидеть с твоим папашей дома, слушать его дурацкие разговоры?
– Ты к нему относишься совсем как к чужому, – ответила дочь.
– Что посеешь, то и пожнешь, – отрезала мать. – И он еще смеет дуться! Ну ничего, авось перестанет дурака валять, как увидит, что мы и без него обходимся… Попрыгает, попрыгает, да и притомится. Станет кротким, как барашек… Просить придет, спесь-то повылетит… Послушай, почему все-таки ты не хочешь идти, а?
– Мне там не нравится, – ответила дочь.
– Что?! – воскликнула мать презрительно. – А мне вот нравится. Я при папаше твоем вдоволь накуковалась. Послушай, дочка, не успеешь опомниться, как выскочишь замуж, пойдут детишки, а там и старость не за горами. Ну что за жизнь у меня была с твоим отцом?
– Ладно, ладно, теперь тебе вольно так говорить, а ведь, не будь его, ты бы сейчас где-нибудь в лесу деревца сажала.
– Не болтай, ты же сама знаешь, что это не так. Когда-то, милочка моя, когда-то, а сейчас, после войны, совсем другое время, сейчас время для таких, как я или наш Волентко, для тех, кто умеет поворачиваться… для торговцев, дочка, а я прямо-таки родилась для этого, вот так-то. Да я сейчас где хочешь развернусь, богатство мне в руки поплывет. А вот это все, что ты здесь видишь, это чьих рук дело? Думаешь, твоего папаши?
– Ты мне долбишь все одно и то же, – сказала дочь раздраженно. – А с Трудикой вы трещите о всякой ерунде как сороки, а уж эта Марица, ну! Ради какого-то торговца бросила мужа и ребенка… Меня от ваших разговоров тошнит.
– Тошнит, ишь ты! Какая же ты еще дуреха, ну ничего, дай срок, и ты ума наберешься!
– Мне противно туда ходить, – бубнила свое дочь.
– Ну, ты эти разговорчики оставь! – начала злиться мать. – А где встретишь столько порядочных людей, а? Может, у твоего отца? Кем бы ты стала, если бы я была вроде него… ну? Была б как твой дурной отец? Уж очень быстро ты забыла, сколько мы обе претерпели по его вине. Ведь из-за него ты устраиваешь мне все это! Но я уже сказала свое! Не вмешивайся в наши с ним дела, я сама знаю, что делаю! Я его просто поставила на место, и пусть не каркает.
– С тобой не договоришься… В общем, сегодня я с тобой не пойду, – заявила на это дочь.
– Ты случаем не заболела?
– Давно заболела, мамаша, давно голова у меня кругом идет, что вы один в лес, другой по дрова, словно не муж и жена. Разве не видишь, мама, – повысила голос дочь, – что я как из-за угла мешком ушибленная? Как я могу терпеть ваши свары? До каких пор, а? До каких пор?! Почему я должна плясать под вашу дудку?! Ты… мамочка, сильно ошибаешься, если думаешь, будто мне все равно, что вы живете как кошка с собакой.
– А разве это моя вина? – спросила мать спокойно. – Ты хорошо знаешь, что я все сделала, только бы он образумился, но кто виноват, что с ним сладу нет?
Свет погас, обе вышли из спальни и перешли в гостиную, откуда разговор уже не был слышен.
Так он услышал что-то вроде информации о сокрытом от него образе мыслей своей жены. Но что же все-таки испортило отношения между женой и дочерью? Не иначе мать чем-то обидела ее. Но чем? А что, если она где-то показала себя в таком свете, что оскорбила дочь? Что? Его жена…
В голове у него начало покалывать, ему пришлось сесть. Господи! Ведь, если она ко всему прочему еще и путается с каким-то мужиком, он этого не переживет…
Подслушанный разговор был зловещим. Его дочь пьет и курит! Это конец. Он был не в состоянии пошевелиться, таращил глаза и боялся думать дальше. Он ведь не перестал любить жену, и даже любил ее еще больше, как это часто случается с брошенными мужчинами. Напрасно он ругал ее, даже не раз проклинал, проклял в тот миг, когда впервые увидел ее на деревенской гулянке, но любить никогда не переставал. Он не мог представить себе жизни без нее.
Что ему делать? Неужто шпионить, следить за ней? С кем она проводит время? Почему он не узнал об этом раньше, когда впервые ему стали подозрительны ее вечерние отлучки? Вот теперь он точно заболеет! От такой жизни и ноги протянуть и спятить недолго. Отныне жизнь его станет адом. Ревность высушит его, сведет в могилу. Почему он не взялся за ремень сразу же, как только она впервые попыталась встать на дыбы! Он должен был ее высечь, избить до крови, чтобы не смела показывать свои коготки! Но он, дурак, все старался быть уступчивым, позволил ей вить из себя веревки, не послушался мудрого совета, что женский зад надо отхлопать ремнем, чтобы выбить из него спесь. Господи, как он мог это допустить! Со всем смирился, все принял без гнева, гордости своей не показал, собственная дочь из-за этого его возненавидела, и вот сейчас он стал приказчиком на собственной бойне, а дома – слугой!
Перед воротами остановилась легковая машина жены, которую она все же купила у таксиста и зарегистрировала на имя дочери. Она и замуж-то уговаривала ее выйти для того, чтобы постепенно перевести на нее все имущество. Так одним выстрелом, думала она, убьет двух зайцев: обставит и мужа, и Ланчарича, если бы тому вдруг вздумалось потребовать свой пай. И знала, что муж с этим согласится, его это даже успокоит. (А она ради богатства и власти над домом, мясной и всем имуществом была готова объединиться хоть с чертом.)
Речан услышал, как жена спешит по дорожке к воротам, степенно и сдержанно здоровается с шофером, садится и при полном свете фар уезжает…
В комнате у дочери зажегся свет.
Он спустился в кухню и лег. У него болели голова и сердце. Через минуту встал, чтобы пойти к дочери посоветоваться, что делать, но сразу же остановился, боясь, что она его высмеет. Да он уже и отвык входить к ним в комнаты.
Лежал он долго, даже курить не мог. Вдруг встрепенулся. В доме было какое-то движение. Тут же все стихло, и ему уже начало казаться, что у него просто галлюцинации от головной боли, но шаги раздались явственней. Он испугался. Что происходит? Кто-то забрался в дом? К дочери? Тут он отчетливо уловил, что где-то передвинули стул. Он испугался: что это? Неужели его малышка Эва решила ночью бежать из дому?
Речан вскочил с дивана, хотел вбежать в комнаты, но как-то автоматически завернул в переднюю и оттуда помчался вверх по лестнице на веранду.
Выглянул через окно и быстро протер потный лоб. Двустворчатая стеклянная дверь из гостиной была открыта настежь, на бетонном полу широкой террасы с невысоким барьером стоял рояль, возле него высокий столик для цветов, на котором горела керосиновая лампа с большим абажуром из матового стекла в форме колокола. Лампа светила вовсю, вокруг нее кружились загадочные ночные бабочки и мошки, последние в этом году.
Тут он увидел дочь. Она была в длинном розовом платье, на плечи накинула белый мех. Одной рукой Эва держалась за горло, другой опиралась о крышку рояля и с восторгом смотрела на пижонистого черноволосого юношу в расстегнутом шелковом плаще и широкополой шляпе, который вызывающе манерно садился к инструменту. Казалось, он навеселе. Запрокинув голову, юноша начал играть «Сказки Венского леса». Это был Куки – наверное, он перепрыгнул через забор, а Эва впустила его в дом. Теперь Речан понял, почему она не хотела идти с матерью. Руки у него дрожали от волнения. Ему хотелось плакать. В первую очередь из-за Эвы. Господи, как преданно она смотрит на Куки! Преданно и безвольно! Он осознал, что она вся в него, к несчастью, унаследовала его характер.
Юноша перестал играть, воцарилась тишина. Когда Эва заметила, что ее красивый партнер смотрит наверх в темноту, она тоже подняла глаза к темному небу. Но там ничего не происходило. В головокружительных глубинах царило спокойствие.
Куки вдруг опустил голову, сложил руки, с иронической ухмылкой минуту размышлял, потом начал играть какой-то старинный русский романс.
Когда кончил, вынул из внутреннего кармана пиджака тяжелый блестящий портсигар, с усилием поднялся со стула, вставил сигарету в длинный мундштук и важно подошел к лампе. Наклонился над ламповым стеклом, и на кончике сигареты появился горящий уголек. Над головой у него взлетело облачко дыма. Он глубоко затянулся. В свете лампы его мальчишеское лицо казалось болезненно бледным и потасканным. Неуверенным шагом, словно длинные ноги его не слушались, он вернулся к роялю, сел на круглый стул, повернулся к девушке и, склонив голову, стал наблюдать за ней.
– Как хорошо вы играете, – сказала ему Эва.
Куки тихо засмеялся, театрально повернулся на стуле, прошелся пальцами по клавишам и сказал, махнув рукой:
– Я же играю для вас, мадемуазель Эвичка.
– Спасибо, вы играете действительно прекрасно, словами этого даже не выразишь, – откликнулась она тихо.
– Лучше всего я играю, когда я один, – улыбнулся он самоуверенно.








