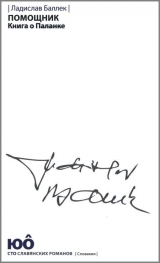
Текст книги "Помощник. Книга о Паланке"
Автор книги: Ладислав Баллек
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 28 страниц)
Речан подумал было прилечь на кушетку, но малое послабление требует большего, ему захотелось отдохнуть обстоятельнее, вздремнуть, он словно забыл, что уже не мальчишка, который скажет: «Лягу спать» – и действительно заснет.
Он хотел лечь, но не сделал этого, потому что стыдился валяться в присутствии служанки и боялся жены: она могла бы попрекнуть его в лености. В конце концов, здесь, на кухне, было чересчур тепло. Речан вынул из буфета стеклянный кувшин, украшенный виноградными гроздьями, в кладовке отлил в него из оплетенной бутыли вино и с одеялом под мышкой вышел в коридор, вернее, в коридорчик, потому что главный коридор, застекленный и заставленный комнатными цветами, которые здесь остались от прежней хозяйки, проходил за следующей дверью.
По деревянной лестнице поднялся на маленькую верхнюю верандочку под самой крышей. Она была уютная, застекленная, обращена в сад и парк, с которым они соседствовали. У него здесь было свое кресло, маленький столик с пепельницей и маленький буфетик; на старом ковре лежало несколько горшков из обожженной глины и садовая керамика. Он любил посидеть здесь, если у него после обеда или ранним вечером выдавалось немного свободного времени.
С трудом открыл откидное окно с маленькими сегментами желтоватого стекла в тяжелой шахматной железной раме. Его овеяло свежим ветерком, напоенным запахами сухой черепицы и ближних садов. Он вспугнул воробьев на крыше и, довольный, улыбнулся. На мгновение прислушался к тихому шуму зелени и звукам людских голосов, доносившихся с разных сторон. Он очутился именно на такой высоте, до которой мечтает дорасти человеческое существо; он поднялся на высоту деревьев, их кроны еще защищали его, но уже не мешали обозревать пейзаж далеко вокруг. Отсюда ему открывалась даль до водонапорной башни на дворе казармы. Он видел крыши, трубы, балконы, его взгляд отчасти проникал и в темные, всегда для него загадочные пространства чердаков, где царила тишина, лежала просыхающая кукуруза и всякий хлам, о котором мы думаем, что хорошо бы до него наконец добраться. Внутренность чердаков была видна, если окошки были распахнуты. В противном случае они отражали солнечный свет, как маленькие маяки или зеркала.
Он хотел уже закрывать окно, когда с улицы от ворот раздался звонок. Он сразу понял: мусорщик. Он приходил каждую среду, забирал золу. Другого мусора не водилось, разве что иногда битое стекло. Бумагу сжигали, старую одежду собирали тряпичники, за остатками еды в богатые дома приходили, волоча от дома к дому тележку с бочкой из-под бензина, те, кто кормил свиней, а также нищие и цыганки.
Мусоровоз, закрытый, как гроб, обитый изнутри и снаружи толстой жестью, остановился перед воротами. Речан, высунувшись в окно, увидел старую цирковую лошадь с белыми яблоками на прекрасной ярко-желтой шерсти. Крыша на мусоровозе была откинута. Оттуда поднимался дымок. У ворот стоял рыжий мужик в ушанке, тряс колокольчиком на короткой деревянной ручке и звал:
– Маргит! Маргит! Ты что, уснула? Мусор!
В доме хлопнула дверь, за ней другая.
– Да уймись ты, черт рыжий! – крикнула служанка из дверей и заспешила в подвал за ведрами с золой.
Речан развалился в просторном кожаном кресле, которое нашел, разбираясь на чердаке, сам починил и притащил сюда. Прямо из кувшина отпил вина и прикрыл веки, сразу же почувствовав приятную усталость. Довольный, он повозился, устраиваясь. Получше подоткнул одеяло и поджал ноги. Устроился. Сегодня у него больше никаких дел. Тихо шелестят листья, воркуют горлицы, птицы с робким взглядом. Они вызывали в нем нежность. Вспомнилась мать. Он не видел ее уже почти год, только брат или сестра писали ему, что деньги она получила, что, мол, здорова, держится. И все. Деньги он посылал ей регулярно каждый месяц, собственно, до недавнего времени их посылала жена, но, когда в прошлом месяце он не увидел талона почтовой квитанции с ее именем за стеклом буфета, куда его обычно прятала жена, чтобы он мог убедиться, что, несмотря на все, она не забывает свекровь, он понял, что впредь должен будет делать это сам. Несколько раз звал ее в гости, но она даже не ответила на его приглашение. Правда, брат пообещал, что приедет вместе с сестрой на рождество за вином. Не приехали. Он уже сказал себе, что должен сам съездить наверх, но стоило ему заикнуться об этом жене, как она тут же решила, что давно не была дома и поэтому сначала отправится сама. С дочерью, конечно. Они уже собирались, купили большие кожаные чемоданы и заказали у портнихи наряды. Он уступил, хорошо, подумал, пусть едут первыми, он подождет, хотя и знал, что неожиданное решение жены было просто капризом. Мать он чаще всего представлял себе в черном платке, с молитвенником в руках, как, хмурясь, она спешит по дороге в тайовский костел. Жена и Эва терпеть ее не могли. Мать сердилась на него справедливо. Ведь Речан никогда не заступался за нее перед ними. Она знала его, знала, что, если они оговаривают ее, он молчит. Но до сих пор жена охотно посылала ей деньги, теперь же, словно обидевшись, стала отправлять деньги только своей матери. Правда, старая Речаниха, ее свекровь, в их помощи не нуждалась. Но решение или забывчивость жены обидели Речана. Этого жена не должна была делать. Теперь, когда сам постарел, он стал все чаще сознавать, что дни его матери – считанные, и каждое замечание в ее адрес причиняло ему долго не стихающую боль.
Снизу, через открытые окна так называемого салона, он расслышал громкий разговор жены с дочерью.
– …он, значит, на ней женился, а когда заметил, что у нее, того… живот пухнет, знать ее не захотел.
– Потаскуха она, не иначе, милочка, разве порядочная поедет за хахалем из самых Кошиц?
– Мама, из Жилины!
– Ну из Жилины, так из Жилины, дочка, это все едино. А я что, сказала, из Кошиц, что ли, да? Ну конечно, из Жилины, где служила старая Ламбертиха… Хотя, нет… слушай, Эва, а случаем, не из Прешова?
– Да нет же, мама, говорю, из Жилины!
– Ну да, верно, вспомнила. Видишь, у тебя голова получше моей. Конечно, не из Прешова, это я спутала ее с другой, хотя та тоже вроде была из Штявнице. Ну да я хочу тебе про другое, дочка, – порядочная, она сразу вида не покажет… не разрешит… ой, милка моя, все надо уметь. Порядочная не дура, сразу не скажет, что парень ей глянулся, она наперед хорошенько вызнает, подходит ли он ей для замужества, – Речаниха, по всей вероятности, расхаживала по комнате, и ее голос слышался то из одного конца, то из другого, а Эва, видно, стояла или сидела, – есть ли у него что за душой и не числится ли за ним чего плохого, из какой он семьи… Разве узнаешь… – Она повысила голос и говорила все оживленней: – Разве сразу-то узнаешь, нет ли у них в семье выродков? А? Что, если у них в роду пьяницы? Нехорошая болезнь? Потом-то ведь за все расплатятся твои дети. Вот так, Эва моя, это ты должна знать, иначе всю жизнь будешь маяться, такое всю жизнь отравит. Моя бабушка дожила до ста лет. Умная была женщина и меня часто наставляла. Всегда говорила: «Эвка, знаешь ли ты, что у девушки есть такая лошадь, у которой нет узды? Ты, милка, наперед это знать должна, чтобы спокойно дождаться такого парня, который завернет на твой двор, и с уздой»… А стыда нет только у потаскух… Девушка… барышня, как мы здесь говорим, не так ли, да, значит, должна показать, что она порядочная, но явиться из такой дали одной и предложить себя! Ну, дочка, это только потаскуха может, не иначе… это только такая способна сделать, у которой глаза бесстыжие.
– Она же хотела, того… замуж выйти… – раздраженно ответила дочь, поняв, что мать снова взялась ее поучать, как и всегда, когда выдавался подходящий случай. – Стосковалась по парню, не могла дождаться… Ну и, того.
– Эва, – сказала мать настойчиво, – что ты заладила «того» да «того», над тобой смеяться будут, Вильма уже говорила тебе об этом, почему ты не можешь отучиться? Прикусывай себе язык, коли оно захочет сорваться.
– Хорошо, хорошо, хватит, – запротестовала дочь гневно.
– Я тебе зла не желаю, чего ты рычишь? Значит, должна была приехать прилично! А не с брюхом от другого. Только потаскуха может приехать с брюхом от другого! От другого! Слыханное ли дело! Точно, от другого, ей посчитали дни, и получилось, что наверняка от другого. Ну, дочка, я такого еще в жизни не слыхивала.
– А как вышла замуж, сразу начала командовать! – поддержала ее дочь. – Старую Слоповскую чуть из дому не выгнала, та должна была и готовить ей, и стирать… Сама-то она ничего не умела, даже яичницы…
– Видишь… в других самой не нравится, а ведь я тебе долблю: начинай учиться готовить, шить, и все впустую – ты и ухом не ведешь. Да, недаром говорят, – Речаниха заторопилась дальше, потому что дочь снова начала ворчать… – посади нищего на лошадь, его даже дьявол не догонит. Ведь пришла-то она сюда, можно сказать, голая-босая… но, конечно, сумочка с пудрой-помадой – это, конечно, это у нее было, без нее она ни шагу. Ну тут уж ничего не позволяют… Это… это… того… ну! Как там Вильма говорит?
– Скандальозно, – буркнула дочь.
– Во-во. А что сделал молодой Слоповски, слушай… вот уж не пойму… Такой парень! И отец – оптовик! Что у него других не было? Вертопрах, связался с девкой, которую толком не знал, с отцом не посоветовался, мать для него пустое место. Хоть бы с отцом поговорил, ведь старик Слоповски – это же светлая голова, за него жене и детям стыдиться не приходится. – (Речана прямо передернуло, он вспыхнул, проглотил горькие слюни и быстро напился вина.) – Ну и времена! Знай, Эва, я, того, шею тебе сверну, начни ты путаться с каким-нибудь проходимцем!
– Хорнова, его крестная, ему сказала, что тетя Валлова советует написать римскому папе.
– Чего? – изумилась мать. – Не может быть. Откуда ты знаешь?
– Форгачова рассказывала, внучка того лесника, который ест одну зелень, потому что у него тело начало открываться, ноги пошли ужасными ранами от дикого мяса, которое он раньше ел.
– И что, написал? – спросила мать.
– Да.
– Да ну!
– Честное слово!
– Неужто написал?
– Вот именно, что написал. Она еще сказала, что собственными глазами видела ее с брюхом на рынке. Как наклонится над корзиной, все мужики и студенты хохотать, юбка-то стала ей, ну, того… мала стала, так что Форгачовой пришлось шепнуть ей на ухо: «Слушайте, пани, это они над вами ржут, у вас до самого Будапешта видно».
Обе прыснули и громко захохотали. Одна из них хлопала себя по ляжкам. Потом на минуту они смолкли и прыснули снова.
– Слушай, а разве этот их, как его называют, папа, станет читать такие глупости? Он же святой человек, святой муж… говорят, – усомнилась мать.
– Откуда я знаю, может не может… но ему написали, чтобы он признал брак недействительным, чтобы Роберт мог еще раз жениться на порядочной, – возразила дочь.
– Ну, это… скандальозно, как говорит наша Вильма…
– Только Форгачова мне сказала, что, мол, напрасно пишут.
– Это почему же? Разве люди не могут ошибиться, дочка?
– Сказала, что это ему не поможет, только себя перед святым отцом опозорит, ведь женился-то по всем правилам, никто его не заставлял, так что же он хочет? Кто его на веревке тянул? Раз сам в дерьмо влез, пусть и живет с ней. Нечего рыпаться, сказывала Форгачова…
– Знаешь, отчего она так говорит, догадываешься? Потому что он выбрал не ее. Соображаешь, дочка?
– Ну, мама… она же говорит, что он должен с ней жить. Надо, мол, было лучше смотреть, когда выбирал.
– Ох, не говори так, дочка, – сказала мать немного погодя, видно она за чем-то наклонялась и потом с кратким стоном выпрямилась. – Роберт опростоволосился, это конечно, и позор большой, но, дочка, ведь что я тебе буду рассказывать… не может же он всю жизнь смотреть на человека, которого не выносит. Что он, должен всю жизнь глядеть на эту потаскуху, растить ее байстрюка? Пойми, милка моя, такого не может хотеть даже сам Господь, ведь, как говорят, помоги себе сам, тогда и Бог тебе поможет. Люди ведь про все это думали… Да она у него все по ветру пустит, когда он от отца магазин примет.
– Не знаю… Говорят, напрасно ждет, святой отец не может отменить: они, мол, связали себя перед Господом, так что даже папа развязать не может. Форгачова говорит, что… ну, в общем, можно было бы эту потаскуху, как ты говоришь, околпачить, чтобы она согласилась… чего-то там… согласилась…
– С чем, дочка? – спросила с любопытством мать.
– Ну… В общем, если бы он хорошенько ей заплатил, чтобы она поклялась, будто заставила его пойти к алтарю насильно, что угрожала ему заряженным браунингом… ну, это такое оружие, пистолет… вроде… И если вот так… э-э-э, что-то подобное уже где-то было, тогда римский папа безо всякого эту пару развел бы, не мог же тот парень, сказал он себе, из-за такого дела позволить себя убить, ну и поэтому согласился. Здорово, правда, мам?
– А она что же? Согласится на такое?
– Форгачова говорит: мол, дело только за тем, что эта… баба может запросить слишком много.
Некоторое время они еще смаковали эту историю, потом вместе пошли на кухню узнать, прогладила ли служанка Маргита им блузки. Видно, куда-то собиралась. Этот поход их возбуждал, оттого они с таким смаком и щебетали.
Новая жизнь в Паланке воодушевляла их, они гордились своим новым положением и охотно меняли то, что люди подразумевают под словом тон. Новый казался им свободнее, изысканней, они были в него влюблены, им хотелось жить веселее. Благодаря этой перемене они находили себе все более увлекательное общество. Волент только и делал, что хвалил их, своим, мол, поведением они поддерживают доброе имя своего дома и мясной отца, а Речан никогда ни в чем их не упрекал, поначалу перемена, происшедшая в них, ему даже нравилась.
А они превратились в настоящих актрис. Да еще каких! Речан заметил, что они стали более разговорчивыми, все время тараторят, с раннего утра до позднего вечера учатся вести беседу, чтобы не отставать от женщин своего нового круга.
Беспрерывно кого-то осуждают, что свидетельствует об их растущей зависти и неудовлетворенности, а также о том, что они не слишком твердо уверены в себе. О людях судят по настроению, если беседуют не друг с дружкой, то любят щеголять модными в городе словечками, разноязыкими, сочными, но пока еще чуждыми их ушам, так что они частенько в них комично путаются и ошибаются. Главным предметом пересудов являются дела имущественные, часто вспоминают о церкви, развлечениях, вечеринках, чужих бедах и скандальных историях. Собственно, они не разговаривают, а злословят, словно не получили еще достаточно внимания со стороны прочих. О бедности других они распространяются с особым усердием, как победители, люди состоятельные и пресыщенные. Подлинное, скрываемое или мнимое богатство соседей и видных паланчан может служить предметом воркотни на все послеобеденное время. По утрам они спят теперь дольше, потом плотно завтракают (частенько в кровати), до десяти околачиваются дома, потом наряжаются и отправляются то к портнихе, то к фодрасу, как здесь называют парикмахера, или по магазинам, лакомятся в кондитерской или заходят в гости к приятельнице. После сытного обеда почти всегда ложатся вздремнуть, а после сна их ожидают другие заботы. Вечер всегда посвящается хорошему обществу.
Речан обычно возвращался домой позже, чем сегодня, иной раз уже вечером, а то и ночью или на рассвете, кроме тех дней, когда он здесь обедал с Волентом и учеником Цыги, в комнаты не заходил и знал, чем они целыми днями заняты, только со слов служанки Маргиты. Сами они с ним ничем не делились, тем более не говорили ему, что часами репетируют перед зеркалом. Служанка любила изображать их и без зазрения совести высмеивала.
Прошлый раз на кухне Маргита изображала ему со злорадным смехом некоторые их репетиции: как они учатся ходить в туфлях на высоком каблуке (она показывала это в башмаках, отчего получалось вдвое комичнее), гуляя по улице, постоять с кем-то и поболтать, не тряся при этом головой, не вертясь, не размахивая руками и не жестикулируя, позволяя себе разве что поднять руку на уровень желудка, учатся стоять прямо, а не расставив ноги, не топтаться, не сутулиться, говорить солидно, со значением, глядя в глаза с видом понимающим и информированным.
Маргита изображала, как Речаниха одергивает дочь, чтобы та при ходьбе не фехтовала правой рукой, потом как дочка учит мамашу манипулировать зонтом.
Речан терпеливо смотрел на служанку, но не смеялся, хотя и не протестовал. Он догадывался, что она высмеивает их не зря, но в глубине души был на их стороне. Если вдуматься, то как им быть, если они хотят, чтобы везде, куда бы они ни пришли, не возбуждать насмешек паланчан? Люди в городе действительно держатся иначе, чем у них в деревне, в горах. Там почти никто не придавал этому значения, но здесь совсем другое. Прежде всего он думал о дочери. Ей в Паланке выходить замуж, начинать самостоятельную жизнь, поэтому она не может быть посмешищем для здешних горожан, не может отличаться от них, иначе они не примут ее в свой круг. У Маргиты, говорил он себе, другие заботы, вот ей и вольно смеяться, но, кто знает, очутись она вдруг на их месте, захотелось ли бы ей быть среди новых для нее людей белой вороной. Несправедливость ранит, он это знал. Но на нее совсем не обижался, такой уж он был, в конце концов, именно Речан мог в этом доме лучше всех понять ее, и ему даже в голову не приходило одергивать служанку. От кого бы он тогда узнал о жизни в этом доме? К тому же он немного и жалел эту женщину. Как и себя, впрочем.
А так все же он кое-что знал. И мог по ее рассказам в лицах представить, как они до одури учатся перед зеркалом выражать восторг, радость, сострадание, как примеряют шляпки, то с вуалькой, то с перышком, то с бантиком, элегантно натягивают перчатки, слегка покачивают бедрами, учатся подбирать цвета, распознавать согласующиеся и несогласующиеся (больше всего их ужасало сочетание зеленого с синим), обращаться с прибором, чистить десертным ножичком яблоки, чтобы и в этом быть не хуже других, пьют кофе, чаще эрзац, чтобы можно было выпить его больше и поупражняться в некоторых правилах питья кофе: не хлебать, откладывать ложечку, чашку с блюдечком поднимать ко рту, при этом сидеть прямо, но свободно, положив ногу на ногу, вытирать рот салфеткой так, чтобы с губ не стерлась помада, то есть только слегка коснуться уголков рта, тренируются, конечно, и в делах банкетных, сервируют большой праздничный стол, расставляют тарелки, приборы, учатся разбираться в напитках и подавать к ним соответствующие рюмки.
Во время этих репетиций, узнал он от Маргиты, они часто ссорятся, но тут же мирятся, потому что обе еще неопытны, неуверенны и должны друг друга подбадривать и наставлять.
Обе неустанно стремятся овладеть искусством разговора. Здесь хороший говорун – предмет восторга и поклонения: «Слушайте, этот (эта) за словом в карман не полезет! Говорит как по писаному! Честное слово, проповедует получше нашего священника! Я вам скажу, он (она) далеко пойдет…»
Жена и дочь стараются говорить плавно, произносить по нескольку фраз кряду, говорить быстрее и в одном тоне, говорить медленно, с паузами… Неумение говорить плавно считается типичным признаком деревенской косности, невежества, презираемой застенчивости и всяческой отсталости.
Такая наука дается им труднее всего. Они часто причитают, вздыхают, стонут и ойкают, что, мол, наверно, никогда не выучатся.
Куда как легче, к примеру, широко раскрывать или закатывать глаза, чтобы придать им необходимую соблазнительность, интеллигентность и живость. И чуточку кокетливости. Мать особенно следила за тем, чтобы глаза дочери умели выразить вдохновение, нежность, девичью чистоту и загадочную глубину.
Кажется, быстрее всего обе усвоили, что они – настоящие паланчанки. Они задыхались от гордости за богатство города и изобилие края, словно родились здесь и жили всегда. Им уже казалось, что в других местах люди ходят только в сапогах, потому что повсюду земля дает лишь сено да картошку.
Постепенно они перестали внешне отличаться от своих приятельниц, которые по вечерам приходили к ним, а некоторые даже приезжали в колясках. Ни одну из них Речан лично не знал, он заметил лишь (отсюда, с веранды), что все они роскошно одеты и большинство курит сигареты в длинных костяных мундштуках. Они пили кофе и ликеры, а когда развеселятся – как, например, в прошлую субботу, – то включали на полный голос проигрыватель и сердцещипательные песенки. Чаще всего он слышал: «О, донна Клара…» или: «Бе-е-лой акации…», «Не грусти-и обо мне, найди-и-и-и себе другу-у-ю…». Иногда более веселые, вроде: «Эй, клен, клее-е-е-н, клее-е-е-н зеле-е-е-ный, под око-о-о-шко посаженный…» и «Старые девы, купи-и-ите масла, смажьте себе колени…»
Больше всего крику было от женщины, которую называли Вильмой. Когда она выпивала чуть больше, то, пританцовывая, устремлялась к окну и изображала на всеобщую потеху отчаянье, закручиваясь в занавеску, подражая безумным актрисам, таинственным красавицам из довоенных фильмов.
Речан заметил, что Вильма прекрасно сложена, но уже немолода и подстрижена под мальчика. И волосы у нее светлые – и особенные, огромные сияющие глаза! С такой женщиной и он бы с удовольствием поговорил, правда, если бы не боялся и не стыдился показаться ей на глаза. Такой обаятельной внешности покоряются без исключения все, и женщины тоже.
Он ничего о ней не знал. Но ему хотелось бы о ней кое-что знать, раз она пользуется несомненным авторитетом у его женщин. Он решил, что спросит про нее у Волента, но как-то все откладывал. Стыдился выведывать. Как бы он объяснил Воленту, почему интересуется этой женщиной? А между тем он думал о ней и по-другому. Так что тем более не мог справляться о ней. Она представлялась ему недосягаемой. Это его немножко печалило, но он всегда любил такую мальчишескую грусть по недоступному. Именно о таком он любил думать и мечтать.
Он задремал ненадолго, во всяком случае, ему так казалось, но, очнувшись, увидел, что уже завечерело. Взглянул в окно. В доме света не было. Маргита, наверно, ушла, а женщины отправились куда-то в гости. Он встал, скинул одеяло и потянулся.
Потом сбежал вниз на кухню, съел, по привычке стоя, кусок жареной свинины с хлебом и маринованным огурцом. Допил вино из кувшина, потом вынул из-под кушетки старую коробку с миниатюрными шахматными фигурками, нетерпеливо открыл ее, чтобы поиграть. Он берег их с детства. Его наполняло радостью сознание, что он один дома, что никто его ни о чем не спросит, ни в чем не попрекнет.
Потом убрал коробку и полез в гардероб за другой. В этой была модная шляпа, желтые полуботинки, темно-серый костюм из настоящего английского сукна (то есть ничего похожего на послевоенную дерюгу фирмы Нехера или Ролны[39]39
Самые известные в те годы чешские фирмы, производящие готовое платье и костюмы.
[Закрыть]), темно-синее зимнее пальто с воротником из заячьего меха и шарф.
Все это он нашел разложенным на столе как-то утром, через несколько дней после того, как они переселились сюда. Встал, с интересом осмотрел, одобрительно кивая головой, какие, мол, красивые вещи, и собрался было облечься в старый костюм, но не нашел. Тогда только сообразил, что должен все это надеть на себя. Жена перестала уговаривать его и прибегла к радикальному способу. Речан с ужасом подумал, что вот-вот придет служанка и застанет его в нижнем белье. Нужно было немедленно что-то предпринимать. Им овладела злоба. На такое он имел право обидеться. Нет, жена не шутит! Но и он не позволит вот так обращаться с собой. Как только она смеет унижать его?! Что он, сопливый мальчишка? Не медля побежал, дрожа от холода, прямо в спальню жены, чтобы обругать ее. Но пока миновал коридор и приблизился к ее двери, ругаться раздумал. Однако все же открыл дверь и на пороге вполголоса сказал:
– Жена, где моя одежка?
Она притворилась, что спит, и даже не повернула головы.
– Эва, где моя одежка?! – крикнул он энергичнее.
Жена повернулась, злобно взглянула на него совсем не сонными глазами, проглотила слюну и выпалила:
– Все твое на столе! Теперь у тебя будет такая одежка! Ты не станешь ходить по улицам, как бродяга или извозчик с хутора. Я сыта этим по горло! Надень, что я тебе приготовила, и ступай вниз, пора открывать, а то будет давка.
– Где моя одежка? – спросил он снова.
– На столе! – отрезала она и вся закрылась периной, показывая, что спорить бесполезно.
Он захлопнул дверь и побежал обратно на кухню. Еще раз перерыл гардероб, потом чулан, но ничего не нашел, даже своего картуза. Потом, уже в лихорадочной спешке, вдруг с облегчением вспомнил что-то. Накинул зимнее пальто жены, помчался во двор и оттуда, дрожа еще больше от холода и ветра, под дом в прачечную. Старый полушубок, галифе, сапоги и любимый кожаный картуз нашел брошенными в угол на дрова – вот такую судьбу уготовила им жена: их должны были спалить.
Тут же на месте он оделся и с победоносным видом вошел в своем традиционном одеянии на кухню. Там, все еще обиженный и сердитый, упаковал новую одежду в большую коробку в знак того, что полностью отвергает ее, и положил обратно в гардероб, решив никогда больше не открывать.
Вскоре появилась жена. Видимо, пришла убедиться, как сидит на нем обновка, но, как только открыла дверь, довольная улыбка сошла с лица. Изумленно остановилась, схватилась, красная как рак за горло, сделала шаг назад и так хлопнула дверью, что та затрещала. Он предчувствовал, что еще до его ухода на бойню в кухню придет и дочь, но все равно был ошеломлен, когда та действительно пришла. Она появилась в дверях, бледная со сна, и он, обрадовавшись, что видит дочь, уже хотел ее пожалеть, но дочь не предоставила ему такой возможности.
– Отец, – начала она резко, но сразу же приняла равнодушный вид, чтобы он не подумал, что его персона сколько-нибудь занимает ее, – сказать вам, как вы, прошу прощения, одеваетесь? Что, вам надеть на себя нечего, что ли? Ведь есть у вас кое-что получше, мать вам завела все необходимое и положила под нос, а вы… вы что, так хотите идти на бойню через весь город? Слушайте, ну почему вы ходите, как деревенщина, голфойтош – как тут называют всяких голодранцев? Ну? Почему ходите, как дядя Адам из Муоцы, на которого все собаки кидались, только заметят, что он идет вниз по улице… Говорю, ходите здесь, как деревенщина, а мы ведь в городе, вы что, забыли? Переоденьтесь, а то мама злится, ведь нам здесь все будут глаза колоть вашей допотопной одежкой…
Он смотрел на нее, довольный, что она вообще обращает на него внимание, что так доброжелательно обращается к нему, и уклончиво улыбался. Но вдруг у него сжалось сердце и непроизвольно вырвалось:
– Доченька, какая ты бледненькая… Детка моя, в лице ни кровиночки. Ты должна есть получше и спать ложиться пораньше… тебе нельзя уставать, легкие будут слабые.
Дочь виновато округлила глаза в смятении уставилась на него. Потом круто наклонила голову, словно для того, чтобы он не увидел ее вспыхнувших щек, и убралась за дверь.
Он уже уходил, когда снова вбежала жена, одетая в длинный халат с цветочками. Посмотрела на него в упор и, выразительно подняв палец, заговорила:
– Штево, последний раз говорю, опомнись! Следи за собой, как мы с Эвой следим, а то плохо будет, увидишь, мне уже надоели твои фокусы. О чем ты думаешь? Разве ты не видишь, что здесь нужно жить по-другому? Разве не понимаешь, что здесь мы нашли счастье и у твоей дочери будет хорошая жизнь? Скажи мне, старый, почему ты брыкаешься? Почему позоришь девушку и меня тоже? Ведь над тобой здесь, боже мой сладкий, детишки и те потешаются… Разве ты не понимаешь, ты, старый гриб, старьевщик проклятый, что раз у тебя такой магазин, то ты обязан держать нос кверху? А? Почему я должна все время выслушивать насмешки, что у тебя денег что ли нет на одежду получше?
Он стоял в полумраке, потому что уже потушил свет и в кухню падал только отсвет из коридора, откуда пришла жена, да луч, проникающий из передней через окно над кухонной дверью. Он видел ее хорошо, она стояла в дверях на свету, но его она видела хуже, за окном царила темнота. Он еще не перестал злиться на нее, и поэтому у него хватало смелости ответить резко.
– Нечего всем показывать, что ты богатеешь. Не забирай слишком высоко, Эва, не забирай… а то все тебе будут завидовать. Понимаешь? И помни, когда ослу легче всего, значит, он идет по льду. Люди это хорошо знают от старших, которые в жизни всякое видали. Ты говоришь – счастье, а я говорю – мы здесь живем еще слишком недолго. Так-то. Здесь, в Паланке… и вообще на свете. Разве ты знаешь, что будет завтра? Я вот – нет, не знаю, Эва. И ты тоже не знаешь. Так что не очень-то полагайся на это счастье, лучше полагайся на разум. Нам повезло, это правда, только счастье неверное, оно не сидит на месте, уйдет дальше, другие тоже его ждут, не радуйся, его и другим перепадет, ведь если бы оно улыбалось все одним и тем же, так и к тебе не попало, не пришло бы в твой дом, разве я не прав? Не думай о нем слишком часто. Кто знает, что он смертен, тот не потеряет головы, если, как говорит Волент, ему идет карта. Знаешь… ты сама знаешь, что в мире есть и несчастье, что они со счастьем как родные братья, всюду вместе… Я тебе не мешаю, радуйся на здоровье, балуй себя и нашу дочку побалуй, я тоже этого хочу, говорю тебе, Эва, я тоже о ней думаю, не бойся! И еще, может, побольше твоего, ведь, пока ты носишься со счастьем, я должен здесь приглядывать за бедой, чтобы мы думали о них вместе. Оставь меня в покое, прошу тебя, у меня здесь свое дело, ибо, как я тебе сказал, по свету ходит беда… и ходит она, ты сама знаешь это, не по горам, а по людям. Ты приглядывай за счастьем, его сторожи, а я буду заботиться о своем деле. Хорошо, что мне удалось это сказать тебе, я уже давно собирался, но с тобой теперь не поговоришь, от тебя в ответ только и жди, что крика да шума.
Она не сразу опомнилась, так как не привыкла к тому, чтобы он держал такие длинные речи. Наконец прервала его:
– Не болтай языком, Штево, я этого не люблю. С самой нашей свадьбы ты только и знаешь, что ухаешь, как сыч, все плохого ждешь. Но сейчас пришла пора петь другие песни… Здесь надо жить по-другому, и я не отступлю, слышишь? Не отступлю даже… ну что бы там ни было! Эту твою беду здесь видом не видать, разве что она в тебе самом прячется, как я начинаю думать… Так что лучше помолчи. А счастье – вот оно.
Дернул плечом. Она заметила это.
– Хочешь меня разозлить? Да?.. Иной раз я думаю, что ты просто не способен равняться по здешним, потому вот и ухаешь, как сыч, скорее всего так оно и есть… Хотя ты и всегда был сычом… Но меня этим с толку не собьешь, меня этим, Штево, уже не собьешь, я сама знаю, что нам здесь нужно, а тебя не мытьем, так катаньем нам с Эвой придется переупрямить. Пойми ты наконец: мы живем в городе…








