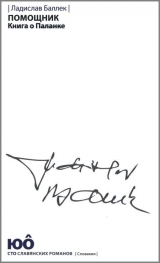
Текст книги "Помощник. Книга о Паланке"
Автор книги: Ладислав Баллек
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 20 (всего у книги 28 страниц)
Старый Варга работал на паровом плуге на полях усадьбы, он не знал как следует по-словацки, поэтому казался молчаливым. Он уже в двадцатые годы дрался против адмирала за Будапешт и был одним из десяти венгерских антифашистов в Паланке, которые пережили войну и репрессии.
Самой значительной частью посетителей кафе были сторонники демократов, заведомых победителей на предстоящих выборах. Среди них сегодня были двое из районного секретариата ДП. Они пришли сюда, элегантные и самоуверенные, с Полгаром, первым мясником в городе, и его красавицей женой Нелидой. Может быть, она и не была так уж красива, было в ее внешности и что-то кукольное или детское: слишком круглое личико, слишком светлые волосы, но большие, как будто с чужого лица ярко-синие глаза с густыми и длинными ресницами делали ее интересной.
Все господа за столом наперебой ухаживали за ней, а она отвечала им веселым смехом, каким-то легким, завлекательным, так что всем казалось, что они сидят с необыкновенно приятной и красивой женщиной. В этой компании, собственно, о политике и не говорили. Зачем? За этим столом царило самодовольство, уверенность в своем превосходстве над всеми прочими. Этим господам не в чем было убеждать друг друга, все было ясно, все шло как по маслу. Преимущество было на их стороне. Гости из района разве что могли позволить себе рассказать политический анекдот или вспомнить о каком-нибудь невинном скандальчике в высших политических сферах. У них был свой стиль, свои манеры, они были профессионалы, пустопорожние ресторанные разговоры о политике – это не для них, пусть этим занимается убогая оппозиция. Для политики отведены другие, более достойные места – салоны, еще лучше – уютные, хорошо охраняемые кабинеты, где у стен нет ушей. Политика не делается публично, для улицы остаются улыбки, благородные жесты, когда нужно – респектабельность и даже чопорность. Они пришли сюда, чтобы развлечься, возбудить в людях симпатии своими хорошими манерами, распространять вокруг себя уверенность и спокойствие, доказывая, что все в порядке, все развивается так, как и ожидают присутствующие. Все будет как надо, ибо дело находится в их – то есть в самых верных – руках. Они пришли показать себя, такая уж здесь есть предвыборная манера.
Так что в этот вечер самыми пьяными были спутники доктора Бенко. Они были и самыми оживленными, хотя и не самыми шумными. Мир и его проблемы волновали их больше всех. По мере того как они пили, они постепенно меняли свои позиции, отказываясь понемногу от своих утверждений, чтобы не злиться друг на друга до забвения правил старой доброй ресторанной игры. А те гласили, что, как только прения вступят во второй тур, надо что-то исправить в своих заявлениях, чтобы остальные, боже упаси, не подумали, что наткнулись на упрямца и заядлого догматика, от которого идет одна смута и который портит хорошее застолье.
Сейчас ораторствовал Филадельфи, он уже дозрел и был самым нетерпеливым: у него времени было меньше, чем у других. Он, по своему обычаю, пророчествовал, как Сивилла, вещая, что коммунизм пройдет по всему миру – и тут уж ничего не попишешь, – скоро все они будут одалживать друг у друга портянки. В этой войне человечество упустило последний шанс поумнеть и заслуживает только нашествия татар, Тамерлана, Аттилы – Бича Божьего.
Потом вдруг вспомнил, как любит людей и Паланк с вечно гудящей зеленью, которая его опьяняет и всегда настраивает на то, чтобы выкинуть какой-нибудь фортель, потому что она больше всего напоминает о бренности жизни, нашептывает ему об этом каждую ночь, так что он теряет сон.
Потом Филадельфи начал раздумывать о себе. Почему он стал подонком? И не он один. После бедствий этой войны их целые толпы. После каждого рокового события в жизни людей остаются горы человеческих отбросов. Такое бывает и при менее значительных изменениях в процессе развития цивилизации, даже после любого крупного открытия или технического изобретения, будь то колесо, паровая машина, турбина, ткацкий станок, железная дорога, электричество, самолет, открытие атома и так далее, ему даже казалось, что это случается и после возникновения любой революционной идеи. Человечество, утверждал он, дорого платит за каждое свое достижение. Каждое такое изменение затрагивает огромные массы людей, которые не в состоянии воспринять его как надо. Физически или духовно. И в результате они до конца жизни страдают от этого. Жизнь представлялась ему все более сложной, и не каждому дано к ней приспособиться. Он не видел в розовом свете будущее простых людей, ведь что они будут делать, когда управлять миром будет электричество и всякие хитроумные машины?
Поначалу его слушали с интересом, потом, когда его понесло и он начал утверждать, что ничего не происходит по воле человека, начали возражать, потому что закон доброго и потому длинного диалога обязывает принять в разговоре противоположную точку зрения.
Блащаки вышли на свежий воздух, атмосфера кафе начала им надоедать. Оба были людьми неискушенными, и через минуту им самим стало просто непонятно, зачем их туда занесло, там же просто нечем дышать. Жизнь подобных общественных заведений была для них загадкой. Им казалось, туда кто-то нарочно нагоняет отравленный воздух. Их охватило беспокойство и недоумение: люди такие разные, что же их там объединяет? Эта разность сбивала их с толку – такие люди, как они, естественно, желают с каждым как-то договориться, но это предполагает какую-то большую или меньшую духовную близость.
Недалеко от гостиницы стояла стройная, статная цыганка с младенцем. Возле нее топтался лысый немой парень, который на пальцах объяснял, что хочет взять ребенка на руки. Цыганка отмахивалась от него, но скорее для вида, словно боялась остаться наедине с ним. Она караулила Филадельфи, с которым путалась, чтобы выпросить у него денег на ребенка.
Блащаки обменялись взглядами. Жена передернула плечами и прибавила шаг, чтобы скорее выйти из круга света, идущего от гостиницы, в тень деревьев, и покрепче прижаться к плечу своего мужа.
Они направились к дому, не ведая, что ждет их на пути.
Довоенный Паланк пользовался славой одного из самых веселых городов республики. В нем еще жили нравы старой монархии.
Во времена первой республики Волент Ланчарич любил посидеть в погребках Сквуора, Бабинделли, Храшека или Сунёдья, где по тогдашним ценам за одну крону двадцать геллеров можно было получить литр доброго вина и отменную порцию жареной гусятины с белым хлебом. Но еще больше любил «Чехословацкий клуб» Вытлачила – большой трактир недалеко от городских казарм, где подавали превосходное чешское пиво и проходили традиционные осенние и зимние «посиделки», что-то вроде нынешних чаепитий в пять часов. Там всегда бывало весело, в добавление к пиву и моравским или чешским блюдам играл духовой оркестр – оркестрантами были пятеро сыновей трактирщика. В «Чехословацком клубе» обреталось и одноименное общество, занимавшееся упрочением чешско-словацкой взаимности, заходили и офицеры, по большей части чехи и немцы, а также унтера и даже солдаты.
В том году, когда Ланчарича должны были призвать, он ходил туда, чтобы порасспросить про армейскую службу, мечтая, если удастся, дослужиться до унтера и остаться на сверхсрочной.
Во время больших летних маневров десятой дивизии, к которой принадлежал и паланкский пограничный батальон, но с более высокими правами и обязанностями, чем у обычного воинского соединения, что вытекало из его обособленного положения, в городе появился сам командир дивизии генерал Жар. После успешного окончания маневров в «Чехословацком клубе» должен был состояться вечер, который он обещал посетить. Паланк всегда сходил с ума по военной форме, и присутствие такого чина наэлектризовало весь город, так что он просто задыхался от тщеславия и в честь такого случая был нарядно украшен. В городе не было ни одного пребывавшего в добром здравии паланчанина, который не пожелал бы явиться на Легионерскую улицу, где проходил «большой военный парад», там был подходящий балкон, с которого генерал – высокий мужчина в щегольской генеральской форме – мог приветствовать пограничников, проезжающих перед ним на мотоциклах с колясками с установленными на них пулеметами – великолепной продукцией всемирно известных чехословацких оружейных заводов. Это была прямая демонстрация боевой готовности в ответ на территориальные притязания южного соседа, который не скрывал своих целей, как не маскировались и раскольнические силы паланкского подполья.
Каждому хотелось увидеть генерала, поэтому весь Паланк высыпал на Легионерскую улицу, запрудил тротуары, заполонил все уставленные геранью окна. Многим хотелось лицезреть генерала, не обременяя себя предписанной субординацией: за бокалом вина, беседуя или даже танцуя. Но никто не жаждал этого больше, чем Волент Ланчарич, приказчик Кохари.
Пока во всех помещениях трактира, отделанного светлым полированным деревом, не разыгралось настоящего веселья, Ланчарич сидел с парнями в распивочной. Потом втерся в общество курсантов школы офицеров запаса, которые из всех служащих в армии всегда напивались первыми, оттого что еще не совсем влезли в шкуру служивых вояк, не свыклись с военной жизнью, командирскими правами и не отрешились от тоски призывников. Среди них один был явно не в духе: ему на маневрах не удалась разведка, более того, он чуть было не устроил пограничного инцидента, когда, разыскивая мнимого противника за рекой, заблудился в кукурузе и перешел границу. К счастью, генерал, маркировщики и корпус посредников из штаба дивизии ничего не заметили, курсант и его разведчики вовремя опомнились, но их оплошность не ускользнула от внимания штабс-капитана Плахты, заядлый вояка пообещал рассчитаться с ними потом. Плахта был не дурак, чтобы придавать этому гласность: дело-то касалось и его, но то, что он, образцовый солдат, должен кого-то покрывать, через неделю так его допечет, что взыскания виновникам обеспечены.
Курсант, черноволосый парень из Топольчан, по гражданской профессии строитель, переживал не за себя, а за своих солдат, к которым штабные офицеры особенно строги. Он все подзуживал товарищей спеть старую солдатскую песню «За государя императора…», которая так славно орется, но они все не решались и распелись только уже под хмельком. И Ланчарич с ними.
Он не привык пить водку с пивом, начал просто за компанию, вскоре упился и вышел на свежий воздух в близлежащий скверик, расположенный между домами и бывшей городской стеной (старые паланчане называли эту часть города Паркан). Он не переставал петь, чтобы быстрее прийти в норму, и приставал к служанкам, поджидавшим своих пьяных солдатиков, чем привлек к себе внимание жандармского патруля. Тот подошел урезонить его, терпеливо уговаривая не делать глупостей, терпеливо – потому что здешние жандармы знали, что он за птица. Но ему это все равно не понравилось, и он стал задираться, бравируя перед служанками, сбежавшимися на шум. Разозленные жандармы пытались его увести, но он не давался, за что и получил по затылку дубинкой, ему надели наручники и отволокли, конечно, в сопровождении толпы зевак, в жандармерию. И там оставили на хлебе и воде до понедельника, пока за ним не явился Кохари.
Ланчаричу было до смерти обидно, что он не смог погулять в клубе до утра и лишился похода по окрестным деревням, куда курсанты собирались в воскресенье после обеда. Во время маневров они свели знакомство с девушками и высмотрели хорошие погребки. Кому было бы не жаль лишиться такого развлечения? Ради этого он втирался курсантам в дружбу и даже платил за выпивку. И все пошло прахом. Гордый, самоуверенный парень – и вдруг такой срам! Долго Волент стыдился показываться людям на глаза. Воспоминание об этом инциденте было мучительно до слез и забылось не сразу.
С тех пор Волент озлобился на жандармов. Тогда он много пил. Готовился идти в армию, радовался грядущей перемене в жизни, но пил потому, что не мог справиться с неуемной силой, юношеским сумасбродством, грустью и слишком бурным темпераментом. Как-то раз в подпитии решил заявиться в жандармерию ночью. И отправился, захватив в карман пригоршню камней и с железной палкой в руке. Дело кончилось больницей, так его отделали разозленные стражи порядка. Он рвался к ним через окно и угодил в комнату, где сидел штабс-вахмистр Худечек – которого знали даже внизу, в Далмации, где он служил еще при Франце-Иосифе, при случае увеселяя местных жителей борьбой с ярмарочными медведями и силачами. Он тоже вырос на дворе мясника и, хотя был уже не первой молодости, с пьяным парнем разделался в два счета.
После этого случая Ланчарич не переставал провоцировать жандармов и до осени еще раз угодил в участок. Ему даже пришлось немного отсидеть; Кохари, хотя он был вынужден разориться на очередной штраф, к дебоширству приказчика относился с долей снисходительности, ибо направлено оно было против режима, который он не любил. В определенных кругах он этим даже хвастал, а позже, после занятия Паланка, – публично.
Как мы уже говорили, довоенный Паланк принадлежал к числу самых веселых городов республики, и буйство Ланчарича казалось здесь уместным. В таком городе просто должен был появиться такой вот неукротимый мужик, пьяница и дебошир, силач и бахвал, человек вообще-то незначительный, но желающий отличиться любой ценой.
Долго рассказывали историю, как жандармский патруль однажды зимой на улице нашел его, пьяного, валяющимся в сугробе. Жандармы пожалели парня и хотели поставить его на ноги, но он так развоевался, что извалтузил не только их, но и жандарма, подоспевшего на подмогу. Это было, когда Волент уже вернулся из армии, где, конечно, его оставить не захотели (он считал это обидой и делом рук здешних жандармов). В общем, у него была дурная слава. Несколько раз его судили (хотя в его «деле» были зафиксированы отнюдь не все его номера – жандармы смотрели на своего «друга» сквозь пальцы), начальную школу он не закончил, у него не было даже пяти классов, в армии не прижился, начав службу на кухне и закончив ее в полковых конюшнях, генерала своего в глаза не видел, хотя военную службу в Чехии вспоминать любил.
Теперь он об этом предпочитал умалчивать, но в Паланке были еще такие, кто помнил историю одного футбольного матча. Приехал какой-то прославленный FC[51]51
FC – футбольный клуб.
[Закрыть]. Это было незадолго до Венского арбитража, в Паланке поднималась мощная волна шовинизма, так что футбольный матч превратился в подозрительную демонстрацию. И вдруг на глазах у зрителей Волент без всякой на то причины ввязался в драку с жандармом в штатском – к превеликой радости присутствующих он положил его на лопатки и гордо удалился.
С годами Ланчарич излечился от подобного дебоширства. Но когда-то было достаточно, чтобы в его присутствии в корчме вспомнили жандарма, как он сразу так взрывался, что нельзя было понять, о чем он говорит. Бил от злости ногой в стол, швыряя шляпу об пол, просто задыхался от ненависти. Он и теперь не прощал оскорблений, но научился подавлять свой гнев.
Пожалуй, все же он был невезучим. Он ведь и сам толком не знал, почему так задирается, отчего ему так хочется командовать и всюду пускать в ход свои кулаки. И откуда только бралась в нем эта фанаберия? Тут, наверное, и Кохари был виноват, таким он воспитал его доя себя – напористым, неукротимым цепным псом своей бойни, телохранителем сына, себя самого и своей жены.
Многое Волент перенял от своего мастера. Тот, бывало, расправлялся с непокорной вещью, разбивая ее вдребезги. Если ему не поддавалась кость, он бросал ее об пол, в ярости разбивая топором. Это качество проявилось и в Воленте. С ученических лет. Он и с ножами иной раз поступал так же. Если нож ему не нравился, он изо всех сил швырял его в угол или загонял в стол, иной раз корежа стол и раня себе руку. Поначалу он так же безобразничал и на бойне, а позже, когда набрал силу, кидался даже на взрослых мужиков.
Как-то раз, еще в бытность учеником, на ярмарке его лягнул конь. Сначала это его поразило, но в следующий миг он кинулся на лошадь как бешеный, и Кохари потом пришлось возмещать убытки хозяину коня. А однажды подростком он шагал через поле в сильную грозу, убежденный, что ничего с ним не случится, и его ударило молнией. Два дня он провалялся без сознания. Это не прошло бесследно, и в пьяном виде сказывалось. Он говорил потом, что ничего не помнит. Дескать, трахнуло по ногам, и все. С тех пор Волент не прикасался даже к электрическим пробкам, никто не мог заставить его перейти реку вброд или сесть в лодку. В дни наводнений он к реке близко не подходил, словно боялся: а вдруг там что-то произойдет и он не найдет в себе сил прийти на помощь и посрамит честь своего имени, которым так гордился.
Со стихиями он больше в поединок не вступал, ненавистных его сердцу жандармов предпочитал обходить стороной, не пропуская, однако, случая их обругать, а любовниц своих старался менять чаще.
Оставалась мечта о самостоятельной торговле. И вдруг он впервые в жизни влюбился. Раньше у него словно и не было времени для этого чувства, он как будто только сейчас для него созрел. Тридцати с лишним лет!
Вместе с новыми, ранее незнакомыми ему заботами души, которые, как он говорил себе, ему черти накачали, в нем пробудился прежний характер. И только теперь он наконец осознал, что все дебоши, которые он устраивал, проистекали от его болезненной чувствительности и тоски. С тех пор как он начал понимать жизнь, он непрестанно думал о своей участи, о том, что он обойден судьбой. Он – сирота, потерянная душа, зависящая от милосердия чужих людей.
О детстве ему нечего было вспомнить, оно виделось ему разве что в кошмарных снах, а если что и вспоминалось, то его бросало в дрожь, словно в его детские годы не было ни единого солнечного дня, одни только ранние туманные утра, промозглые и сумрачные, когда он должен был вскакивать с кровати, разбитый после вчерашних трудов, и мчаться затапливать котел, а потом промывать кишки в ведрах с ледяной водой. Ох, как же он все это ненавидел! Всю эту суматоху вокруг забивания животных, эту жестокость труда и обращения, грубые нравы мясников, равнодушных ко всему живому! Никто никогда не обращался с ним как с ребенком, в лучшем случае накричат, чтобы пошевеливался да делал как следует, хоть он старался изо всех сил всем и во всем угодить. Сирота, мальчик на побегушках… Кому он объяснит это?
Сложность отношений ему мешает, он не может с нею совладать. Она обессиливает его. Впервые он встретил женщину, перед которой пасует. Волент переживал это как свое поражение, как оскорбительную неудачу. Его пугало, что теперь он не сможет жить привычной жизнью, утратит здравый смысл и остроту ума. Господи, до чего же он раскис! Он и за рулем теперь какой-то сам не свой, и на бойне, да и в торговых делах не такой сноровистый и уверенный, как прежде, теперь он равнодушен ко всему, что еще недавно было первостепенным в его жизни. Ему хочется горько и зло смеяться, когда он вспоминает свою прежнюю молодецкую удаль, свою спесь. Зачем они, если не могут защитить от этой напасти?
Как он ни сопротивляется, Эва (про себя он уже называл ее так) манит его непреодолимо. Не дает покоя! Опытная и хитрая баба! Какое у нее сбитое, ядреное тело! Оно возбуждает в нем неимоверную жажду, которую он не в силах одолеть. Скоро ведь ее цветению придет конец, и она, по всему видно, готовится принять какое-то решение. Даже сопляк Цыги и тот чувствует ее привлекательность и ищет случая, чтобы лишний раз поглазеть на нее. Да, вылеплена она из самого лучшего женского теста. Речан, конечно, никогда не мог справиться с ней: сразу видно, как она изголодалась по настоящему мужику. А теперь еще она осознает, что пора ее проходит. Чувствует, что это последний шанс.
Волент иной раз просто ненавидит ее. Почему она не оставит его в покое? Почему не держится мужа? Почему столь демонстративно дает понять, что у нее кое-что на уме? Зачем кружит мужчинам голову? И он бесится, представляя себе, что Эва может спутаться с кем угодно.
Господи, какой же этот Речан дурак! Разве он не видит, что происходит?! А если видит, почему, господи боже, ничего не предпримет? Ничего-то он не может решить, сдвинуть с места, только стоит всем поперек дороги.
Что они за люди, почему вызывают в нем такие противоречивые чувства? По паланкским понятиям, они относятся к нему неслыханно хорошо, но и он к ним тоже. Что есть, то есть. У него полно всяких планов, он грозится свернуть ради них горы, работает, как на собственную семью. И хотя он вроде бы видит их насквозь, но чувствует, что ничего-то о них не знает. Какие-то они все для него непонятные, непроницаемые, словно он стоит на солнце, а они в тени. Может, они знают его лучше, чем он их. Не понять ему этих словацких горцев, но, случись так, что ему бы пришлось их оставить, это было бы для него равносильно смерти.
Ах уж этот Речан! Как он его облапошил! Запутал в свои паутины, которые втихую прядет из бездонного родника своего человеческого достоинства, которое здесь все, как есть все признают. Хотя поначалу над ним смеялись, сегодня всякому он импонирует этим своим достоинством, своей скромностью и молчаливостью, покорностью и терпением – чертами, столь редкими в том краю. Ему засчитывают даже то, что его, Волента, он не прогнал с бойни, дал хорошую квартиру и так много ему позволяет.
Своим характером этот чудак испортил даже его. Да, может статься, что придет день, когда они закроют магазин и пойдут с котомками за плечами, словно какие-то проповедники, будут ходить из села в село, от города к городу… станут мирить поссорившихся соседей, проповедовать и морочить людям головы речами о грехе и милосердии.
Сегодня Волент выпил больше обычного. Им овладела злость и желание попасть в компанию, где бы он мог орать, сквернословить, опрокидывать столы. Он выпроводил жену соседа, которая, как обычно, забежала к нему после закрытия парикмахерской, и побрел в город.
Заметив Блащака, он спрятался за табачный киоск. Он и сам не знал зачем. Не мог позабыть оплеуху, которую получил от жандарма? Конечно, не забыл, но в тот момент он об этом не думал. Он и правда не знал, почему спрятался, но знал точно, что караулит именно жандарма.
Блащаки жили на Почтовой, вахмистр ходил на службу мимо мясной, на презрительные взгляды Волента отвечал так высокомерно, словно по своему общественному положению и личным качествам стоял куда выше приказчика.
Ланчарич икнул от волнения, и Блащакова, проходившая как раз мимо киоска, вскрикнула. В пьяном мозгу Волента это прозвучало как вызов. Он выскочил из тени и угрожающе загремел.
– Ах, это ты? Кому собрался бить морду?
Блащак сразу же инстинктивно толкнул жену себе за спину. А мясник пер прямо на него, и жандарм в растерянности смотрел, как тот идет, будто слепой, с опущенными руками.
– Штево! – крикнула жена, скорее всего, для того, чтобы позвать на помощь.
Для Волента ее крик снова прозвучал сигналом. И, пьяно радуясь, что на обоих нагнал страху, он расхохотался. Противник явно не мог ни на что решиться, его связывало присутствие жены, а может, тишина площади, которую ему не хотелось нарушать, но больше всего, конечно, то, что он был не на службе и не в форме. Пока он раздумывал, Волент влепил ему такую оплеуху, что голова у Блащака одеревенела. Он почувствовал, как у него мгновенно вспухло ухо, кожа натянулась так, что едва не лопалась. Оглушенный, он пошатнулся, но тут же бросился на нападавшего. Они покатились по земле, борясь с таким сосредоточенным напряжением, что им некогда было ругать друг друга. Они не слышали даже, как женщина зовет на помощь. Жандарм, более ловкий и гибкий, высвободился из рук Волента, вскочил на ноги и, пока мясник поднимался, обрушил на его голову столько ударов, что Волент свалился и, ослепленный и беспомощный, остался лежать.
Крики тем временем привлекли дежурных из недалекой жандармерии. Но покуда прибежал патруль, Блащак уже приводил своего противника в сознание, потому что Волент словно бы заснул. Вахмистр решил, что случилось что-то неладное, злость его как рукой сняло, и он думал уже о последствиях и даже сердился на жену, которая подняла такой крик.
Подбежавшие жандармы поставили Ланчарича на ноги. Он очнулся, но, когда его уводили, ноги у него подламывались. Осознав, кто его поддерживает и куда ведет, он начал рваться: никуда, мол, не пойдет, пусть оставят его в покое, и, конечно, заработал еще. Тогда он начал материться и угрожать, что всех до одного зарежет.
Проснулся Волент за решеткой и понял, что дела его плохи. С трудом начал вспоминать, в какое дело впутался. И присмирел, поняв, что угодил в капкан. Голова трещала с похмелья и от оплеух. К нему никто не шел, хотя двери жандармерии все время открывались и закрывались. Неуверенность, которая мучила его, постепенно уступила место жгучей жажде. Он начал кричать, чтобы ему принесли воды. Сначала вежливо. Потом угрожающе. Наконец он понял, что жандармы притворяются глухими. Тогда начал орать, бить ногами в дверь и на все лады ругать всех жандармов, которые все бездельники и только и делают, что шляются по ночам, как шлюхи.
Когда он разошелся вовсю, в здание жандармерии вошел штабс-вахмистр Жуфа. Он решил посмотреть, кто там бушует. Ланчарич начал объяснять ему с пятого на десятое, как он сюда попал и как ему здесь не дают пить, но Жуфа не отвечал, а только мрачно смотрел ему в лицо, так что Волент не выдержал и принялся за него: какой, дескать, сволочью он командует.
Жуфа, местный оригинал, уроженец верхней Оравы, из себя не вышел.
– Вы нарушили закон, – спокойно сказал он Ланчаричу и ушел в свой кабинет изучить рапорт. Там он прочитал о случившемся этой ночью на площади. И решил потребовать, чтобы судебное разбирательство состоялось не в здешнем суде, а в районном центре.








