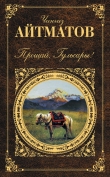Текст книги "Нежелательные элементы"
Автор книги: Кристиан Барнард
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 30 (всего у книги 30 страниц)
Быстро, оправдываясь:
«Вовсе не обязательно».
«Тем не менее теперь ты наиболее вероятный кандидат».
«Возможно».
«А все-таки зачем?»
«Что именно?»
«Зачем ты это сделал?»
«Не понимаю, о чем ты».
«Зачем ты переметнулся? Даже не сказав мне, что уходишь?»
«А почему я должен посвящать тебя в свои планы? Мы оба работаем в одном учреждении, и мне там же предложили другую должность. Только и всего».
«Значит, так».
«Что ты имеешь в виду?»
«Тебе не нравилось быть под моим началом. Ты не хотел навсегда оставаться вторым».
«Не понимаю, о чем ты».
«Прекрасно понимаешь».
«Слушай, Деон, откровенность за откровенность. Мне надо тебе кое-что сказать. Не так ты уж прочно держишься, как воображаешь. Ты ведь не единственный хирург на белом свете».
«Спасибо».
«Что?»
«Спасибо, старый друг. Спасибо, доктор Робертсон».
«Не стоит благодарности, профессор…»
Робби. Рыжие волосы, веснушки, очки и бодрая насмешливая ухмылка. Старина Робби, всегда наготове улыбка, быстрые шутки, нарочито грубый ответ. А за улыбкой – разъедающая душу неудовлетворенность, скрытая зависть, жгучее честолюбие. Старина Робби.
Нет. Звонить ему он не будет.
Глава двенадцатаяСнова он стоял у этого стола, который был одновременно скамьей подсудимого, мостом для свидетелей и креслом судьи. Здесь он был единственным судьей и потому в равной степени и главным обвиняемым.
Меньшая лампа из верхней пары была плохо наведена, и на легочную артерию падала тень. Он свирепо взглянул на эту плохо светящую лампу, и один из студентов, которые тесным кольцом окружали стол, слегка повернул ее.
– Слишком далеко, – резко бросил Деон. – Правее.
Пятно света переместилось.
Он буркнул «спасибо» и снова нагнулся над открытой грудной клеткой.
Когда они вскрыли перикард, Питер Мурхед, работавший напротив него как первый ассистент, присвистнул от изумления. Деон угрюмо кивнул. Чудовищно гипертрофированный левый желудочек и миниатюрный правый рядом с ним (словно два шара, подумал он, один надутый, другой спавшийся) были точно такими, какие он и ожидал увидеть. Они, как и общий вид сердечной мышцы, подтвердили диагноз, который, впрочем, и так сомнений не вызывал: атрезия трехстворчатого клапана.
Питер отодвинул аорту, и Деон мягко ввел иглу от нагнетателя в правую легочную артерию. Потом взглянул на техника у машины «сердце-легкие».
– Какое?
– Четырнадцать. Колеблется между двенадцатью и шестнадцатью.
– Хорошо. – Первым ассистентом был Питер, но Деон обращался к Мулмену, стоявшему у конца стола. – Как, не очень высокое? – Мулмен кивнул. – Артерия хорошего сечения, – добавил Деон. – Ну, начинаем. – Он повернулся к операционной сестре: – Анатомический пинцет и ножницы, пожалуйста.
Триш он видел утром. Она ждала у послеоперационной палаты, и он хотел остановиться, сказать что-нибудь ласковое, успокоить. Но ноги сами пронесли его мимо, и он только кивнул, когда она поздоровалась. Он знал, что она провожает его взглядом, и еще можно было обернуться, подойти к ней. Он не обернулся и вошел в дверь с надписью «Операционная» так, словно обрел убежище в стенах церкви.
Почему? Ему всегда было трудно разговаривать с родителями ребенка, которого предстояло оперировать. Но Триш? К Триш же это относиться не может? Тогда почему?
Ответа он не нашел.
Он высвободил верхнюю полую вену из того места, где она соединялась с правым предсердием до сочленения с ней яремной вены, а затем – правую легочную артерию до ее разветвления.
– Артериальный зажим, – сказал он сестре.
На какую-то секунду в ритмичных, синхронных движениях, его собственных и двух помогающих ему пар рук, наступила заминка, пока сестра искала зажим среди инструментов. В этом нарушении было что-то оскорбительное, словно долгий и сложный ритуал священнодействия был прерван кощунственной выходкой. Питер и Мулмен подняли головы. Сестра нашла зажим и подала его Деону.
Он помедлил, сосредоточиваясь, перебирая в уме каждый предстоящий этап операции, которая отведет кровь из верхней полой вены в правое легкое. Для этого нужно отделить правую легочную артерию, изолировать зажимом часть верхней полой вены, затем анастомоз рассеченной легочной артерии с разрезом на верхней полой вене. В заключение он соединит устье верхней полой вены с правым предсердием. Вся кровь из этого сосуда пойдет тогда в правое легкое.
Если бы только было возможно разрешить все проблемы столь же просто, опираясь на законы механики!
Он подумал о странном противоречии – медицина, ее изучение и практика сталкивает врачей с самыми суровыми и жестокими сторонами жизни, и в то же самое время медицина укрывает их, оставляет невинными и, может быть, даже чистыми. Они обладают специальными знаниями и особым мировоззрением и из-за этого не в состоянии постичь всю полноту страдания. Им не требуется исследовать жизнь с высоты, не требуется наблюдать мир, медленно крутящийся далеко внизу, с изумлением и тревогой и… да, и со своего рода завораживающим ужасом; смотреть и видеть все эти извивания, ползанье, изгибания, немыслимые искривления и крохотные извержения то здесь, то там; и торопливые, бездумные метания, и толкотню, и карабкание, и странные печальные движения, и безнадежное лавирование, и ужас, и веру, и отвагу – слепую отвагу, которая тоже печальна, которая почти столь же печальна, как и надежда, и любовь, которая печальнее всего.
Все лучшие врачи, которых ему довелось знать, были очень простые люди. В их внешности было нечто общее – тихая сосредоточенность благовоспитанных детей. И, взглянув на них, вы понимали, что они невинные дети, хорошие дети, точно чисто вымытые сиротки в чистом, светлом приюте, которым управляют милые и деловитые монахини. У них не было времени усложнять, и потому им не грозила порча. Но увидеть жизнь в целом они были неспособны, ибо самым верным и самым твердым взглядом обладают лишь те, кого коснулась порча.
Утром он прошел мимо Триш в коридоре, только кивнув ей, и не обернулся, не подошел.
Утром он попрощался с Элизабет бесстрастным поцелуем и пошел к гаражу, не обернувшись.
Не знаю, думал он. Если ответ и есть, я его не знаю.
Мне надо разделить легочную артерию. Для этого я должен перевязать ее у разветвления, затем наложить артериальный зажим там, где артерия соединяется с легким.
Не окажется ли анастомоз слишком высоким?
Не знаю.
Он подумал, что, пожалуй, впервые столкнулся с неразрешимой проблемой. Не меньшей по масштабам, чем сама жизнь.
Может быть, и я тоже всегда был в сущности простым человеком. Мои честолюбивые желания, мои усилия никогда особой сложностью не отличались. Я не заглядывал особенно далеко и не задумывался над неприятными вещами. Может, в этом мои вина. Вина в невиновности.
Должен ли я измениться? Или жить, как жил до сих пор?
Проблема была неразрешимой, и он подумал, что, быть может, это плата за познание, за право знать, что определенна только неопределенность.
Он наложил малый венозный зажим Кули на полую вену и скальпелем с обоюдоострым лезвием сделал аккуратный разрез длиной в четверть дюйма на изолированном участке вены.
– Шелк. Пять-ноль.
Он начал сшивать отсеченный конец легочной артерии с разрезом в вене.
– Следуйте за мной, Питер.
Он с удовольствием постороннего наблюдателя заметил, что работает хорошо. Руки обрели твердость, и каждый стежок накладывался с абсолютной точностью.
На мгновение он испугался этой отстраненности. Разве можно не быть сопричастным, не разделять страдания я боль, не истекать кровью, когда истекает твой ближний, не плакать, когда плачет он?
Ему вспомнились слова, которые произнес накануне утром Филипп у статуи Родса.
«Нельзя повернуться спиной».
Они говорили о планах Филиппа, о том, что он собирается отвечать комиссии по расследованию.
«Я просто подам заявление об уходе. Этого будет достаточно».
«А потом? – спросил Деон. – Вернешься в Канаду?»
Филипп ответил не сразу.
«Не уверен. Собственно говоря, я подумываю, не вернуться ли в Бофорт-Уэст».
Деон с недоумением уставился на него.
«Ты шутишь! Зачем?»
«Работать врачом».
«Общепрактикующим?»
«Да».
«Ты с ума сошел!»
«Все зависит от точки зрения».
«Но черт побери, Филипп! Ты не можешь этого сделать. Бросить все и заняться практикой в пыльном городишке… – Деон засмеялся и покачал головой. – Извини, Филипп. Это было бы просто глупо».
«Все зависит от точки зрения, как я уже говорил».
Деон попробовал возразить, что это было бы неразумно.
«Но ведь там ты не найдешь применения своим силам. Ведь, прямо скажем, ты один из самых знающих генетиков в мире. И ты говоришь, что намерен уехать в карру, чтобы лечить насморки и прострелы? Этому невозможно поверить!»
«Почему? Я получил диплом врача. Вспомни, Мендель сделал свое открытие в монастырском огороде на грядках с горохом. Может быть, и мне удастся создать лучшую мою работу в тени терновника».
«Я не верю, что ты говоришь серьезно».
Филипп сунул руки в карманы брюк и повел плечами, разминая мышцы. Деон узнал одно из собственных привычных движений и на мгновение растерялся.
«Абсолютно серьезно, – сказал Филипп. – Это не минутный каприз. Я все обдумал. Время от времени следует производить переоценку ценностей, не так ли? А что важнее, лечить истощенного младенца в карру или предупредить рождение еще одного ребенка с синдромом Дауна?»
«Но ты же генетик!»
«Правильно. Но я и врач. И считаю, что теперь мне следует сделать что-то и для этого малыша в карру».
«Тебе разрешат лечить только цветных, ты понимаешь? Даже в больнице».
«Да. Ну и что?»
«Тебе не позволят лечить белых».
Филипп некоторое время смотрел на него молча. Наконец сказал со вздохом:
«Я знаю. Иногда я думаю об этом с горечью. Но иногда спрашиваю себя, такая ли уж большая разница, как и кому служить? Ведь самый факт служения людям от этого не меняется. – Он отвел глаза и добавил застенчиво, словно признаваясь в самом заветном: – Нельзя же просто сидеть сложа руки и кричать о несправедливости. Со стороны ничем не поможешь, Деон. Чтобы внести свой вклад, нужно самому быть участником. Нельзя повернуться спиной».
Оба зажима были сняты, и вся кровь из верхней полой вены теперь поступала прямо в правое легкое.
Деон поглядел через стерильный барьер между ним и анестезиологом.
– Венозное давление?
– Двадцать два. Но оно падает.
– Черт! Надо, чтобы оно опустилось много ниже.
– Оно опускается, Деон. Уже двадцать. – Анестезиолог медленно называл цифры: – Девятнадцать… восемнадцать… шестнадцать… четырнадцать… – Он замолчал. – По-видимому, остановилось на четырнадцати.
Деон взглянул на часы. Операция идет два часа. Позади половина. Как он и предполагал, пока обошлось без обходного шунтирования, но теперь начиналась самая трудная часть, теперь он вступал на территорию, никем до него не разведанную, и никто не мог предсказать, какие ловушки ждут впереди. Он посмотрел на техников, стоящих в ожидании у аппарата «сердце-легкие».
– Хорошо. Вы готовы для обхода?
Они оба встрепенулись, точно внезапно осознав, что их тоже сейчас затянет этот водоворот, этот смерч, центром которого был ребенок на столе, своего рода ось вращения зыбких сил, совсем не казавшихся грозными, пока жертва не оказывалась в их власти, и тогда они неумолимо ее затягивали, и всякие попытки сопротивления оставались тщетными.
Жертва? Да, подумал Деон. Судьи, и палач, и, наконец, жертва. Настоящее уходит корнями в прошлое. То, что я сейчас, определяется тем, чем я был. Что есть этот ребенок, предопределено тем, чем был я. И значит, мы оба жертвы.
Какая-то часть сознания попыталась отогнать неприятную мысль, но он решительно вернулся к ней.
Я ответствен за его страдания. Не в изящном абстрактном смысле, не в снисходительном толковании, что я ответствен постольку, поскольку мы оба принадлежим к роду человеческому. Нет, я ответствен непосредственно и лично. Поступи я в свое время по-иному, его бы сейчас тут не было. А потому я отвечаю за него и отвечаю перед ним.
Никто из нас не может уклониться. Мы делаем то, что делаем, потому что должны.
А что должен сделать я?
Встать рядом с Филиппом? Или предать его?
Вот он, простой выбор, если отбросить все, что его заслоняет: все общие слова о высоких идеалах, долге и обязанностях. Выбор – вот он. Совсем простой.
Он уходит, и я остаюсь. Но прежде, чем отпустить, его заставят пройти сквозь унижение допроса, или трибунала, или как там они захотят это назвать. Как от непослушного ребенка, от него потребуют объяснения.
Конечно, вопрос о яичниках, о том, откуда он их получал, стал теперь сугубо второстепенным, банальным пустяком. А на карту поставлена власть и ее неумолимые требования.
Ибо один человек (и что хуже – цветной!) противопоставил себя власти, равнодушно взирает на ее напыщенную важность и говорит: «Черт с вами».
Должен ли и я пойти туда, встать рядом с ним и сказать то же?
Как сказал вчера Филипп? «Нельзя повернуться спиной».
Найдет ли он счастье, став врачом в Бофорт-Уэсте? Наверное, нет. Но быть может, счастье его не заботит. Он возвращается к своим истокам. Не случайно, что он берет с собой мать, чтобы она пожила и в конце концов умерла среди своих близких. Он возвращается, и ее присутствие сделает его возвращение полным, словно он никогда не уезжал.
Я бы не мог этого сделать. Я постоянно пытаюсь разорвать свои связи с прошлым. Я вырос вдали от матери, вдали от Бота. Мое отношение к ним исчерпывается чувством долга, обязательствами кровного родства. Но вернуться я не могу, потому что это означало бы отступление и признание собственного поражения. Для него это – вызов. Нет, даже менее эмоциональное, чем вызов. Просто проблема, разрешение которой требует всего лишь спокойного научного любопытства.
Может быть, ему повезло, что у него такой характер. Ведь быть таким, как я, и не легко и не особенно приятно. Одиночество, потребность в одиночестве – это болезнь столь же губительная, как рак. Она разъедает человеческую сущность изнутри.
Деон вспомнил, что сказала ему дочь в тот вечер, теперь уже такой далекий. Она сидела на кровати, нагая по пояс, ничего не стыдясь.
Он все еще помнил, какое впечатление произвел на него этот вопрос – помнил до мельчайших оттенков, – сначала удивление и растерянность, затем злость, что ему задает такой вопрос глупая девчонка, совсем еще ребенок, минутное раздумье о том, как посчитаться с ней. И вдруг всесокрушающее ощущение вины, когда он понял, насколько серьезен этот вопрос: «Ты добился? Ты добился?»
«За свои восемнадцать лет ты ничего не добилась, – сказал он ей. – А я… добился успеха».
И она спросила тогда:
«А ты его добился, папа? Добился?»
Он качнул головой, отгоняя воспоминания и заставляя себя сосредоточиться на том, что ему предстояло сделать сейчас, чтобы охладить сердце Джованни и остановить его.
Триш, наверное, все еще ждет в коридоре…
Да, конечно.
Куда мы отправимся отсюда? Есть ли такое место, куда можно уехать вместе? А хочу я уехать с ней? А она со мной?
Наверное, нет.
Секунду-другую он задержался на гладкой, как лед, и, как лед, холодной совершенной простоте этой мысли. Почти безразлично, даже с некоторым удовлетворением, что пришел к ней, точно альпинист, озирающий вершину, когда восхождение завершилось.
Наверное, нет.
Значит, так. А дальше что? Он представил себе знакомое лицо Элизабет: овал, тени, изгиб бровей, некогда любимое подергивание уголков ее рта, которое предшествовало улыбке, непринужденную свободу ее движений.
Элизабет, Этьен, Лиза.
И Деон?
Я не знаю.
– Охлаждать дальше, профессор? – спросил техник у машины «сердце-легкие».
– При какой температуре началась фибрилляция?
– На двадцати пяти градусах, сэр.
– Хорошо. Так и оставьте.
Теперь ему предстояло имплантировать аорту так, чтобы компенсировать заращение трехстворчатого клапана. Они с Мулменом получили материал для трансплантации в полицейском морге – аортальный клапан и кусок аорты длиной в три дюйма, взятый у девочки, которую сшибла машина, когда она каталась на велосипеде. Ее убитые горем родители все же нашли в себе силы дать разрешение на изъятие аорты. В отделении радиотерапии сосуд отстерилизовали облучением из кобальтовой пушки, и теперь он лежал в ванночке на столе с инструментами. Одним концом его надо подсоединить к левой легочной артерии, а конец с клапаном к разрезу в правом предсердии.
– Как, по-вашему, – спросил он Мулмена, – взять нам за образец французов и завести его под аорту или наложить связку, как мы делали в лаборатории?
За Мулмена ответил Питер Мурхед.
– Может быть, французский метод лучше, Деон?
– Откуда это следует? И потом, почему мы должны просто копировать их?
И он наложил имплантируемый сосуд над аортой. Он не мог бы объяснить почему. Так действительно было лучше? Или он просто хотел сделать по-другому? Внести в операцию что-то свое?
На собаках так получалось лучше, сказал он себе. Правда, у собак грудная клетка глубже, но места под грудиной, по-видимому, вполне достаточно. Конечно, этот метод даст хороший результат, как каждый раз давал на собаках.
Триш ждет за дверью.
Элизабет сейчас дома и тоже ждет.
«Нельзя повернуться спиной», – сказал Филипп.
Сможет ли Филипп сохранить это убеждение, когда будет обрабатывать гнойные раны, вправлять вывихи и лечить хронические болезни цветных жителей унылого, открытого всем ветрам поселка на задворках Бофорт-Уэста? Сумеет он наглухо захлопнуть дверь между собой и своим прежним миром?
И снова вернулась эта мысль: бросить его одного или встать рядом с ним?
Причины, по которым мне лучше было бы остаться в стороне, сохраняют свою вескость. Он в любом случае уедет, так есть ли смысл в последнюю минуту брать на себя роль мученика? Да и не было бы это наиболее легким выходом? Сказать им: ну, хорошо, в этом участвовал и я. Если вы вынуждаете его уйти, то, раз я помогал ему, вам остается заставить уйти и меня. И тогда я смогу бросить все, одним махом избавиться от проблем, уехать, куда мне заблагорассудится. Оставить жену, детей, больных, клинику, коллег, вечные свары – весь этот проклятый клубок. И с чистой совестью. Я отстаивал справедливость, и не моя вина, что все так произошло.
Но что труднее: жить с чистой совестью и не знать проблем или же с нерешенными проблемами и ощущением вины, вечно сомневаясь в истинности своих мотивов?
Действительно ли это предательство? Что бы я ни предпринял, ничего уже изменить невозможно.
Накануне вечером, вдруг возмутившись от сознания своей беспомощности, он набрал номер телефона.
Мужчина, взявший трубку, разговаривал настороженно, особенно когда узнал о цели звонка. Однако в конце концов он согласился принять Деона на несколько минут, и через два часа Деон остановил машину перед домом П. Джуберта, члена парламента от националистов, который был отцом девочки по имени Мариетт и однажды подарил белого игрушечного кролика черному малышу.
Джуберт держался с ледяной вежливостью. Они сидели в его гостиной, уставленной массивной полированной мебелью африканского ореха. Ни его полная добродушная жена, ни дочка не вышли к неожиданному гостю.
На вопросы Деона он ответил коротко:
– Мариетт чувствует себя отлично. Благодарю вас. Наш врач смотрел ее на прошлой неделе и сказал, что все прекрасно. – После этого он еще плотнее сжал губы и сморщил длинный нос, словно уловив неприятный запах. Соблюдать условности было ни к чему.
– Вас, наверное, удивило, почему я обратился к вам в связи с опытами профессора Дэвидса, – сказал Деон.
Проницательные глаза с некоторым самодовольством обвели взглядом внушительные и топорные (хотя, скорее всего, дико дорогие, решил Деон) кресла, сундуки и стеклянные горки. На него Джуберт не посмотрел и только неопределенно кивнул.
– Дело в том, что мне известно, каким влиянием вы пользуетесь. И если вам станет ясна цель этих экспериментов, вы поймете, насколько необходимо, чтобы профессор Дэвидс продолжал свою работу. Не говоря уж о впечатлении, которое это произведет за границей.
Опять наступила долгая пауза.
– Эта работа не отвечает интересам Южной Африки.
– Как вы можете утверждать это, не зная, в чем она заключается? – с вызовом воскликнул Деон.
– Она противоречит учению церкви, – продолжал Джуберт, словно Деон его не перебивал.
Переубедить этого человека было невозможно. В конце концов Деон в ярости ушел (в ярости и на себя за то, что явился сюда, что склонился перед врагом). Джуберт проводил его до автомобиля. И только когда они стояли у машины, в нем мелькнуло что-то человеческое.
– Я сожалею, что не могу помочь вам. Особенно после того, что вы сделали для моей девочки.
– Вы ничем мне не обязаны, – не сдержался Деон. – Я прошу только выслушать и подумать.
– Очень жаль, что вы примешали к этому политику.
Деон поглядел на него с недоумением.
– О чем вы, черт побери, говорите? О политике никто и не заикался.
– Английские газеты. Они утверждают, будто мы преследуем этого врача потому, что он цветной. И теперь мы уже не можем отступать.
Деон понял. Памятуя о своей политической карьере (и может быть, вожделенный пост министра совсем уже близок), П. Дж. Джуберт, член парламента, не мог себе позволить выступить в поддержку цветного.
Какие мы странные существа, размышлял Деон. Наша техника дает средства для достижения нашей извечной мечты об обществе изобилия. И тем не менее половина мира голодает. Мы в состоянии посылать ракеты в загадочный мрак космоса или исследовать тайны человеческого тела, как делаю я. И тем не менее мы способны равнодушно смотреть на чужие страдания. Наше нравственное чувство не изменилось. Подобно животным, к которым принадлежим, мы продолжаем подчиняться законам самосохранения, лежащим вне сознания.
Это было еще одно предательство. Но только на этот раз оно оказалось почти желанным. Ведь абсолютное предательство ведет к абсолютному одиночеству? И не станет ли одиночество первым шагом на пути к духовному возрождению?
А может быть, к искуплению моего собственного вероломства?
Филипп сказал: «Нельзя повернуться спиной».
А давным-давно человек средних лет, теперь уже старик, сказал юноше, теперь мужчине средних лет: «Мы можем только пытаться».
Не знаю.
Но, говоря «не знаю», ты подразумеваешь, что никогда не узнаешь, или же этим словам сопутствует безмолвная клятва «я найду ответ».
Эта мысль поразила его настолько, что его руки на миг замерли, так что Мулмен и Питер Мурхед с недоумением взглянули на него.
Ну, конечно, подумал он. Именно так.
«Не знаю, но найду ответ».
Он улыбнулся под маской неожиданной иронии этого открытии. Он обдумал его во всех аспектах и с величайшим тщанием – точно так же, как шовный материал, с помощью которого он только что закрепил имплантат.
Я должен это сделать. Любой ценой! Как я могу знать, если не испытал сам? Я найду ответ. Филипп и я, мы встанем вместе, как братья, перед нашими обвинителями и вместе заглянем в неведомое.
Будь я проклят, если поеду с ним в Бофорт-Уэст, ведь (тоже с иронической улыбкой) мне не надо будет никуда уезжать, так как очень-очень сомнительно, чтобы они что-нибудь со мной сделали. Конечно, Снаймен будет торжествовать – и я, а значит, и все кардиологическое отделение на время окажемся в немилости. Но единственной реальной ценой будет мужество встать на сторону Филиппа.
Итак, я должен это сделать.
Деон посмотрел на Мулмена.
– Как вы думаете? Так годится? Вы ведь делали это много раз.
Неожиданно оказавшись в центре внимания, Мулмен явно растерялся. Он вздрогнул, словно от яркой вспышки света, и поглядел на полувосстановленное сердце Джованни.
– Должно бы.
– Отведите этот конец, – сказал Деон. – Нет, не рукой, пинцетом. Отведите левее.
Он сделал разрез и, не колеблясь, закрыл отверстие между предсердиями – отверстие, которое служило предохранительным обходным кровотоком, поддерживающим жизнь Джованни. Теперь отступать было некуда.
Он соединил конец имплантированного куска аорты с разрезом, которое сделал в предсердии.
Вот так.
Он отступил на полшага, словно желая охватить взглядом побольше, взглянуть на все со стороны. Триш там ждет.
– Оттепляйте, – сказал он. И тут же раздалось жужжание насоса.
Они смотрели, как жизнь возвращается в сердце Джованни: сначала легкая фибрилляция, затем более сильная, и, наконец, обрадованно-счастливые, они увидели, как сердце само вошло в нормальный ритм.
Теперь ты должен сам, Джованни.
И ты тоже должен сам, сказал себе Деон. Раз ты сказал: я не знаю, – и принял бремя, которое влечет это признание, – но я найду ответ, значит, одиночество становится неотъемлемым условием, и ты должен не страшиться его, а приветствовать. Оно – кислота, которая вытравляет все лишнее и позволяет возникнуть образу, суровому и четкому в своей подлинной простоте.
Ты должен сам.
Температура поднялась до тридцати шести, и он велел техникам выключить насос. Он рассматривал бьющееся сердце с предельным тщанием. Правое предсердие как будто хорошо справлялось с новой нагрузкой и гнало кровь в левое легкое.
– Как венозное давление?
– Двенадцать, – сказал анестезиолог.
– Артериальное?
– Шестьдесят пять. Мочеотделение хорошее. – Обычно бесстрастный голос анестезиолога звучал почти ликующе. – По-моему, Деон, вы взяли этот барьер.
– Поживем – увидим, – сказал Деон и обернулся к технику у машины «сердце-легкие».
– Измерим давление в правом предсердии. – Он взял иглу. – Промойте.
– Промываю.
– Пузырьки?
– Нет, профессор.
– Хорошо. Вот ноль.
– Есть ноль.
Деон проткнул иглой стенку предсердия.
– Получаете что-нибудь?
– Да, профессор.
– Среднее давление?
Напряжение у операционного стола передалось окружающим – сестрам, молча ждущим распоряжений, студентам, заглядывающим через плечо друг друга. Может быть, оно передалось даже за пределы этих стерильных стен в коридор, где в одиночестве ждала женщина.
Техник замялся. Затем он зажмурил глаза, точно не веря им.
– Семь, профессор.
– Не может быть! – вскрикнул Мулмен, и сестра из предоперационной, и Питер Мурхед улыбнулись ему. Вокруг раздавались приглушенные восклицания.
– Чертовски здорово!
– Сделано на редкость, Деон!
– Великолепно, Деон! – Это сказал Питер Мурхед.
– Вот это операция!
Ему нестерпимо захотелось уйти. Судорожно проглотив слюну, он отошел от операционного стола.
– Питер, вы с ребятами осушите и закроете грудную клетку без меня?
Он прошел через двойные двери в умывальную, машинально снял перчатки и робу, потом вымыл руки.
Пойти обрадовать Триш?
Нет, лучше немного подождать.
Все в том же оглушенном состоянии он пошел в ординаторскую и налил себе чаю. Чай оказался холодным. Слава богу, операция позади и с Джованни все хорошо.
Он вернул долг. Давний долг. Счеты сведены.
В памяти возникла та ночь. Триш безучастно пересказывает ему подробности аборта, а потом начинает рыдать и признается, что это было ужасно; Триш широко раскрытыми глазами смотрит на то, что могло быть ребенком, и кричит: «Мертвый!»
Теперь он вернул ей сына, живым.
– Деон, идите скорее! – словно издали донесся чей-то голос. – Скорее. Вы нужны в операционной.
Он тупо посмотрел на профессора Снаймена, который стоял в дверях ординаторской.
– Да очнитесь же, Деон! Малыш в коллапсе. Вас ждут в операционной.
Раздумывать, откуда появился старик, было некогда. Не было времени размышлять и о том, зачем он пришел. Деон побежал.
Только одна мысль сверлила мозг, когда он, схватив шапочку и маску, вошел в операционную: «Как я скажу Триш?»
– Что случилось? – крикнул он.
Питер Мурхед в отчаянии силился объяснить.
– Все было прекрасно, пока мы не закрыли грудину. Но тут венозное давление подскочило, а артериальное пошло к черту.
Он предвидел это. Опасался этого. Ребра и грудина придавили имплантат. Все-таки надо было завести его под аорту. А теперь кровоток затруднен. Он ошибся.
Она стояла там же, где он оставил ее, но только лицом к окну. Однако, подойдя ближе, он заметил, что она смотрит не на панораму города за окном, а сосредоточенно изучает пожарный кран в нише за стеклом и плоский свернутый шланг. Он понял, что она видит что-то свое.
Когда он подошел к ней, она повернулась. Ее фигура казалась окаменевшей, но взгляд был внимательным и как будто спокойным. И с тем же проникновенным спокойствием она посмотрела в его глаза.
Он не успел ответить – она прочла ответ в его глазах, и ее лицо стало другим.
Но, словно это была магическая формула, которую необходимо повторять без единого изменения, или ритуал, теряющий силу, если будет упущено хотя бы одно предписанное движение, она все-таки задала обычный вопрос:
– Как он?
– Молодцом.
– Все прошло хорошо?
Он очень устал, но не мог показать этого. Не сейчас.
– Небольшая неприятность, когда закрывали грудную клетку. Прижало пересаженный сосуд. Но машина «сердце-легкие» еще оставалась стерильной и никаких сложностей не возникло. Мы направили сосуд как нужно без всяких сложностей.
Без малейших сложностей, сказал он себе. Если не считать того, что я чуть было не убил твоего ребенка. Триш не разбиралась в хирургических тонкостях.
– И Джованни будет совсем здоров?
– Ручаться тут трудно, Триш. Но я думаю, что да.
– Слава богу! Когда мне можно будет его видеть?
– Немного погодя. Мы переведем его в послеоперационную палату и, как только все будет налажено, позволим тебе взглянуть на него.
– Спасибо.
Они пошли рядом по коридору.
– А как твои дела? – спросила она.
Деон замялся, а потом спросил уклончиво:
– Что ты имеешь в виду?
– Ты ведь не очень счастлив, правда?
Лгать ей всегда было трудно. И тем не менее солгал.
– А, так, мелочи жизни, – сказал он беспечно.
Она не спускала глаз с его лица.
– Ничего неразрешимого.
А сам в то же время спросил себя: «И ты знаешь решение?» И ответил: «Не знаю. Но найду его».
Твой удел – ходить по канату. Каждый день.
– Мне надо идти, – сказал он.
– Да, – ответила она. – Спасибо! Спасибо за все, что ты сделал. Спасибо, доктор.
Он поглядел на нее, удивленный таким официальным обращением. В ее устах это звучало странно. И тут же решил – нет, вовсе не странно.
Да, подумал он. Все правильно. Ведь я доктор.
Он кивнул ей и вернулся в операционный блок. Вернулся к своему больному.