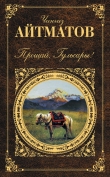Текст книги "Нежелательные элементы"
Автор книги: Кристиан Барнард
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 30 страниц)
Однажды, давным-давно, Деону приснился страшный сон о смерти.
Он был тогда совсем маленьким и спал в комнате, выходившей на веранду. Должно быть, это случилось в дни школьных каникул, потому что первое, что он услышал, проснувшись от сдавившего горло страха, было ровное похрапывание спящего Бота.
Теперь он не мог вспомнить, чем был вызван этот сон: каким-нибудь событием, случайно подслушанными словами или восклицанием проповедника, который грозил нечестивым адскими муками (а может быть, просто объелся за ужином жирной бараниной), но ясно помнил, как проснулся, похолодев от ужаса, судорожно стараясь натянуть одеяло на голову. А потом расслабленное облегчение, когда он понял, что это ему только приснилось. («Это просто приснилось, – шепнул ему из далекого прошлого успокаивающий женский голос, из качающейся колыбели, и колыбель баюкала и успокаивала, – просто приснилось…») Он лежал в темноте, прислушивался к дыханию брата и старался разобраться в обрывочных видениях.
Он был в длинном, бесконечном коридоре. Полумрак, грязно-серые стены, на полу – линолеум с узором. Он шел, минуя двери в стене – то слева, то справа. Он не пытался открывать их, потому что знал – они не открываются, а если и откроются, то за ними ничего нет.
И вдруг ощущение, что рядом в темноте кто-то есть. Не то чтобы преследователь, нагоняющий, приближающийся, а просто чье-то присутствие, кто-то чужойрядом.
Он медленно повернулся, чтобы захватить этого другого врасплох, но опоздал, и чужойускользнул куда-то за пределы зрения. Вот так, когда глаза устают, ты словно видишь точку или много точек, но стоит всмотреться в них, как они ускользают в сторону. Словно бы обман зрения, но с одной разницей: он знал, что увидел бы, если бы чужойвдруг остановился, позволил бы посмотреть на себя. Он увидел бы неясную серость. И только. Колыхание серости, которое почему-то ассоциировалось в его сознании с сероватым застывшим жиром.
Чужойпришел, чтобы забрать его с собой.
Он проснулся с этой мыслью и долго не решался закрыть глаза, боясь вновь очутиться в длинном темном коридоре. Но больше этот сон ему не снился – даже теперь, когда смерть превратилась в привычного врага, в естественное событие, которое иногда удается предотвратить или отсрочить, зная, что в конце концов поражение неизбежно.
Теперь чужойвновь был рядом.
Он оставался невидимым, но он был здесь и безмолвно ждал. Будь ты склонен к фантазиям, ты бы представил его себе – черная одежда, черные волосы, разделенные прямым пробором, гладко прилизанные. Глаза невозмутимые, как у игрока, и вечная ухмылка, открывающая гнилые зубы. А ведь на самом деле это усталый маленький человечек в плохоньком костюме, что-то вроде скромного клерка или судебного исполнителя, который явился забрать неоплаченную вещь и мягко настаивает – ведь это его обязанность – и в то же время извиняется за причиненную вам неприятность.
Отец с трудом кашлянул, и Деон сразу же взглянул на длинное костлявое тело, аккуратно укрытое простыней и одеялом, ровно расправленным по углам. Внутренний распорядок больницы не знает исключений, и несколько минут назад сестры оправили постель больного. Даже неизбежный беспорядок, который приносит надвигающаяся смерть, недопустим: все в любую минуту должно быть готово к инспекции, словно чужой– это какая-то гиперболизированная сестра-хозяйка, чье всевидящее око готово заметить любую мелочь – и складку на одеяле, и криво подвернутую простыню.
Деон встал, обошел кровать и проверил капельницу. Все было в порядке. Он почти хотел, чтобы обнаружились неполадки, лишь бы заняться чем-то, отвлечься от непрошеных мыслей.
Отец не шевелился. Пока сестры укладывали его поудобнее, он заметно утомился и теперь лежал, закрыв глаза. Возможно, он уснул.
Деон смотрел на бессильную кисть, на костлявую руку, к которой была прибинтована игла капельницы. Кожа между сине-черными кровоподтеками стала бледной, почти прозрачной. Прежде это была загрубелая рука труженика. А теперь от мозолей остались только едва заметные желтоватые пятна у основания пальцев.
С чуть слышным щелчком приоткрылась дверь, и Деон резко повернулся, готовый отослать непрошеного посетителя. Какой смысл продлевать упражнения для ног и дыхания человеку, который сдал последнюю линию обороны? Неужели нельзя оставить его в покое?
Тихо ступая, вошел Филипп Дэвидс. Он посмотрел на Деона, на неподвижную фигуру на кровати и показал глазами на дверь. Деон поднялся, и они вышли в коридор. Филипп держался робко, то ли из сочувствия, то ли из уважения – Деон так и не решил.
– Как он?
Деон пожал плечами.
– Безнадежен.
– Так…
– Последняя доза облучения практически уничтожила лейкоциты. По их мнению, у него развивается септицемия.
Они молча стояли друг против друга, неловко отводя взгляд. Африканец-уборщик двигался по коридору в их сторону, орудуя шваброй. На спине его форменной, цвета хаки, куртки виднелись буквы КМС – Кейптаунская муниципальная служба, и оба они повернулись и начали следить, как он переставляет ведра, словно это зрелище приносило им облегчение. Из бокового коридора торопливо вышла сестра, держа штатив с капиллярами. За ней шел невысокий рыжий врач. Увидев Деона и Филиппа, он слегка замедлил шаг, но затем решительно двинулся в их сторону, теребя лацкан своего белоснежного халата.
– Здравствуйте, Деон, – сказал он. – Как ваш старик? – Спит, – ответил Деон.
– А, – рыжий врач растерянно потоптался, затем отогнул манжету и взглянул на часы. – Мне очень жаль, конечно, но врачам нужна гемограмма. Я постараюсь не разбудить его.
Деон поморщился:
– Раз надо, так надо.
– Да… – Врач погладил свои рыжие усики. – Может быть, лейкоцитов окажется побольше, – с наигранной бодростью прибавил он. – Идемте, Стэффи.
Филипп все стоял, и Деон, которому хотелось пойти из палату вслед за врачом и сестрой, чтобы быть с отцом, если его разбудит этот легкий укол, это очередное, маленькое унижение (пустяк, секундная боль, но все это накапливается, каждая секунда боли соединяется со всеми прежними в нерушимый барьер, за которым, благопристойно изъятые из сознания и памяти, обитают живые мертвецы), – Деон ждал, когда он уйдет.
– Ну, мне… – кашлянув, начал Филипп.
И Деон понял вдруг, что присутствие Филиппа ему необходимо (потому что он не хотел больше идти в эту палату, не хотел преодолевать непроходимую стену), и резко перебил его:
– Нет! Не уходи!
Так резко, что Филипп посмотрел на него с удивлением.
Они вновь замолчали и уставились на уборщика, старательно водившего шваброй по полу.
Рыжий врач вышел из палаты, торжественно держа в вытянутой руке капилляр с кровью. Он поспешно улыбнулся Деону.
– Мы его не разбудили. – И протянул капилляр сестре. – Скажите, чтобы отправили в лабораторию.
– Давайте я отнесу, – вдруг предложил Филипп.
Все трое удивленно уставились на него.
– Я все равно иду в лабораторию, – объяснил он и, взяв капилляр, взглянул на ярлычок: «И. П. ван дер Риет, номер палаты…» – Так я отнесу?
Он повернулся и пошел по коридору, потом вдруг остановился.
– Передай ему от меня поклон, – сказал он Деону.
– Спасибо, непременно, – ответил Деон.
И тут же, даже не сказав ни слова врачу и сестре, вошел в палату к отцу. Выбора не было – надо одолеть эту стену, как она ни велика и какой бы вид ни открывался с ее головокружительной высоты.
Отец по-прежнему лежал с закрытыми глазами, но его дыхание стало чаще. На губах запеклась кровь.
Вначале лекарства и переливание крови принесли облегчение. Цвет лица улучшился, сознание прояснилось, дыхание стало почти ровным. Но периоды ремиссий неизбежно становились все короче, потом наступило обострение и уровень лейкоцитов упал до предела. А теперь у него началось заражение крови.
Деон стоял и смотрел на высохшее тело под белыми простынями.
Почему мне это просто физически неприятно? – спрашивал он себя. Почему мне хочется бежать, спрятаться, напиться до бесчувствия – что угодно, лишь бы стереть из памяти мысль, что он умирает?
Да, он мой отец, и родственные узы нельзя сбросить со счетов. Но мы никогда не были особенно близки, особенно связаны. Ему всегда была присуща сдержанность, отгораживавшая его от людей. Наверное, она есть и у меня. А в результате – между нами все время существовал такой же невидимый и такой же неодолимый барьер, как эта последняя стена, которая разделила нас потому, что он умирает, а я нет.
Тогда почему мне хочется бежать отсюда?
Может, потому, что он был всегда. И стоит ему исчезнуть, как больше не останется ничего незыблемого. Он исчезнет, и с ним исчезнут иллюзии.
Едва его не станет, я окажусь один на один в коридоре с серым чужим.
Деон сел на жесткий белый стул. Раздался скрип, отец открыл глаза и посмотрел на него с легкой усмешкой.
– Как ты себя чувствуешь? – машинально спросил Деон.
В дрогнувшей улыбке приоткрылись окровавленные десны, на миг воскресла былая ирония.
– Прекрасно.
Деон встал и с преувеличенным вниманием начал изучать кривые пульса и температуры, нанесенные на карту, висевшую в изножье кровати.
– Кто-то заходил, – сказал отец чуть погодя.
– Доктор и сестра приходили взять кровь, – бодро ответил Деон. – Для анализа.
Старик раздраженно шевельнул головой. Но даже это движение его утомило – он снова закрыл глаза и замер.
– Раньше.
– Ах, да! Это был Филипп.
– Филипп?
– Флип, – поправился Деон. – Флип Дэвидс. С вашей фермы, помнишь? Сын старой Миеты Дэвидс.
– Флип, – повторил отец, не открывая глаз.
– Он просил передать тебе поклон и пожелания самого лучшего.
Отец кивнул, но ничего не сказал. Вскоре он снова заснул. А может быть, он не спал, просто хранил молчание.
Деон посмотрел на часы. До дежурства еще пятнадцать минут. Как удачно, что четвертый квартал он работает в хирургическом отделении. За исключением особенно тяжелых дней ему обычно удавалось выкроить несколько минут, чтобы побыть с отцом. На этой неделе он дежурил в основном по ночам и – что в октябре случалось редко – срочных операций делать почти не приходилось.
Тем не менее, подумал он с внезапным раздражением, несправедливо, что ему приходится нести это бремя одному.
Однако раздражение тут же угасло при мысли о том, что Бот и Лизелла сейчас не менее одиноки, чем он, и одиночество их даже более тяжко. Бот отбывает свой срок – три года тюрьмы. Правда, через пятнадцать месяцев его могут освободить досрочно, но этих пятнадцати месяцев ему не избежать. (Бот! Можно ли себе это представить? Бот в тюрьме!) А Лизелла одна на ферме выбивается из сил, чтобы свести концы с концами. Каждую субботу к ней приезжают родители, но их назидания и упреки еще хуже, чем одиночество.
За месяцы после ареста и суда над Ботом он проникся уважением к Лизелле. Ее отец был толстым самодовольным бакалейщиком, а мать сущей мегерой, но от каких-то неведомых предков она получила в наследство железный характер. Она не поддавалась слабости. И если плакала, то наедине с собой? Ни следа жалости к себе. И любое выражение сочувствия она встречала в штыки.
Весь долгий процесс она просидела рядом с его отцом.
Деон взглянул на неподвижное тело под одеялом, на изможденное белое лицо. Да, бедняга, даже в этом судьба тебя не пощадила. Ты своими глазами видел, как твоего сына, твоего первенца ван дер Риета из Вамагерскрааля увозили в тюрьму в фургоне с решетками на окнах.
Деон всеми силами старался этому воспрепятствовать. Ведь они с Лизеллой и лечащим врачом устроили так, чтобы отца оставили в больнице на исследование, пока шло следствие, а затем и процесс.
Но скрыть такую тайну было нелегко, и как-то днем, когда они с Лизеллой пришли к старику, он вдруг спросил:
– Где Бот?
Он не спускал проницательного взгляда с лица Лизеллы и прочел по нему все.
Весь процесс он просидел в первом ряду на жесткой и неудобной скамье, сложив руки на набалдашнике трости, упираясь в них подбородком. С непроницаемым лицом он слушал показания свидетелей; доводы защиты, резюме судьи, вердикт присяжных и, наконец, страстный призыв смягчить приговор, с которым обратился к суду известный кейптаунский адвокат, приглашенный его поверенными. Он все время смотрел на тех, кто говорил, будь то свидетель, адвокат или просто судебный пристав, взывающий: «Прошу соблюдать тишину!»
И очень редко он смотрел на подсудимого, на своего сына. Правда, из зала увидеть лицо Бота было невозможно – только сгорбленные плечи.
Вынося приговор, судья строго указал на серьезность преступления и подчеркнул, насколько важно ограждать общество от людей, подобных Боту. Он объяснил, что должен приговорить Бота к тюремному заключению, материалы дела ясно показывают, что на преступление подсудимого толкнули финансовые затруднения. Следовательно, он не в состоянии уплатить штраф. Да, отец подсудимого изъявил готовность уплатить таковой, но это было, бы нарушением правосудия, так как кару в этом случае понес бы не сын, а отец (точно, отправляя сына за решетку, тем самым не наказывали отца).
Выходит, если б Бот был человеком богатым, он избежал бы тюрьмы? – подумал Деон. И это правосудие?
Судья уставился на Бота из-под редких седых бровей и холодно изрек:
– Три года тюремного заключения.
И в тот же вечер, вечер того дня, когда судья вынес приговор и Бота увезли в тюрьму, Деон отправился на ферму «Сенегал» разыскивать дружка Бота Мэни ван Шелквика. Потому что Мэни ван Шелквик, столь искушенный в тонкостях тайной торговли алмазами (как вынужден был признать на суде один из сыщиков, отвечая на вопросы защитника), был платным полицейским осведомителем.
Однажды его арестовали за скупку алмазов, но отпустили с условием; что он станет агентом-провокатором; Как может человек пасть столь низко? Бот хотел подучить деньги, которые Мэни был ему должен. Он не собирался покупать алмазы. Мэни ван Шелквик посеял семя зла и тщательно его взлелеял. Он преступник, а не Бот. Общество следовало бы оградить от ему подобных и противозаконных ловушек с алмазами-приманками.
Деон не застал его дома, не нашел в барах Бофорт-Уэста. Пожалуй, это было их лучшему: он мог убить Мэни ван Шелквика – ненависть душила его с той минуты, как он увидел лицо отца, когда Бота вели в тюрьму.
Пора идти. Деон встал, и стул снова скрипнул, но теперь отец не открыл глаз.
Еще мгновение Деон смотрел на такое близкое и такое незнакомое лицо. Потом на цыпочках вышел из палаты.
Они с Биллом дю Туа пили кофе, пока в операционной готовили больного с ущемлением грыжи, которого привезли час назад.
Деон понял. Он понял еще до того, как поднял трубку, до того, как исполненный сочувствия голос дежурной сестры произнес:
– Ваш отец, доктор ван дер Риет, боюсь что…
– Он…
– Нет. Но он без сознания.
– А-а… – Деон не сразу нашел, что сказать. – Вы сообщили доктору Бонзайеру?
– Конечно, доктор. – В ее голосе послышалось раздражение, словно ей было неприятно это напоминание о само собой разумеющемся, но тут же он вновь зазвучал мягко и сочувственно. – К счастью, он еще не ушел. Он будет сию минуту.
– Я приду, как только смогу.
– Ваш старик? – только и спросил Билл дю Туа, увидев его лицо.
Деон кивнул. Он боялся, что голос подведет его.
Билл взмахнул рукой с бутербродом.
– Идите! Ну, идите, же. Мне поможет сестра.
Деон стоял, не зная что делать.
– Не болтайтесь тут. – Резко сказал Билл. – Идите же, говорят вам, и чтобы я вас тут сегодня не видел.
– Спасибо, Билл.
– А, глупости! – Он сунул в рот остатки бутерброда и смахнул крошки с костюма, старательно избегая смотреть на Деона.
Врач, лечивший Иогана ван дер Риета, был уже в палате. Он посмотрел на Деона и тут же отвел глаза.
Странно, почему они все не смотрят мне в глаза? – подумал Деон. Точно чувствуют себя виноватыми. Или может быть, это потому, что я, равноправный член их круга, вдруг стал посторонним?
Доктор Бонзайер был человеком средних лет, но одевался с тщательностью людей старшего поколения. Даже визитка и брюки в полоску не показались бы на нем смешными, а солидная и процветающая практика доказывала, что внимание к деталям имеет свое значение.
Будь справедлив, одернул себя Деон. Он очень толковый врач, хотя и порядочный зануда.
Доктор Бонзайер наклонился над неподвижным телом на кровати, и Деон заметил у него на макушке плешь, старательно замаскированную аккуратно зачесанными наверх длинными боковыми прядями. Значит, он еще и тщеславен. Врачи воображают, что видят своих пациентов насквозь. Но им следовало бы понять, что пациенты тоже знают о них немало.
Бонзайер выпрямился и одернул свой безукоризненный халат.
– По-видимому, он без сознания, – объявил он, ни к кому не обращаясь. – Но пульс хороший.
– Так все-таки, доктор? – с трудом выговорил Деон.
Бонзайер издал посасывающий звук, точно с неудовольствием нащупал языком что-то застрявшее между зубами.
– Может быть, выйдем? – сказал он.
В коридоре стояла тишина. В дальнем конце бесшумно прошли две сестры. В притушенном свете они мелькнули, как две большие белые птицы, перепархивающие с ветки на ветку.
– Так что же? – спросил Деон.
Смягчая профессиональную отвлеченность тона, словно позволив себе почувствовать сострадание и тем самым обретя человечность, Бонзайер сказал:
– Не знаю, юноша. Он без сознания. – И развел руками… – Возможно, это конец. Несмотря на переливание крови, лейкоцитов становится все меньше. Не говоря уж о сепсисе.
– Но неужели мы ничего не можем сделать? Хоть что-нибудь, чтобы… – Деон заметил, что в его голосе прорывается то отчаяние, то напряжение чувств, которые он твердо решил подавлять в себе. Но вопреки его желанию они вырвались наружу.
Бонзайер бросил на него быстрый и, пожалуй, сочувственный взгляд.
– Могли бы, – согласился он. – Еще переливание. Остальное вы сами знаете. Но зачем? – Он сделал паузу, давая Деону возможность понять, затем продолжал мягко и настойчиво: – Нужно ли ему это? Он без сознания, его не мучает боль, он тихо уходит. Так почему просто не дать ему… уйти?
Почему?
Разве чужойне лучший наш друг и утешитель? Этот неслышный и неумолимый судебный исполнитель в мешковатом костюме, который приходит отпустить людям долги их, покончить все счеты и подвести окончательную черту под графой приходов и расходов. Так почему?
Да потому, что все его инстинкты и все его знания твердили, что смерть – это враг, что уступить ей без борьбы – значит совершить предательство из предательств. Разум способен принять неизбежность ее, но нечто в самом глубине его существа, быть может, единение всех клеток тела, бессознательно стремящегося к жизни, восставало против этой покорности, кричало: «Нет!»
Он вдруг вспомнил, как отец сказал ему, спускаясь по старым скрипучим ступенькам в маленькой гостинице: «Человек, рожденный женою, краткодневен и пресыщен печалями». И усмехнулся этой одному ему понятной шутке.
– Не знаю, – пробормотал Деон. – Наверное, вы правы.
Бонзайер кивнул одобрительно, а может быть, и с некоторым облегчением.
– Ну, и хорошо. Вы пока посидите здесь?
– Да.
– Отлично. А то мне еще надо кое к кому заглянуть. У моего старого друга сегодня во время гольфа случился инфаркт. – Он опять издал посасывающий звук, словно хотел избавиться от чего-то застрявшего между зубами, и внимательно посмотрел на Деона. – Но может быть, вам все-таки…
– Не беспокойтесь.
– Ну вот и хорошо. Как я сказал, я еще побуду здесь, а потом пойду домой. Звоните в любое время.
– Спасибо. Спасибо, доктор.
Бонзайер легонько похлопал его по плечу, кивнул и ушел.
Теперь он остался один и должен был встретить это один.
Позже он, по-видимому, задремал, потому что вдруг вздрогнул, выпрямился и увидел, что глаза отца открыты и смотрят на него. Свет ночника подчеркивал, тени на лице с запавшими щеками, так что голова уже походила на череп. Но глаза жили. Они светились ясным сознанием. Деон вскочил и подошел к кровати. Давно ли отец очнулся? Долго он дремал под этим пристальным, испытующим взглядом?
– Ну как ты?
Губы раскрылись, и отец с трудом произнес:
– Пить!
Деон налил воды из графина и помог ему напиться.
Иоган ван дер Риет откинулся на подушку, вздохнул и закрыл глаза. На мгновение Деону показалось, что он снова впал в Забытье.
Но тут старик более твердым голосом произнес:
– Деон!
Это было сказано властно и в то же время торжественно.
– Я здесь, отец.
– Иоган?
Бот был тезкой отца.
Деон не знал, что сказать.
– Он… Бот на ферме, отец.
Глаза открылись, и отец посмотрел на него тем строгим и сухим взглядом, каким всегда отвечал на глупость или недомыслие.
– Бот в тюрьме, – проговорил он отчетливо. – Здоров?
– Да, отец, – виновато сказал Деон.
Старик кивнул, видимо удовлетворенный, затем, точно разговаривая сам с собой, произнес:
– Иоган пошел в мать, – и, хрипло вздохнув, добавил: – Невинная душа.
Пусть так!
– Да, отец.
Вновь строгий и сухой взгляд.
– Как и его мать. Не от мира сего. Без житейской мудрости. А потому их всякий может обмануть. – Затем одобрительно добавил: – Гордости у нее было много и все-таки не хватило. Вот это ее и сломило.
– Кого, Лизеллу? – спросил Деон, не поняв.
– Какую Лизеллу? Я говорю о твоей матери.
Значит, он все-таки бредит.
– Да-да, – сказал Деон.
– Ко мне приходил пастор, – сказал отец чуть погодя. – Когда это было? Вчера?
– Теперь уже позавчера. Скоро утро.
– Который час?
Деон посмотрел на часы.
– Половина четвертого.
– Утра? Ночь долга, господи. Но да простятся нам грехи наши.
– Тебе вредно утомляться, – сказал Деон растерянно. (Может быть, попросить, чтобы ему дали снотворное?)
Но отец замолчал и молчал так долго, что Деону показалось, будто он заснул или снова впал в забытье. У него самого слипались глаза.
– А этот мальчик, – донесся голос из полутьмы. Послышалось хрипение, и отец снова попросил пить. – Этот мальчик, – повторил он, напившись, – Флип. Он тоже приходил ко мне?
– Да, отец.
– Он вырос дельным человеком. Позови его.
– Ты хочешь, чтобы я позвал Флипа Дэвидса? – удивленно переспросил Деон.
– Да. Позови его.
– Но ведь сейчас очень поздно.
Голова на подушке раздраженно дернулась.
– Ты не понял, Деон? Я хочу, чтобы пришел Филипп, мой сын.
Это было сказано сердито, и Деон решил, что сознание отца то ясно, то помрачается, но в любом случае надо исполнить его желание.
Филипп работал теперь в гинекологическом отделении. Но оказалось, что в эту ночь он не дежурит. Однако на всякий случай он оставил номер своего телефона, и сестра дала его Деону.
Прижимая трубку к уху и слушая гудок, Деон задумался. Ночь, свободная от дежурства, когда почти наверняка можно спокойно выспаться… Ему вспомнилась та ночь, когда Филипп дежурил и за него, а он поехал на вечеринку к Хеймишу.
С другой стороны, Филипп, возможно, считает себя обязанным старику. Ведь кончить университет ему помог он. И приходил же Филипп засвидетельствовать свое уважение. Вчера днем.
Он начал набирать номер. Но только набрав две первые цифры и продолжая глядеть на рецептурный бланк, который дала сестра, он вдруг заметил в сочетании цифр что-то очень знакомое. Он продолжал вглядываться в номер, уже держа палец на шестерке. Затем, машинально отметив про себя, что руки у него дрожат, осторожно опустил трубку на рычаг.
Это был номер домашнего телефона Элизабет.
Сестра посмотрела на него вопросительно.
– Я передумал, – объяснил он и оскалил зубы в подобии улыбки. – Пожалуй, не стоит будить его среди ночи.
Она кивнула, и он вышел в коридор. Но вернуться в палату к отцу он не мог.
Филипп.
Ублюдок!
Он уперся рукой в зеленую стену, ощущая под пальцами холодную гладкость краски, положенной во много слоев.
И острота страдания, и горечь внезапного открытия, и бессильный гнев вдруг отступили, вытесненные новым, нараставшим в нем чувством. Ему казалось, будто это соприкосновение со стеной растет и ширится, захватывая соседние кирпичи, соседние стены – все дальше и дальше, и уже охватывает все здание больницы и тысячи жизней в нем, так что кирпич, и сталь, и цемент тоже ожили, одержимые жизнями, заключенными в них. Вместе с этим чувством к нему пришло ощущение божественного торжества, великой власти, словно, просто стоя тут, у начала начал, он подчиняет себе все это и может проникнуть за обманчивый покров ночного безмолвия, которое скрывает так много. Он был связан с каждой из этих жизней, с их страхами и радостями, надеждами и горем. Он дышал одним дыханием с ними в сумерках раннего утра и пробудится с ними к тому, что бы ни принес свет грядущего дня.
Мало-помалу это чувство угасло. Стены снова стали стенами, и он стоял один в больничном коридоре. Но ощущение торжества еще жило в памяти, и какое-то время он был в мире с самим собой.
Он направился в палату к отцу, придумывая причину, объяснение, почему ему не удалось найти Филиппа Дэвидса.
Но объяснять ничего не пришлось. Пока Деона не было, Иоган ван дер Риет снова впал в забытье и, не приходя в сознание, скончался перед наступлением ясного весеннего утра.
Сперва Деон бессмысленно кружил по шоссе, гнал к городу и возвращался. Однако направляющихся в город машин становилось все больше, а потому он повернул назад, решив отправиться на взморье, в Фолс-бей.
Но едва больница снова осталась позади, как он, почти не отдавая себе отчета, свернул в Ньюлендс и тут же понял, что с самого начала знал, куда поедет.
Филипп и Элизабет. Невозможно. Слишком невероятно, чтобы это можно было осознать.
Элизабет и Филипп. Он просто не может себе этого представить. А потом обнаружил, что может – и очень живо. Ему стало противно, и он попытался думать о чем-нибудь другом, но образ двух сплетенных тел, коричневого и белого, продолжал стоять перед его глазами.
Он остановился за квартал от ее дома, прикурил сигарету от автомобильной зажигалки, и это простое движение вернуло его к тому, о чем он почти два часа старательно избегал думать.
Мой отец умер.
Все остальное – лишь попытка спрятаться, уйти от этого неотвратимого факта. Потому-то он и оказался здесь, точно птица, которая, сделав два-три словно бы бесцельных круга, безошибочно летит к себе домой.
Так вот что? Потребность вернуться домой?
Он вспомнил, как такое же безумие гнало его (странно – тоже в поисках забвения?) утром после того, как он познакомился с Элизабет, а потом осматривая полуторагодовалую цветную девочку, которую так изуродовали люди.
И снова его лихорадочные мысли изменили направление: опять он увидел унылый зал суда, почти ощутил его запах, – зал, где он давал свидетельские показания. Звероподобного насильника с лицом тупицы приговорили к двум годам тюрьмы. Адвокат ссылался на то, что его подзащитный не полностью отдавал себе отчет в своих действиях, и сумел доказать, что в тот момент он был одурманен алкоголем и наркотиком. Судья ни словом не обмолвился о необходимости защиты общества.
И Боту следовало бы напиться, иронически подумал Деон. Быть может, тогда они не признали бы необходимым запирать его на три года.
Он потушил только что прикуренную сигарету и вылез из машины, громко хлопнув дверцей.
Лишь когда он обошел «фольксваген» и две женщины средних лет, направлявшиеся к автобусной остановке, замолкли на полуслове и как-то странно посмотрели на него, он сообразил, что забыл переодеться – операционная роба, шапочка, штаны, заправленные в белые резиновые бахилы. Но их удивленный и даже испуганный взгляд не смутил и не рассмешил его.
Мой отец умер.
И когда Элизабет открыла ему дверь, он сказал:
– Мой отец умер.
Она побледнела. От неожиданности? Она похудела с тех пор, как они виделись последний раз. Когда это было? Он не мог вспомнить.
Она прижала руку к горлу.
– Твой отец…
– Умер, – сказал он гневно. И без перехода: – Где Филипп?
Филипп стоял здесь же, одетый в черное. В предвидении траура? Филипп озабоченно хмурился.
Троим в крохотной прихожей было тесно. Казалось, они заняли все свободное пространство. Кто-то был лишним.
– Мой отец умер, – с яростью сказал он Филиппу.
Филипп и Элизабет переглянулись. Он подумал: секреты. У них секреты. И опять пришел в ярость. Им ничего от него скрыть не удастся. Он знает о них все. Больше никаких секретов, нет.
Он вдруг заметил, что они оба одеты как для улицы, хотя еще только рассвело. (Или его привело сюда подсознательное желание застать их в постели, увидеть сплетение двух тел – коричневого и белого, чтобы они не могли ничего отрицать, чтобы нашлись жертвы, на которые он мог бы обрушить свой гнев?)
Деон устало помотал головой. Он сам не понимал, чего хочет. Элизабет заметила это движение.
– Входи, Деон. Входи же. Ты совершенно…
Неловко волоча ноги в резиновых бахилах, он прошел мимо Филиппа в знакомую комнату. Тахта-кровать по-прежнему стояла напротив окна.
Не надо ему было приходить сюда. Его и здесь предали.
Ему нужно одиночество. Только так он еще может вытерпеть.
Он повернулся, метнулся мимо Филиппа назад в прихожую, чтобы уйти. Филипп удержал его. Он попытался стряхнуть с себя эти руки. Но его держали крепко.
– Послушай, – сказал Филипп спокойно, – не надо так.
Внезапно он обрел хладнокровие, способность рассуждать и контролировать поступки.
Филипп и Элизабет.
Нет. Не то. Филипп и Деон.
Вернее, Филипп против Деона, потому что они соперники, всегда были соперниками, и притворяться, что это не так, глупо. Их разделяет слишком многое: все то, что отличает сына богатого белого фермера от сына его цветного слуги. А связывало их лишь одно – прочно, как рок, – соперничество, которое было выше рас и классов.
Это началось еще в детстве, продолжалось, когда они стали подростками, и вспыхнуло вновь, едва они опять встретились, словно никогда не угасало. Так длилось и дальше: очко, выигранное здесь, преимущество, потерянное там, из года в год неподозреваемая, но неутихающая борьба за то, чтобы окончательно взять верх.
И вот теперь она достигла высшего накала, привела к открытому столкновению (он только сейчас осознал это, да и он ли один? Конечно, нет) из-за самой классической и самой банальной причины – из-за женщины.
– Что ты здесь делаешь? – спросил он Филиппа неприязненно. – Тебе здесь не место.
Филипп разжал руки и отпустил его. Но ничего не сказал. Вместо него заговорила Элизабет.
– Что ты имеешь в виду?
Она спросила это резким тоном, и Деон подумал, что с тех пор, как они виделись в последний раз, она стала как наточенное бритвенное лезвие.
– Почему он здесь? – спросил он, как обвинитель.
– Это мое дело. – Ее пальцы были переплетены, и она смотрела на свои ладони, точно надеялась прочесть разгадку тайны.
– Скажи, чтобы он убирался.
Она побледнела еще больше и сказала ледяным тоном:
– Я его люблю, ты можешь это понять?
Его захлестнул гнев, безумное бешенство, но он решил скрыть это. Он одурачит их обоих.