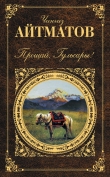Текст книги "Нежелательные элементы"
Автор книги: Кристиан Барнард
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 30 страниц)
НЕ МОГУ МОЛЧАТЬ [1]1
Впервые на русском языке опубликовано в еженедельнике «За рубежом», № 47, 1975.
[Закрыть]
Интервью Кристиана Барнарда парижскому журналу «Пуэн»
– Профессор Барнард, почему вы назвали роман именно так – «Нежелательные элементы»?
– Потому что самим названием я хотел привлечь внимание к тому, что считаю в романе самым важным, – к существованию в нашей стране групп людей, которые в сяду различных причин стали действительно нежелательными. Общество относится к ним так, будто их вовсе не существует. Никто не рискует даже обращать внимание на их нужды и страдания… Это хорошо знакомо мне и как врачу и как южноафриканцу. Я не могу молчать и поэтому выступил против дискриминации.
– Вы, вероятно, имеете в виду расовую дискриминацию в Южно-Африканской Республике?
– Да, но и не только ее. Гораздо больше людей, чем вы думаете, становятся «нежелательными элементами». В семье, где они родились, в обществе, в котором живут, не говоря уже о больших расовых группах, страдающих от известной вам дискриминации. Все они персонажи моего романа. Ответственность за это, я считаю, целиком несет общество.
– Мысль настолько схожая с рассуждениями центрального персонажа вашего романа, что позвольте спросить: не вы ли и есть доктор Деон ван дер Риет? Он молод, талантлив, да это же ваш портрет! Таким вы себя видите?
– Возможно, у нас есть кое-что общее, однако ван дер Риет не моя копия. Если он и походит на меня, так в том смысле, что думает о жизни, как и я.
– Что же думаете о жизни вы?
– Будем лучше говорить о жизни доктора ван дер Риета. Многие читатели спрашивают меня, почему в конце романа этот человек, питавший столь смелые надежды я отправившийся, как во сне, в погоню за самим собой, в итоге вернулся в клинику к своим больным. Безусловно, потому, что он понял: единственное счастье врача – лечить людей.
– Но не становится ли и ван дер Риет «нежелательным элементом»?
– Похоже на то. Видите ли, в жизни, возможно, никогда не следует переходить определенную черту, если не хочешь быть нежелательным.
– О ком вы говорите, о свое или своем герое?
– В определенной мере, думаю, это касается и меня. В некоторых ситуациях.
– В каких ситуациях? Вы рассуждаете сейчас как врач или как человек определенных политических взглядов?
– Я имею в виду все аспекты моей общественной жизни – в сфере медицины, в сфере политики, даже в сфере чисто дружеских отношений, по крайней мере, тех, которые у меня были, пока я не стал «нежелательным элементом».
– Вы хотите сказать, что, занявшись политикой, восстановили против себя многих на родине?
– Прежде всего хочу подчеркнуть: я никогда не «занимался политикой», я выражал свои взгляды, на что имею полное право гражданина. Но именно этого мне и не простили. Надо понять и ситуацию в данном случае. Сделав первую в мире операцию по пересадке сердца человеку – простите меня за хвастовство, но ведь это факт, – я неожиданно вывел ЮАР на первое место в мире в области хирургии сердца. В несколько дней меня превратили в национального героя, в маленького национального героя… А потом вдруг выяснилось, что «герой» не во всем соответствует тому, каким его хотели бы видеть – соглашающимся со всеми и во всем…
– Но вернемся к расовой дискриминации в вашей стране. Расскажите о проявлениях апартеида в медицинской среде.
– Это возмутительная вещь, хотя в больницах и нет всеобъемлющей дискриминации, а лишь мелкие дискриминационные факты и явления, но тем более невыносимые для врача. Например, чернокожий студент-медик не имеет права присутствовать на приеме, если больной белый! Еще абсурднее: чернокожий студент не должен присутствовать при вскрытии трупа белого! По правилам при вскрытии трупа белого человека чернокожие студенты должны покинуть анатомический театр. Подобная сцена описана в моем романе. Конечно, это может показаться мелочью по сравнению с тем, что происходит в других жизненных ситуациях, но и это невыносимо. Мы в своей среде называем это «мелочным апартеидом», выступаем против него открыто. Должен сказать, что в последнее время многое меняется к лучшему. Многое изменилось и в моей клинике, особенно после выхода романа.
– В романе вы описали и более серьезные проявления апартеида, например запрет черному хирургу оперировать белого или тот случай, когда боялись поместить черного ребенка в реанимационную палату, потому что там уже находился белый.
– Да, я описал реальные события, которые в свое время пережил сам, но такое уже не может произойти теперь, по крайней мере в моей клинике. С другой стороны, такое вообще случается редко, так как мы живем по законам апартеида, то есть «раздельного развития». Чернокожие врачи работают и ведут исследования в больницах «для черных», белые врачи – в больницах «для белых». Представьте себе, даже когда чернокожий врач приглашается на работу в мою клинику, он имеет право лечить только цветных в специальном отделении для «небелых»! И это еще не все: ему платят за ту же работу, меньше, чем нам!
– Как же вы объясняете эту терпимость врачей к столь нетерпимым вещам?
– Я думаю, что в этом смысле врачи нисколько не отличаются от других белых южноафриканцев. Апартеид их раздражает, но они заглушают в себе протест, о расизме стараются не думать, не говорить…
– А сами вы думали когда-нибудь так же?
– Сознаюсь, думал. В романе ван дер Риет, еще студент, не может подавить гнев при виде африканца, свободно общающегося с белой девушкой. Такое бывало и со мной. Понимаете, неимоверно трудно для молодого человека, выросшего и воспитанного в определенной среде, вдруг осознать, что те изменения в обществе, к которым он стремится, необходимо прежде всего начать с коренных изменений в самом себе. Я сравнительно легко преодолел такой этап, но мне очень помог пример отца. И все равно это было не просто. Возьмите, например, США, там сегодня можно встретить множество людей с чрезвычайно благими намерениями, но в разговоре они нет-нет да я вставят «грязный иудей» или «грязный нигер». Это уже стало рефлексом, от которого трудно избавиться…
– Доктор ван дер Риет, не приемля апартеид, все же постоянно колеблется и сомневается в своем протесте. Не испытываете ли и вы сожалений?
– Я ни о чем не сожалею, иначе не был бы ученым. И я ничего не боюсь. Но я считаю, что проблема апартеида – это проблема сознания. Перелом долог и труден, однако он уже совершается…
Кристиан Барнард
Нежелательные элементы
Посвящается моим детям и с благодарностью тем моим коллегам, кто помог мне своими знаниями написать эту книгу.
Пролог
ТЕПЕРЬ
Конечно, иные случаи, о которых рассказывается в этом романе, связаны с жизненной практикой авторов. Однако герои повествования и ситуации, как они складываются в различных эпизодах, вымышлены и не относятся к кому-либо из реально существующих лиц или имевших место событий.
Лифтом он никогда не пользовался. По старой привычке, приобретенной еще в студенческие годы, он поднимался по лестнице. Лифты в клинике еле ползали, и для него всегда было сущим мучением ждать, пока придет лифт, чтобы потом в переполненной кабине подниматься или спускаться. Войдя в широкие, окованные медью двери, он чувствовал, как привратник за стеклянной перегородкой пялит на него глаза, пока он широким шагом идет через вестибюль к лестнице и затем исчезает, мелькнув на площадке второго этажа.
Сегодня, однако, привратник увидел, как высокий, стройный блондин с худощавым лицом прошел через вестибюль, мимо лифтов, где стояли в ожидании несколько человек, и, свернув в коридор первого этажа, быстро зашагал по нему.
В коридоре в нос ему ударил знакомый запах – смесь антисептики, мастики для полов, болезни и человеческого страха. Сиделка, спешившая ему навстречу, узнала блондина и, когда они поравнялись, прижалась к стене, уступая ему дорогу. Он рассеянно улыбнулся и пошел дальше, ноги сами несли его, он знал здесь каждый поворот, каждую дверь и мог бы пройти этим лабиринтом с завязанными глазами в любое время дня и ночи.
Остановившись у тяжелых раздвижных дверей, окрашенных безрадостно, под темный орех, он с силой толкнул створку, и она подалась, прогрохотав на металлических роликах. Другой запах. Тошнотворно сладкий, сладковато-гнилостный. Никакими антисептиками не вытравишь его, этот ни на что не похожий дух тлена.
Однако же зал, где так стойко держался запах смерти, выглядел после мрачных коридоров даже весело: белый кафель, яркое освещение. Африканец с покатыми плечами борца в одиночестве работал у стола, разбирая сваленные как попало на мраморную доску стола человеческие внутренности. Он поднял взгляд на вошедшего и опустил руку с ланцетом.
Белый посмотрел на часы, раздраженно вздернув рукав пиджака.
– Дбр… тро… А доктора Иннеса что, еще нет?
На широком лице африканца не отразилось ничего. Лишь укор прозвучал в тоне, каким он произнес:
– Доброе утро, профессор ван дер Риет.
– Доброе утро, Уильям, – торопливо поправил себя белый.
– Доктор Иннес звонил, профессор. Он сказал, что задерживается на утренней конференции и будет не раньше половины первого.
Деон ван дер Риет снова посмотрел на часы. Ждать еще двадцать минут. Как ни считай, потерянное время, потому что возвращаться в операционную бессмысленно, да ж вообще за двадцать минут ничего не сделаешь.
– Он обещал мне аутопсию ребенка. Памела Дэли. Вы произвели вскрытие?
– Нет, профессор.
Африканец показал подбородком на соседний стол. Шагнув к столу, Деон увидел известково-белое лицо ребенка с разбросанными на лбу прядками волос.
Глаза закрыты. Будто спит…
Простыня была развязана на груди. Готовили для вскрытия. Он смотрел на рубец позавчерашнего разреза и аккуратную дорожку стежков, такую черную на известково-белой коже.
Почему, почему эта девочка вдруг умерла? Ведь первые двадцать четыре часа после операции ничего такого не предвещали. А затем… конец. Он снова и снова убеждал себя, что это кардиолог ошибся, не распознал высокое давление в легочной артерии…
Он перевел взгляд на лицо ребенка. Спит? Нет. В этой неподвижности не было ничего от жизни. Кто-то рассказывал (возможно, он это где-то вычитал, сейчас не мог вспомнить) об одном знаменитом скульпторе, получившем заказ на скульптурный портрет папы римского. Работа продвигалась медленно, и сеанс за сеансом художник постигал каждую черточку, каждый штрих липа своей именитой модели. Когда изваяние было готово, сходство оказалось разительным, полным. После смерти папы скульптору заказали посмертную маску. И он пришел в отчаяние, увидев, как мало общего между мраморными чертами, воссозданными им, и маской, снятой с лица покойного. Потом он понял: все правильно, просто первый раз он уловил и выявил многогранность души, дыхание жизни, во второй же – запечатлел линии плоти.
Может быть, подумал Деон, так же и здесь? Дыхание жизни… Оно уходит, и мы не узнаем знакомые черты.
Он снова посмотрел на часы и резко повернулся к двери, щелкнув с досады языком. Надо ему было остаться тогда в операционной. Он и сам не мог бы сказать, почему сейчас считал таким важным лично присутствовать при вскрытии. Частично это и объяснялось досадой, которая не покидала его – умерла его больная! – а частично – неодолимой потребностью убедиться, что ошибся не он. А может быть, причина самая простая. Памела Дэли умерла – и все.
И вот теперь того, что было ею, пока она жила, смеялась, ревела, бегала, взвизгивала от радости бытия, больше не существует… С этим не примириться… Ни смеха, ни слез… Все это станет предметом демонстрации на натуре для студентов-медиков, которые столпятся вокруг стола или будут следить за аутопсией на телеэкране. На органах ее тела будут иллюстрировать любопытные аспекты любопытного заболевания, словно они никогда и не имели ничего общего с жизнью, с живым телом этого ребенка.
Ему надо было идти.
Он позвонит доктору Иннесу позже и узнает, что показало вскрытие.
Входная дверь проскрежетала на своих роликах, и он бросил взгляд через плечо, ожидая наконец увидеть Иннеса. Но это был профессор Мартин, главный патолог собственной персоной. С сосредоточенным видом, сопровождая свою речь короткими жестами, он что-то говорил длинноногому мужчине в темном костюме, который шел, учтиво склонив к собеседнику голову.
Деона словно ударили под ложечку, физически ощутимый страх овладел им.
Бог мой, пронеслось в голове, да это же Филипп…
На мгновение ему отчаянно захотелось, чтобы его не заметили, чтобы эти двое, Мартин и тот, другой, увлеклись разговором – тогда, быть может, ему удастся выскользнуть, не привлекая внимания. Или чтобы они прошли мимо – бывает же, что люди проходят мимо, не замечая вокруг ничего.
Но оба повернулись к нему одновременно, с вопросительным выражением лиц. Мартин явно нервничал, а его собеседник был серьезен и спокоен. Прямой нос, почти арабская внешность, смуглая кожа и черные волосы.
А на висках седые, мелькнула вдруг мысль, и Деону стало не по себе. Седые, господи, а ведь он моих лет. Ну-ну, успокаивал он себя, не совсем моих, он на два года старше.
Мартин, конечно, тут же разыграл небольшую комедию, изобразив безмерное удивление.
– Деон? Не ожидал вас здесь встретить. Ведь мы не договаривались?
– Нет. Я так, жду кое-кого.
– Понятно. Да, кстати, вы знакомы с профессором Дэвидсом?
Деон повернулся к человеку со смуглой кожей, и теперь взгляды их встретились, они смотрели друг другу в глаза прямо и открыто.
– Профессор Дэвидс, профессор ван дер Риет, – представил их Мартин.
– Филипп, – нерешительно произнес Деон ван дер Риет.
Они улыбнулись друг другу одинаково выжидающей улыбкой.
– Деон, – сказал тот.
И оба рассмеялись, будто какой-то им одним знакомой старой шутке. И обменялись рукопожатием.
– Давненько же мы не виделись, – сказал Деон.
– Давненько, – согласился Филипп Дэвидс.
– Двадцать лет?
– Точно. Мы ведь кончали в пятьдесят четвертом.
– Ну да. – Деон озадаченно покачал головой. – Немало воды утекло с тех пор, а?
Филипп секунду будто осмысливал эту банальность, как некое серьезное и глубокомысленное замечание. Наконец кивнул.
– Немало, – подтвердил он.
Профессор Мартин, все это время с тревогой посматривавший на них, словно боясь чего-то скрыто опасного, какой-нибудь искры, одной-единственной, которая могла повлечь за собой взрыв, теперь тоже решил вставить словечко. Он явно успокоился, точно вот сейчас ему собственными героическими усилиями удалось предотвратить несчастье.
– А я и понятия не имел, друзья, что вы знакомы… – нарочито весело сказал он.
– Мы вместе кончали, – объяснил ему Деон, – и вместе стажировались в больнице.
Мартин, похоже, изрядно удивился, и в то же время это явно произвело на него впечатление.
– Господи боже мой, а! – Он окинул взглядом зал. – Так вы, наверное, здесь, вот в этих стенах, и лекции слушали…
– Стены здорово подновили, – заметил Филипп. И показал на стены, на ряды скамей, амфитеатром окружавшие с трех сторон стол, на котором африканец, следуя схеме, распластывал сердце, легкие, ночки, печень. – В мои годы этого не было.
– О, конечно, – поспешил подтвердить Мартин, – все это появилось уже после того, как я принял кафедру. – Весь сияя, он подошел к монитору. Он не упускал случая похвастать оборудованием. – Бездну времени экономит, знаете ли, – показал он на монитор. – Уильям располагает здесь все органы до начала занятий, а затем включает вот это. Лектору не приходится ни на минуту отвлекаться. Ну и, естественно, всем с любого места одинаково хорошо видно.
Со странным чувством вины Деону вспомнился вдруг тот день (двадцать лет назад? Больше. Двадцать три, а то и все двадцать четыре…), когда Филиппа и других цветных из их потока не впустили в эти двери, отделанные под темный орех, потому что на столе в анатомичке лежало тело белого человека. Неужели все эти нововведения с телевизионными экранами и прочим для того и придуманы, чтобы ловко избежать подобных ситуаций? Ведь когда отдельные органы лежат на предметном столе, кто там знает, какого цвета было тело, вмещавшее их, – белое, желтое, черное? Один Уильям.
Воспоминания, прорвав брешь в плотине памяти, хлынули, и теперь он не мог их сдержать.
Вот Филипп на занятиях, в своей потертой, ношеной-переношеной куртке и в таких же брюках, задает вопросы, которые никому другому не приходило в голову задавать.
Вот Филипп, поглощенный созерцанием чего-то под микроскопом, смуглые руки изящными движениями мягко юстируют прибор.
Вот Филипп в момент торжественного акта вручения дипломов преклонил колено – прямой как стрела, – и на голову ему надевают шапочку магистра… Вот Филипп… Деон резко повернулся к Мартину, чтобы прогнать нахлынувший поток воспоминаний.
– Я жду доктора Иннеса. Он обещал мне здесь аутопсию. Ребенок. Оперировали вчера по поводу дефекта межжелудочковой перегородки сердца – отверстия в перегородке между предсердиями и высокого давления в легочной артерии. Кардиолог говорит, что кровоизлияние в таких случаях неизбежно. А девочка была в норме целые сутки, пока не началась фибрилляция. Мы не смогли восстановить сердечную деятельность. Но Иннес что-то задерживается. Я подумал, может быть, вы могли бы… просто вскрыть грудную клетку и взглянуть на сердце и легкие, а?
Мартин посмотрел на Филиппа.
– Похоже, у нас еще есть время, не так ли, профессор? – Он крикнул африканцу: – Уильям, фартук и перчатки найдутся? – И снова, повернувшись к Деону, светским тоном проговорил: – Я, собственно, лишь встречаю профессора Дэвидса, пока Хью Глив готовит все, что нужно, для лекции. Вы, конечно, слышали, что профессор Дэвидс читает сегодня лекцию?
– Профессор Глив прислал нам приглашение.
– Вы пойдете?
Деон заколебался.
– Вряд ли. Не думаю, что смогу. Сегодня утром я делал замену митрального клапана в детской больнице и уехал еще прежде, чем ребенка вывезли из операционной. Но от нас будет доктор Робертсон. Помните Робби Робертсона? – спросил он Филиппа.
– Робби? Конечно, помню.
– Он теперь у меня ассистент по кардиологии.
– В самом деле? Вот уж надумал. Он все такой же?
– Да, ничуть не изменился! Все тот же, наш старина Робби.
– Большой был шутник.
– Все такой же.
Мартин надел фартук, завязал тесемки и теперь двигал пальцами, чтобы перчатки сели по руке. Они подождали, пока Уильям передвигал труп, чтобы Мартину было удобнее.
– О'кей. Запись! – раздался голос патологоанатома, и Деон с Филиппом отодвинулись подальше от микрофона.
Теперь слышался лишь монотонный голос Мартина:
– …упитанность нормальная, пол женский… скелет… выраженные аномалии… – Деон с Филиппом стояли рядом, и обоим было не по себе.
А может быть, думал Деон, скосив глаза и разглядывая строгий профиль и спокойный взгляд человека рядом, это только мне не по себе? Неужели только я все помню?
Вот сейчас настал момент, а он не знает, с чего начать. Он прочистил горло. Кашлянул.
– Вы ведь сами, кажется, были патологоанатомом, не так ли? – начал он приглушенным голосом. Что угодно, лишь бы заставить прошлое исчезнуть, лишь бы остановить поток воспоминаний. – Ну, до того, как занялись генетикой, я хотел сказать.
Филипп посмотрел на него, улыбнулся.
– Совершенно верно. Отсюда я уехал в Эдинбург, если вы помните. Затем провел год во Франции, ну и наконец, работал в Канаде.
Мартин рассек реберные хрящи с обеих сторон и теперь высвобождал грудину.
– …очевидные признаки недавней операции: фибринозный экссудат в полости перикарда, – поведал он в микрофон.
– Но, насколько я понимаю, сегодняшняя ваша лекция будет о генетике, – сказал Деон, остро сознавая, как фальшиво и безучастно прозвучал голос.
– Да. – Филипп, казалось, и не замечал его состояния. – Жаль, что вы не можете быть. Я собираюсь коснуться новых теорий происхождения врожденных аномалий. Мне кажется, для вас там нашлось бы кое-что интересное.
– Уверен. Но я буквально связан по рукам этой малышкой, которую мы оперировали сегодня. – Деон пожал плечами и сделал неопределенный жест, как бы говоря, что сожалеет.
Эта их встреча – ошибка. Он заранее решил, что не пойдет на лекцию Филиппа, – пошлет вместо себя Робби, а сам не пойдет. А теперь, лицом к лицу с Филиппом, искать отговорки было трудно. Тем более что Филипп был явно рад встрече с ним. Неужели он забыл?
Деона выручил Мартин, поманивший его.
– Вот мы и подошли к предмету, – возвестил он. – Сердце и легкие.
Деон, встав рядом с патологоанатомом, тупо уставился в разверстую грудную клетку – она зияла пустотой. Сердце лежало на деревянном столике, поставленном в ногах у трупа. Последний раз, когда Деон видел его, оно билось ритмично, неся жизнь телу, которое вмещало его. Теперь оно было недвижно, и вся его, Деона, работа, чтобы спасти ребенка, оказалась тщетной.
Мартин отсек сердце от легких и надрезом вскрыл околосердечную сумку. Он обнажил правое предсердие, смыв с него струйкой воды из тоненького резинового шланга темную венозную кровь. Изучая перегородку между предсердиями и шов на ней, наложенный Деоном, он диктовал для записи на магнитофонную ленту:
– На шве дефектов не обнаружено.
Ножницами он разрезал трехстворчатый клапан до правого желудочка, затем, идя вдоль перегородки, сделал разрез до верхушки сердца, обнажив полость правого желудочка.
– Пластик наложен на месте дефекта межжелудочковой перегородки сердца и по линии тракта правого желудочка. Повреждений нет.
Он снова пустил струйку воды, целя между мышечным пучком и перегородкой, и на лице его появилось радостное и в то же время извиняющееся выражение. Он повернулся к Деону.
– Вот и дефект – и пресерьезный.
Деон смотрел, не веря собственным глазам. Этого не могло быть, это невозможно.
– Второй дефект межжелудочковой перегородки просматривается ниже, в мышечной перегородке, – продиктовал Мартин в микрофон, все еще не сводя глаз с Деона. – Не закрыт. Размером приблизительно…
– Господи Иисусе, я пропустил его! – выкрикнул Деон. – Как, черт меня побери, я мог его пропустить?
Мартин отвел руки в перчатках, чтобы он мог лучше видеть.
– Это вам объясняет что-нибудь?
Деон угрюмо кивнул.
– Ja. [2]2
Да (африкаанс).
[Закрыть]И это объясняет, почему давление в легочной артерии не падало, оставаясь и после операции высоким. Это и могло стать причиной фибрилляции. Не знаю, как это меня угораздило… – Он беспомощно покачал головой, не в силах продолжать.
– Ничего, если все остальное закончит Иннес? – И Мартин кивнул африканцу. – Достаточно, Уильям. Объясните, пожалуйста, все доктору Иннесу, когда он вернется.
Он пошел к умывальнику в другой конец зала, на ходу стягивая перчатки. Деон с Филиппом остались у тела ребенка.
Деон снова покачал головой.
– Такая осечка!
– Один из профессоров у Мак-Гилла имел обыкновение говорить студентам: «Хотите играть во взрослые игры – будьте готовы получать синяки…», – через некоторое время произнес Филипп. Он сказал это мягко, и Деон ответил ему вымученной улыбкой.
– А ведь я еще подумал, почему кровь из левого желудочка сочится венозная? И ничего не сделал – только подумал. А она и шла венозная все время потому, что сочилась здесь. Ах ты господи, ну должен же я был сообразить: раз происходит что-то необычное, надо найти этому объяснение. Я должен был догадаться, что есть еще один дефект.
– Его скрывала мышца.
– Все равно обязан был посмотреть. Тогда я бы не пропустил…
Филипп подумал, сказал рассудительно:
– Нет. Тогда бы, пожалуй, нет.
Это честное суждение прозвучало неожиданно и в то же время было так характерно для того Филиппа, которого Деон знал двадцать лет назад, что он невольно улыбнулся. И вдруг спросил:
– Ваша лекция, когда она начинается?
Филипп поискал глазами часы на стене.
– Через пятнадцать минут.
– Мне хотелось бы послушать. Но сначала придется позвонить. – Он тоже бросил взгляд на часы.
– Я был бы рад вас видеть, – сказал Филипп Дэвидс.
Комиссия, назначенная для встречи, в полном составе выстроилась в вестибюле у лифтов. Деон увидел собравшихся, когда шел назад по коридору чуть впереди Филиппа и Мартина; теперь, подумал он, было бы просто невежливо шмыгнуть на лестницу обычным путем. Придется смириться и подняться в лифте вместе со всеми.
Тем, кто стоял у лифтов, не удалось скрыть настроение враждебной напряженности на лицах; та неестественность, с какой они все держались, сразу же насторожила Деона, и он с любопытством искал причину – первый раз он видел их такими.
Старина Снаймен, обычно дерзкий и подвижный, как белка, делал вид, будто все это его не касается. Д-р Малколм, директор клиники, выглядел, напротив, возбужденным и всем своим видом показывал, что зол как черт. Декан, профессор Левин, и профессор Глив, заведующий кафедрой генетики, разговаривали с Малколмом. Робби Робертсон, с заметно поредевшей на висках рыжей шевелюрой, нахально скалил зубы, радуясь сложному положению, в которое попал г-н директор.
Когда подошел Деон, обычно ровный голос декана звенел на самых высоких нотах:
– Послушайте, Мак, этот человек выпускник вашего университета! И если с его лекцией здесь будет что-нибудь не так, я обещаю, что вы сегодня же получите уведомление о моей отставке. Это университетская клиника, черт побери, а не ваш чертов оперный театр «только-для-белых»! Объясняйтесь со своим начальством сами, если хотите. А я положительно…
Он перехватил ледяной взгляд Глива, который что-то показывал ему глазами, и в смущении обернулся.
Глив, оставив группу у лифта, с распростертыми объятиями заторопился навстречу вышедшим из коридора профессорам, старательно изображая на лице гостеприимную улыбку.
– Здравствуйте, профессор Дэвидс, – произнес он тепло. – Приятно видеть вас здесь. Очень любезно с вашей стороны уделить нам время. Прошу извинить, что не показал вам клинику, но дела… м-м… надо было все подготовить к вашей лекции. Спасибо, что заняли гостя, Джим.
– Мне было только приятно, – сказал Мартин.
– О, Деон, – продолжал Глив, – как хорошо, что вы пришли. Вы уже знакомы, не так ли?
– Да, – отвечал Деон.
– Позвольте представить вас остальным, профессор Дэвидс.
Глив суетился, а Филипп переходил рядом с ним, от одного к другому, высокий, со спокойной улыбкой, сквозь которую, впрочем, проглядывала легкая усмешка. Деон подумал: неужели и он тоже слышал, что сказал декан?
Профессор Снаймен оживленно закивал, обмениваясь с Филиппом рукопожатиями.
– Дэвидс. Я помню вас. Середина пятидесятых, а?
– Я кончил в пятьдесят четвертом.
Старик продолжал кивать.
– Ну конечно, я прекрасно всех помню. Вы были у нас среди первых.
Филипп Дэвидс добродушно улыбнулся ему и с той же улыбкой оглядел просторный вестибюль.
– Вот уж никак не ожидал, что снова буду здесь, – сказал он.
Никто из белых ничего на это не сказал.
Зажглась кнопка лифта, и прозвенел звонок. Стальные дверцы с лязгом раздвинулись. Профессор Глив рванулся вперед, поставил ногу, чтоб они не закрылись.
– Джентльмены! – воззвал он, обращаясь к стоявшим у лифта. – Прошу вас, джентльмены…
Они всей группой двинулись к лифту, но у дверей замешкались, вежливо пропуская друг друга; Деон не выдержал и, решительно подтолкнув Филиппа, заставил его первым войти в лифт. Глив так и расплылся от удовольствия, благодушно кивая направо и налево, он вошел последним и прижался в уголок – подальше от панели с кнопками.
– Четвертый этаж, – весело возвестил Робби и кулаком надавил на кнопку. – Пиявки и водные процедуры!
Ему ответили принужденным смешком. На четвертом этаже размещались отделения гематологии и урологическое. Робби был записным паяцем – ему спускали даже плоские шутки.
Снова лязгнули двери, на этот раз сдвинувшись, и они поехали наверх в напряженном молчании, какое обычно наступает, когда люди – совершенно посторонние – вдруг оказываются вместе. Ущемление территории, подумал Деон. Когда едешь вот так, в битком набитом лифте, создается ощущение, будто все эта люди заняли твою территорию. Стоит, пожалуй, над этим призадуматься.
– Боюсь, профессор Дэвидс, вас ждет одно маленькое испытаньице, – заговорил Глив доверительным полушепотом, словно стесняясь тою, что их могут услышать. – Пресса, как и следовало ожидать. Они пронюхали, конечно, о вашем приезде, и нам ничего не оставалось, как согласиться на небольшую пресс-конференцию, если вы ничего не имеете против.
На лице д-ра Малколма тотчас появилось выражение загнанного зверя. Директор питал глубокое недоверие к журналистам и фоторепортерам, он их просто боялся.
Глив заметил, как изменилось лицо д-ра Малколма, и ледяным тоном сказал:
– Вы были своевременно предупреждены, Мак.
– Я знаю, – проворчал д-р Малколм, но ему от этого было явно не легче.
– Вообще-то говоря, – продолжал Глив, испытывая злорадное удовольствие от сознания, что нашел способ пустить директору шпильку, – событие как раз из тех, за которыми гоняются эти ребята, разве нет? – И добавил, словно читая воображаемые заголовки: – «Цветной врач, ныне всемирно известный ученый-генетик, возвращается читать лекции в свою alma mater».
Деона передернуло. Глив слыл человеком, способным яростно защищать своих друзей и свое дело, но тактичностью он никогда не отличался. Малколм залился краской. Деон скосил глава на Филиппа, стоявшего рядом с ним. Широкоскулое лицо его было бесстрастно.
А он тоже похудел, подумал Деон. И волосы серебрятся, и вообще сдал, явно сдал. Вот так – все воображаешь себя юным, и вдруг голос из прошлого объявляет: ты уже стар.
Старина Филипп! Сколько же времени прошло? Деон почувствовал неожиданный прилив симпатии и теплого чувства к нему и, не сдержав порыва, дружески похлопал стоявшего рядом с ним долговязого человека по спине.
– Я рад, что вы вернулись, – сказал он.
Филипп повернул голову, посмотрел на Деона, и морщинки побежали вокруг его глаз.
– И я рад, что вернулся, – сказал он.
Лифт тряхнуло, и он резко остановился; двери раздвинулись. Выходили, строго придерживаясь протокола – гость впереди, так, все правильно, профессор Глив на нравах хозяина замыкает шествие.
Филипп остановился, и взгляд его скользнул вокруг.
– Ничего не изменилось. – Он посмотрел на стены, окрашенные кремовой краской. – Даже краска старая, – сказал он.
Д-р Малколм не понял и, боясь новой подковырки, задиристо возразил:
– Нет, почему же, мы то и дело обновляем краску. – И продолжал тоном заправского гида: – Да и вообще многое здесь изменилось, профессор Дэвидс. Клиника выросла почти вдвое с тех пор, как вы отсюда уехали. Например, открыто новое амбулаторное отделение, в котором мы принимаем до пятидесяти тысяч пациентов в месяц. Сдан новый корпус под акушерскую клинику, и в ближайшие полтора года будет закончено строительство нового кардиологического корпуса для профессора ван дер Риета…
Этот покровительственный тон начал надоедать Деону.
– Я слышу об этом уже полтора года.
Малколм посмотрел на него испепеляющим взглядом.