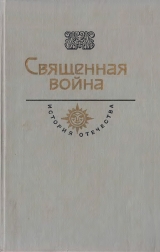
Текст книги "Священная война. Век XX"
Автор книги: Константин Симонов
Соавторы: Андрей Платонов,Владимир Беляев,Леонид Леонов,Евгений Носов
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 57 страниц)
– Спасибо, спасибо, – повторил Сабуров, видя, что она продолжает молча стоять, и, вдруг поняв, чего она ждёт, вытащил из-за голенища ложку.
– Хорошие щи, вкусные, – подхватил он, – очень вкусные... Вы идите, а то сейчас опять стрелять начнут.
Ночью, воспользовавшись темнотой, к Сабурову добрался Масленников, и Сабуров с трудом узнал его – таким тот был небритым и вдруг странно повзрослевшим. Глядя на Масленникова, Сабуров подумал, что, наверное, он и сам переменился за эти дни. Он очень устал, не столько от постоянного чувства опасности, сколько от той ответственности, которая легла на его плечи. Он не знал, что происходило южнее и севернее, хотя, судя по канонаде, кругом повсюду шёл бой, – но одно он твёрдо знал и ещё твёрже чувствовал: эти три дома, разломанные окна, разбитые квартиры, он, его солдаты, убитые и живые, женщина с тремя детьми в подвале – всё это вместе взятое была Россия, и он, Сабуров, защищал её. Если он умрёт или сдастся, то этот кусочек перестанет быть Россией и станет немецкой землёй, а этого он не мог себе представить.
Всю четвёртую, последнюю, ночь слева и справа гремела отчаянная канонада. На двор и прямо в дома залетали снаряды, и немецкие и наши, и к утру наши, пожалуй, даже чаще, чем немецкие. Сабуров сначала не верил, потом верил, потом опять не верил и только уже к рассвету подумал, что иначе не может быть и что к нему пробиваются свои.
С рассветом во двор левого крайнего дома ворвались наши автоматчики, потные, грязные, яростные. Они гнались за немцами, им казалось, что и здесь тоже немцы. Было трудно, почти невозможно удержать их и не дать им бежать дальше по этим коридорам и подвалам дома в поисках немцев.
Одним из первых, кого увидел и обнял Сабуров, был Бабченко, такой надоедный, грубый и придирчивый, такой усталый, обросший, долгожданный Бабченко, с повешенным на шею автоматом, с руками и коленками, измазанными в грязи и извёстке.
– Я ж тебе обещал по телефону, что скоро приду, – сказал, почти крикнул Бабченко.
Всё ещё непривычно улыбаясь, Бабченко два раза пересёк комнату, сел за стол и наконец, вернув своему лицу обычное скучное и недовольное выражение, спросил прежним своим тоном:
– Сколько потерь?
– Пятьдесят три убитых, сто сорок пять раненых, – ответил Сабуров.
– Не бережёшь людей, – сказал Бабченко, – не бережёшь, мало бережёшь. А так ничего, держался хорошо. Скажи, чтобы мне воды дали.
Сабуров повернулся к Пете и сказал насчёт воды, но когда он обернулся снова, то оказалось, что вода подполковнику уже не нужна: привалившись на край стола и уронив голову на неловко торчавший из-под руки диск автомата, он спал. Наверное, он не спал все эти дни, так же как и Сабуров. Сабуров подумал об этом и вдруг, вспомнив о себе и обо всех этих четырёх днях, почувствовал ломившую кости усталость. Чтобы не свалиться у стола, так же как Бабченко, он встал, прислонившись к стене, и с трудом вытащил из кармана свои большие часы. На них было 9.15, – прошло ровно четверо суток и семь часов с тех пор, как он, подсаженный Петей через проломанное окно, вслед за брошенной гранатой вскочил в этот дом.
VI
К тем четырём суткам боёв, которые Сабуров отсчитал в счастливую минуту соединения с Бабченко, с удивительной быстротой прибавилось ещё четверо суток, наполненных визгом пикировщиков, ударами снарядов и сухой автоматной трескотнёй немецких атак. Только на девятые сутки наступило какое-то подобие затишья.
Сабуров лёг вскоре после наступления темноты, но через три часа его разбудил звонок. Бабченко, не любивший, чтобы подчинённые спали тогда, когда он сам не спит, потребовал у дежурного, чтобы тот разбудил Сабурова.
Сабуров встал с дивана и подошёл к телефону.
– Спите? – глухим, далёким голосом спросил в телефон Бабченко.
– Да.
– Спите, а у вас всё в порядке?
– Всё в порядке, – ответил Сабуров, чувствуя, что с каждой секундой этого злившего его разговора с него всё больше соскакивает сон.
– Меры на случай ночной атаки приняли?
– Принял.
– Ну, тогда спите.
И Бабченко положил трубку.
По тому, как Сабуров вздохнул, Масленников, тоже проснувшийся и сидевший на кровати против него, мог примерно представить, какого содержания был разговор.
– Подполковник? – спросил Масленников.
Сабуров молча кивнул и попробовал снова лечь и заснуть. Но, как это часто бывает в дни особенной усталости, сон уже не возвращался. Полежав несколько минут, Сабуров спустил босые ноги на пол, закурил и впервые внимательно оглядел комнату, в которой уже несколько дней помещался его штаб.
На клеёнке, покрывавшей стол, остались два свежепрожжённых круга – один побольше, очевидно, от сковородки, другой поменьше – от кофейника. Вероятно, хозяин квартиры уехал отсюда, предварительно отправив семью, и последние несколько дней вёл непривычный для себя холостяцкий образ жизни. У шкафа воздушной волной были выбиты стеклянные дверцы, и он ничего не мог сказать о хозяевах, потому что из него всё было вынуто. Зато на письменном столе остались многочисленные следы жизни всей семьи. Спицы с начатым вязаньем, кипа технических журналов, несколько растрёпанных томиков Чехова, старые, замусоленные учебники третьего класса и аккуратная стопка новых учебников четвёртого... Потом Сабурову попались на глаза детские тетради по русскому языку. Он с профессиональным любопытством человека, который когда-то готовил себя к педагогической карьере, стал перелистывать эти тетрадки. На первой странице одной из них начиналось сочинение: «Как мы были на мельнице». «Вчера мы были на мельнице. Мы смотрели, как мелют муку...» В слове «мелют» «ю» было зачёркнуто, поставлено «я», снова зачёркнуто и восстановлено «ю». «Сначала зерно везут на элеватор, потом с элеватора транспортер везёт его на мельницу, потом...»
Закрыв тетрадку, Сабуров вспомнил, как ещё с левого берега Волги он видел огромный пылавший элеватор, может быть, тот самый, о котором прочёл сейчас в этой ученической тетрадке.
Масленников, сидевший напротив, свесив ноги, в той же позе, что и Сабуров, тоже дотянулся до тетрадок, медленно перелистал их и заговорил о своём детстве. В разговорах с Сабуровым, со времени их знакомства, он возвращался к этой теме несколько раз, и сейчас Сабуров почувствовал, что Масленников не столько хочет ему рассказать о своём детстве, сколько хочет наконец вызвать его самого на разговор о прошлом.
Сабуров не принадлежал к числу людей, молчаливых от угрюмости или из принципа: он просто мало говорил: и потому, что почти всегда был занят службой, и потому, что любил, думая, оставаться со своими мыслями наедине, и ещё потому, что, попав в компанию, предпочитал слушать, в глубине души считая, что повесть его жизни не представляет особого интереса для других людей.
Так и сейчас, он молча слушал Масленникова, то вдумываясь в его слова, то отдаваясь собственным мыслям и неторопливо перебирая лежавшие на столе вещи.
Второй ребёнок в квартире, очевидно, был совсем маленький. На столе валялось несколько листиков, вырванных из тетрадки, исчерченных красным и синим карандашом. На рисунках были изображены кособокие дома, горящие фашистские танки, падающие с чёрным дымом фашистские самолёты и надо всем маленький, нарисованный красным карандашом наш истребитель, исконное детское представление о войне – мы только стреляли, а фашисты только взрывались.
Впрочем, как ни горько вспоминать ошибки прошлого, Сабуров невольно подумал, что перед войной слишком многие взрослые люди были недалёки от такого именно представления о ней.
Война... Последнее время он, вспоминая свою жизнь, невольно приводил её всю к этому единственному знаменателю и задним числом делил свои довоенные жизненные поступки на плохие и хорошие не вообще, а применительно к войне. Одни житейские привычки и склонности сейчас, когда он воевал, мешали ему, другие – помогали. Вторых было больше, должно быть, потому, что люди, подобно ему начавшие самостоятельную жизнь в годы первой пятилетки, прошли такую тяжёлую школу жизни, полную самоотверженности и самоограничений, что воина, если исключить постоянную возможность смерти, не могла поразить их своими повседневными тяготами.
Так же как и многие его сверстники, Сабуров начал работать мальчишкой, метался со строительства на строительство, несколько раз принимался учиться и опять, сначала по комсомольским, а потом по партийным мобилизациям, не доучившись, уезжал работать. Когда подошёл его срок, он два года прослужил на действительной в армии, приехал оттуда младшим лейтенантом и, возвратясь к своей профессии строительного прораба, снова стал дневать и ночевать в котлованах и на лесах Магнитогорска.
Годы пятилеток увлекли его, как и многих других, своей строительной горячкой и, спутав все карты, толкнули совсем не к той профессии, о которой он мечтал с детства. И всё-таки, как и многие другие, он в конце концов нашёл в себе силы отказаться от привычной работы, заработка, быта и уже далеко не мальчиком сменить всё это на студенческую скамью и койку в общежитии.
За год до войны он приехал в Москву и поступил на исторический факультет. В июне 1941 года сдал свои первые университетские экзамены, а через несколько дней услышал речь Молотова. Случилось то, чего все ждали и во что где-то в глубине души всё-таки до конца не верили. Началась война, которая через год и три месяца привела его, человека, когда-то хотевшего стать учителем истории, три раза выходившего из окружения, два раза награждённого и пять раз раненного и контуженного, сюда, в Сталинград. Привела в эту комнату, которая, может быть, и могла на минуту напомнить ему о мире, если бы на украшенной домашними вышивками плюшевой спинке дивана не висел автомат.
Было далеко за полночь. Сабуров, рассеянно слушавший рассказы Масленникова о его жизни и невольно вспоминавший свою, медленно свернул самокрутку, вложил в мундштук и закурил. Масленников, замолкнув, неподвижно сидел против него. Так они сидели оба и молчали, может быть, пять, может быть, десять минут. Потом Масленников опять заговорил, на этот раз о любви. Сначала он с мальчишеской серьёзностью рассказывал о своих школьных увлечениях, потом заговорил о любви вообще и кончил тем, что неожиданно спросил у Сабурова:
– Ну, а у вас любовь?
– Что любовь?
– Любви разве у вас не было?
– Любви? – Сабуров затянулся и закрыл глаза. Любви... разве в самом деле не было у него любви?
Он вспомнил нескольких женщин, которые мимоходом прошли через его жизнь так же, как, очевидно, он прошёл мимоходом через их жизнь. В этом отношении они, наверное, были квиты: он ни в ком не разочаровался и никого не обидел. Может быть, это было нехорошо, кто знает. Пожалуй, скорее всего, это выходило так – легко и коротко – не потому, что ему не хотелось любви, а именно потому, что слишком хотелось её. И те, с кем выпало ему встретиться, и то, как это вышло, было так непохоже на любовь, как он её представлял себе, что он и не старался сделать это похожим на неё. Впрочем, во всех этих подробностях можно было признаться только самому себе, и когда Масленников после долгого молчания переспросил: «Неужели не было любви?» – он сказал: «Не знаю, не знаю, должно быть, не было...»
Он встал с дивана и несколько раз пересёк комнату.
«Нет, но может быть, чтобы её не было, – подумал он, – вернее, может быть, что её не было, но не может быть, что её не будет».
И вдруг вспомнил слова девушки на пароходе, что она больше боится смерти оттого, что у неё не было любви, а он не должен бояться, потому что он взрослый и у него, наверное, уже всё было.
«Нет, не всё, – подумал он. – Не всё. Боже мой, как много и как мало всё-таки всего было и как, наверное, скучно и невозможно жить человеку, которому хоть на минуту покажется, что у него уже всё было...»
Он ещё раз пересёк комнату и, подойдя вплотную к Масленникову, положил руку на его плечо.
– Слушай, Миша, – сказал он, не столько собираясь ответить ему, сколько отвечая своим собственным мыслям. – Слушай, Миша. Нам с тобой никак нельзя умирать. Ну никак, просто никак...
– Почему?
– Не знаю. Знаю только, что нельзя.
Вошедший связной сказал только одно слово: «Атакуют». Сабуров сел на диван, наспех подвернул портянки, натянул сапоги и сразу же, привычным жестом попадая в рукава, надел поверх гимнастёрки шинель.
– Вот поспать и не успели, – сказал он Масленникову, застёгивая ремень.
И Масленников почувствовал в словах капитана грустную и добрую иронию надо всем, что только что вспоминалось и что всё-таки так мало значило сейчас перед одним коротким, но сразу заполнившим всю их жизнь словом: «атакуют».
VII
Сабуров, вернувшийся к себе после того, как известие о немецкой атаке на этот раз оказалось ложной тревогой, так и не лёг. Было пять часов утра – самый тихий час суток. Сабуров подошёл к выломанной и занавешенной плащ-палаткой двери в коридор. Он хотел позвать Петю, чтобы тот приготовил чего-нибудь поесть. Откинув плащ-палатку, он остановился. Не замечая его, Петя и дежурный связист сидели рядом на полу и разговаривали.
– Спрашиваешь, когда эта война кончится? – говорил Петя. – Как немца добьём, так и кончится, а когда добьём – кто его знает...
– Ох, и далеко ж их гнать. – Связной пустил дым колечками и посмотрел в потолок. – Далеко, – добавил он с выражением полной уверенности, что это именно так и будет. Видимо, его огорчало только расстояние до границы.
Не желая, чтоб вышло, что он невольно подслушал их разговор, Сабуров опустил плащ-палатку, вернулся, сел за стол и громко крикнул Петю. Петя немедленно появился в дверях.
– Что-нибудь позавтракать сообрази.
– Есть сообразить, – отозвался Петя, и за плащ-палаткой стало слышно, как он возится, погромыхивая котелками и консервными банками.
– Как раненые у нас? Все наконец вывезены? – спросил после молчания Сабуров у Масленникова.
– Вечером оставалось ещё восемнадцать человек, – сказал Масленников. – Бомбёжка – не осколком, так камнем, не камнем, так стеклом.
– Да, в открытом поле лучше, – согласился Сабуров.
Он досадливо поморщился, и на его лице появилось злое выражение.
– А ведь, между прочим, вокруг Сталинграда обвод был, – заметил он.
– Я знаю, мне говорили...
– Там километрах в пятнадцати от города и рвов накопано, и окопов, и дзотов, и бетонных колпаков наставлено. Масса народу, говорят, день и ночь работало, а драться там так и не дрались.
– А почему?
– Если бы ты знал, Миша, – с грустью сказал Сабуров, – сколько я за год войны видел зря нарытых окопов и рвов. Миллионы кубометров земли от самой границы и досюда зря вырыты. А почему? Потому что часто выроем позади себя линию, а войска не сажаем туда заранее, ни орудий не ставим, ни пулемётов – ничего. По старинке думаем: отойдём и займём, а немцы – раз! – и обошли и раньше нас там оказались... А окоп без человека – мёртвое дело... Так и идут эти укрепления сплошь и рядом коту под хвост. А мы потом дойдём до города, упрёмся в него спиной, выроем новые окопы не за три месяца, а за три дня, как попало, и в них дерёмся до конца, до смерти. Тяжело и обидно... Да, так, значит, восемнадцать раненых к вечеру осталось, – вернулся он к первоначальной теме разговора. – Ну-ка, справься, как, их теперь уже вывезли или нет.
Масленников вышел. Сабуров достал нож и поправил им фитиль в самодельной лампе «катюше». Лампа представляла собой гильзу от 76-миллиметрового снаряда, наверху она была сплюснута, внутрь был просунут фитиль, а немножко выше середины была прорезана дырка, заткнутая пробкой, – через неё заливали керосин или, за неимением его, бензин с солью.
Поправив фитиль, Сабуров несколько раз лениво ткнул вилкой в только что принесённую Петей сковородку с поджаренными мясными консервами. Есть не хотелось. С чего бы это? Впрочем, может, оттого, что всего шестой час утра, – в сущности говоря, не обеденное время. Часы путались. Сабурову захотелось выйти на воздух. Он уже накинул на плечи шинель, когда вернулся Масленников.
– Всех за ночь вывезли. А знаете, кто за ранеными приехал? – сказал Масленников. – Та девушка, которую вы из воды вытащили, она приехала.
– Ну? – удивился Сабуров.
– Она их, оказывается, всё время вывозила, только я её не видел. Я её сюда привёл. Пусть отдохнёт, посидит, – тихо добавил Масленников.
– Пусть, конечно, конечно, – неожиданно вспомнив о том, что он здесь хозяин и что среди прочих обязанностей у него есть ещё и обязанность гостеприимства, сказал Сабуров. Масленников вышел в коридор и громко крикнул:
– Аня! Аня, где вы?
Девушка вошла и робко остановилась на пороге. Сабурову показалось, что она за эти восемь дней как будто ещё похудела.
– Садитесь, садитесь, – засуетился Сабуров. Стараясь быть гостеприимным, он делал всё особенно неловко. Вместо того чтобы просто подвинуть табуретку, он поднял её и опустил на пол с таким треском, что девушка вздрогнула.
– Как вы живете? – ни к селу ни к городу спросил Сабуров.
– Ничего, – ответила девушка и, улыбнувшись, села. – А вы?
– Тоже ничего.
– Что ничего? Прекрасно, – бодро подхватил Масленников. – Прекрасно живём. Вот видите, как у нас... – Он гордо развёл руками, как будто всё окружающее действительно свидетельствовало об их прекрасной и комфортабельной жизни.
– Значит, это вы у нас вывозили раненых? – спросил Сабуров.
– Первый день не я, а эти дня я...
– Всего сто восемь человек вывезено?
– Да, с теми, что в первый день. А я девяносто.
– Веского на переправе не выкупали?
– Нет, – и она улыбнулась, очевидно при воспоминании о том, как выкупалась сама, – никого... Только вечером с самолёта вас обстреляли на плоту. Четверых убили.
– Моих?
– Нет, не ваших.
– Вы тогда так исчезли...
– Да, я забыла вас поблагодарить.
– Я не к тому.
– Я знаю. Ну, всё равно, спасибо.
– Вы когда обратно? – спросил Сабуров.
– Придётся до вечера ждать. Я опоздала, сейчас уже светло.
– Да, когда светло, от нас в тыл не проберёшься, это верно. Ничего, вы отдохните тут.
– Да, я сейчас пойду отдохну, там мои санитары уже легли, они две ночи не спали, – сказала девушка, приподнимаясь.
– Нет, куда вы, куда вы? Вы тут отдохните. Мы сейчас уйдём с лейтенантом, а вы лягте тут и отдохните.
– А я вам не помешаю?
По тому, как это было сказано, Сабуров почувствовал, что она безумно устала и что койка, на которую она могла лечь и укрыться, представлялась ей почти чудом.
– Нет, что вы, – успокоил он.
– Тогда хорошо, я отдохну, – просто сказала девушка..
– Только вы сначала покушайте.
– Хорошо, спасибо.
– Петя, – крикнул Сабуров, – принеси что-нибудь покушать!..
– Так вот же, – показал, появляясь, Петя, – стоит у вас, товарищ капитан, сковородка.
– Ах, верно... – Сабуров пододвинул сковородку девушке.
– А вы?
– Мы тёзке.
Сабуров отвинтил пробку лежавшей на столе немецкой фляги и вылил себе и Масленникову в снарядные головки, или, как их называли между собой, «фугасники». Они последнее время всё чаще заменяли стопки и стаканы.
– Вы пьёте? – спросил он.
– Когда устану, пью, – сказала она, – только половину...
Он налил ей, и она выпила вместе с ними, спокойно, не морщась, как послушный ребёнок пьёт лекарство.
– А вы песни не поёте? – ни с того ни с сего спросил Масленников.
– Пела когда-то под гитару.
– А гитара, наверное, дома у кровати висит, с бантом? – не унимался Масленников.
– С бантом, – подтвердила девушка. – Только теперь её нет... Я ведь здешняя, – добавила она.
Это слово «здешняя» было понятно всем троим в одном, определённом смысле: раз здешняя, значит, всё сгорело и ничего больше нет...
– Ну, не перестали ещё бояться? Помните наш разговор?
– А я никогда не перестану. Я ведь вам сказала, почему я боюсь, так отчего же я могу перестать? Я не перестану... Я думала, что уже вас не встречу, – помолчав, добавила она.
– А я, наоборот, – сказал Сабуров, – был уверен, что вас встречу когда-нибудь.
– Почему?
– Я замечал, как-то так выходит, что на войне редко встречаешься с людьми по одному разу. Вы где жили, далеко отсюда?
– Нет, не далеко. Если по этой улице идти направо, то третий квартал...
– Значит, теперь уже у немцев?
– Да.
– Аня, Аня... – вдруг припоминая, произнёс Сабуров. – А вы знаете, Аня, я вас сейчас, может быть, совсем удивлю. А впрочем, не знаю, может быть, и нет.
Он ещё не был уверен, удивит ли её в самом деле, но ему почему-то показалось, что если случилось одно совпадение и именно эта девушка, которую он вытащил из воды, вывозит теперь от него раненых, то почему бы не случиться и другому совпадению.
– Чем удивите?
– Ваша фамилия Клименко? – спросил Сабуров.
– Да.
– Наверное, удивлю и даже обрадую. Я видел вашу мать.
– Маму? Где?
– На том берегу, в Эльтоне, – сказал Сабуров. – И отец ваш где-то здесь в городе, да?
– Да, – ответила Аня.
– Я видел вашу мать в Эльтоне девять дней назад, как раз в то утро, когда мы вместе с вами Волгу переплывали. Только тогда я не знал вашего имени и потому не сказал.
– Что она, что с ней? – торопливо спросила Аня.
– Ничего, она пришла пешком в Эльтон, и я с ней разговаривал. Она сказала, что её разлучила с вами бомбёжка.
– Да, она была дома, а я нет. Как она?
– Хорошо, – солгал Сабуров. – Дошла до Эльтона.
– Где вы её видели? Как узнать, где она?
– Не знаю. Я её видел в Эльтоне, просто на улице. По-моему, она в тот день только что пришла туда.
– Ну, какая она, какая? – расспрашивала Аня. – Очень замученная?
– Немножко...
– Главное, что живая.
– Вот и она мне о вас что-то вроде этого сказала: «Главное, чтобы живая», – улыбнулся Сабуров.
– Это в самом деле сейчас главное.
Девушка положила руки на стол и опустила на них голову. Ей хотелось ещё и ещё расспрашивать Сабурова о матери, но что ещё мог добавить он, видевший мать каких-нибудь две минуты.
– Вы ложитесь, – предложил Сабуров. – Ложитесь на мой диван. Я сейчас ухожу и до вечера не буду. Я вас разбужу, когда вам надо будет идти.
– Я сама проснусь, – уверенно сказала она, потом, подойдя к дивану, села на него и, по-детски раскачавшись на пружинах, с удивлением заметила: – Ой, мягко, я давно на таком не спала.
– У нас тут ещё не то будет, – сказал Масленников. – Я ещё два кожаных кресла приглядел среди развалин, немножко починить, и будет как в салон-вагоне.
– А гитары среди ваших развалин нет?
– Пет.
– Жаль. А бы вам сыграла.
– Ничего, вы же к нам не последний раз...
– Наверное, не последний...
– Так я ещё найду гитару. Разрешите идти в первую роту? – сказал Масленников, старательно, более чем обычно, вытягиваясь перед Сабуровым.
– Идите. Я тоже скоро к вам приду.
Масленников вышел.
– Он кто у вас? – спросила девушка.
– Начальник штаба.
– Он у вас тоже хороший.
– Почему тоже?
– Тоже, как вы, – сказала она. – То есть не совсем, как вы, он, как я... то есть я не то – не хороший, как я... а я... – Она запуталась, смутилась, потом улыбнулась. – Я хочу сказать, что он, как я, тоже ещё молодой совсем, а вы уже взрослый, – вот что я хотела сказать.
– Вы уже меня вовсе в старики записали, – покачал головой Сабуров.
– Нет, почему в старики? – серьёзно сказала она. – Я просто вижу, что вы взрослый, а мы ещё нет. Вы уже, наверное, много пережили в жизни, ведь верно?
– Не знаю, может быть... Пожалуй, да... – нерешительно согласился Сабуров.
– А я – нет. Мне даже и вспоминать почти нечего. Только иногда Сталинград вспоминаю, какой он был. Вы никогда раньше не бывали в нем?
– Нет.
– Он был очень красивый. Я знаю – наверное, Москва красивее, но мне почему-то всегда казалось, что он самый красивый. Может, оттого, что я тут родилась. Очень жалко, – вдруг с силой сказала она, – очень жалко... Так жалко, вы представить себе не можете. Мама не плакала, когда с вами говорила?
– Нет.
– Она знаете какая... Она, если что-нибудь, пустяк какой-нибудь – тарелку разобьёт, – заплачет, а когда что-нибудь в самом деле страшное, она не плачет, молчит, даже ничего не говорит.
– А как ваш отец?
– Не знаю. Он на ту сторону не ушёл. Он мне сказал: «Я не уйду из Сталинграда». Он и не ушёл, я знаю. Они у меня оба хорошие. Когда я домой пришла и сказала, что ухожу в армию, а у нас только три дня как Миша – старший брат – погиб, я думала, что они спорить будут... А они ничего, сказали: «Иди». И всё... Хорошо, все понимают, – добавила она с детской непосредственностью представления о родителях, как о людях, обычно не понимающих самых простых вещей.
– Хорошо, что я вас увидела сегодня, а то я ваших раненых вывозила, они в разговоре все говорят: Сабуров, Сабуров, а я не знала, что Сабуров – это вы, а мне вас хотелось увидеть, поблагодарить. Мы тогда с вами ехали на пароходе, я вам разные вещи говорила, у меня тогда такое настроение было всё рассказать, и мне потом казалось, что, если я вас вдруг ещё увижу, мне опять захочется вам рассказать.
– Что?
– Не знаю, что... всё вообще... Вот не попали бы вы сюда к нам, в Сталинград, мы бы с вами никогда не увиделись.
– Почему? Вы же хотели учиться?
– Да.
– Поехали бы в Москву?
– Да.
– Поступили бы учиться в университет, а я бы там как раз преподавателем был.
– Вы разве до войны преподавали?
– Нет, учился, но должен был преподавать.
– Вот бы не подумала. Мне казалось, что вы всю жизнь в армии...
Как всякому человеку, пришедшему из запаса, Сабурову была приятна эта ошибка.
– Почему вы так подумали? – спросил он с интересом.
– Так. Вы такой, как будто всегда в армии были, – такой у вас вид... – И она, прикрыв рот рукой, зевнула.
– Ложитесь, – сказал он, – спите.
Она потянулась и легла. Сабуров снял с гвоздя свою шинель и укрыл девушку.
– А вы в чём пойдёте? – спросила она.
– Я днём без шинели хожу.
– Неправда.
– Нет, правда, я всегда правду говорю. Так и запомните на будущее знакомство.
– Хорошо, – согласилась она. – Сколько вам лет?
– Двадцать девять.
– Правда?
– Я же сказал вам.
– Ну да, конечно, – она с недоверием посмотрела на него, – конечно, правда, но только не похоже.
Она закрыла глаза, потом снова открыла их.
– Я, знаете, так устала, ужасно устала... я так всё ходила, ходила последние два дня, а сама думаю, вот бы лечь и заснуть…
– Вот и спите.
– Сейчас... У вас дети есть?
– Нет.
– И жены нет?
– Нет.
– Правда?
Сабуров рассмеялся.
– Мы же договорились.
– Нет, я вам верю, – сказала она. – Это я потому, что когда на фронте с нами, с девушками, болтают, то все как будто сговорились – уверяют, что у них жён нет, и смеются... Вот и вы смеётесь, видите...
– Я смеюсь, но это всё-таки правда.
– А чего же вы смеётесь?
– Вы смешно спросили.
– Почему смешно? Мне интересно, вот я и спросила, – сказала она совсем сонным голосом и закрыла глаза.
Сабуров с минуту постоял, глядя на неё, потом подсел к столу, пошарил по карманам – кисет с табаком куда-то запропастился. Он полез в полевую сумку. Там, между карт и блокнотов, к его удивлению, оказалась смятая папиросная коробка – та самая, из которой он вынул три папиросы: себе, Гордиенко и покойному Парфенову, когда они собирались атаковать ночью дом. Одна папироса была оставлена «на потом», на после атаки, и с тех пор он забыл о ней. Он посмотрел на коробку и без колебаний, как будто сейчас случилось что-то особенное, ради чего надо было выкурить эту последнюю папиросу, взял её и закурил.
За окном светало. Начинался обычный страдный день – один из тех, к каким он уже привык, – но ко всем заботам в этом дне прибавилась ещё одна, в которой он не хотел себе признаться, но которую уже чувствовал: это была забота о девушке, лежащей там, в углу, под его шинелью. У него было неясное ощущение, что девушка эта неожиданно прочно связана со всеми его будущими мыслями и с тем, что кругом осада и смерть, и с тем, что он сидит в осаде именно в этих домах в Сталинграде, в том самом городе, в котором она родилась и выросла. Он посмотрел на девушку, и ему показалось, что когда придёт вечер и ей нужно будет переправляться на тот берег и уходить отсюда, то её отсутствие будет до странности трудно себе представить.
Сабуров докурил папиросу и встал.
– Что без шинели? – спросил Петя, когда они вышли.
– Тяжело в ней, да сегодня ещё и тепло.
– Что ж, тяжело, так я понесу, пока тепло.
– Ладно, не надо, так пойдём...








