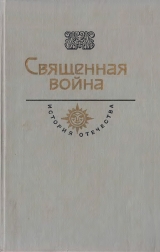
Текст книги "Священная война. Век XX"
Автор книги: Константин Симонов
Соавторы: Андрей Платонов,Владимир Беляев,Леонид Леонов,Евгений Носов
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 57 страниц)
III
Полковник Бобров ещё с утра был отправлен встретить и поторопить ту самую дивизию, в которой командовал батальоном Сабуров. Бобров встретил её в полдень, не доезжая Средней Ахтубы, в тридцати километрах от Волги. И первым, с кем он говорил, был как раз Сабуров, шедший в голове батальона. Спросив у Сабурова номер дивизии и узнав у него, что командир её следует позади, полковник быстро сел в готовую тронуться машину.
– Товарищ капитан, – сказал он Сабурову и поглядел ему в лицо усталыми глазами. – Мне не нужно вам объяснять, почему к восемнадцати часам ваш батальон должен быть на переправе.
И, не добавив ни слова, захлопнул дверцу.
В шесть часов вечера, возвращаясь, Бобров застал Сабурова уже на берегу. После утомительного марша батальон пришёл к Волге нестройно, растянувшись, но уже через полчаса после того, как первые бойцы увидели Волгу, Сабурову удалось в ожидании дальнейших приказаний разместить всех вдоль оврагов и склонов холмистого берега.
Когда Сабуров в ожидании переправы присел отдохнуть на лежавшие у самой воды брёвна, полковник Бобров подсел к нему и предложил закурить.
Они закурили.
– Ну, как там? – спросил Сабуров и кивнул по направлению к правому берегу.
– Трудно, – ответил полковник. – Трудно... – И в третий раз шёпотом повторил: – Трудно, – словно нечего было добавить к этому исчерпывающему всё слову.
И если первое «трудно» означало просто трудно, а второе «трудно» – очень трудно, то третье «трудно», сказанное шёпотом, значило – страшно трудно, до зарезу.
Сабуров молча посмотрел на правый берег Волги. Вот он – высокий, обрывистый, как все западные берега русских рек. Вечное несчастье, которое на себе испытал Сабуров в эту войну: все западные берега русских и украинских рек были обрывистые, все восточные – отлогие. И все города стояли именно на западных берегах рек – Киев, Смоленск, Днепропетровск, Ростов... И все их было трудно защищать, потому что они прижаты к реке, и все их будет трудно брать обратно, потому что они тогда окажутся за рекой.
Начинало темнеть, но было хорошо видно, как кружатся, входят в пике и выходят из него над городом немецкие бомбардировщики, и густым слоем, похожим на мелкие перистые облачка, покрывают небо зенитные разрывы.
В южной части города горел большой элеватор, даже отсюда было видно, как пламя вздымалось над ним. В его высокой каменной трубе, видимо, была огромная тяга.
А по бездонной степи, за Волгой, к Эльтону шли тысячи голодных, жаждущих хотя бы корки хлеба беженцев.
Но всё это рождало сейчас у Сабурова не вековечный общий вывод о бесполезности и чудовищности войны, а простое и ясное чувство ненависти к немцам.
Вечер был прохладным, но после стенного палящего солнца, после пыльного перехода Сабуров всё ещё никак не мог прийти в себя, ему беспрестанно хотелось пить. Он взял каску у одного из бойцов, спустился по откосу к самой Волге, утопая в мягком прибрежном песке, добрался до воды. Зачерпнув первый раз, он бездумно и жадно выпил эту холодную чистую воду. Но когда он, уже наполовину поостыв, зачерпнул второй раз и поднёс каску к губам, вдруг, казалось, самая простая и в то же время острая мысль поразила его: волжская вода! Он пил воду из Волги, и в то же время он был на воине. Эти два понятия – война и Волга – при всей их очевидности никак не вязались друг с другом. С детства, со школы, всю жизнь Волга была для него чем-то таким глубинным, таким бесконечно русским, что сейчас то, что он стоял на берегу Волги и пил из неё воду, а на том берегу были немцы, казалось ему невероятным и диким.
С этим новым ощущением он поднялся по песчаному откосу наверх, туда, где продолжал ещё сидеть полковник Бобров. Бобров посмотрел на него и, словно отвечая его затаённым мыслям, задумчиво произнёс:
– Да, капитан, Волга... – и, показав рукой вверх по течению, добавил: – А вот и наш катер идёт с баржей. Одну роту и две пушки разместите...
Пароходик, волочивший за собой баржу, пристал к берегу минут через пятнадцать. Сабуров с Бобровым подошли к наскоро сколоченной деревянной пристани, где должна была производиться погрузка.
Мимо толпившихся у мостков бойцов с баржи несли раненых. Некоторые стонали, но большинство молчало. От носилок к носилкам переходила молоденькая сестра. Вслед за тяжело раненными с баржи сошло десятка полтора тех, кто мог ещё ходить.
– Мало легко раненных, – сказал Сабуров Боброву.
– Мало? – переспросил Бобров и усмехнулся. – Столько же, сколько всюду, только не все переправляются.
– Почему? – спросил Сабуров.
– Как вам сказать... остаются, потому что трудно и потому что азарт. И ожесточение. Нет, я не то вам говорю. Вот переправитесь – на третий день сами поймёте почему.
Бойцы первой роты начали по мосткам переходить на баржу. Между тем возникло непредвиденное осложнение. Оказалось, что на берегу скопилось множество людей, желавших, чтобы их погрузили именно сейчас и именно на эту баржу, направляющуюся в Сталинград. Один возвращался из госпиталя; другой вёз из продовольственного склада бочку водки и требовал, чтобы её погрузило вместе с ним; третий, огромный здоровяк, прижимая к груди тяжеленный ящик, напирая на Сабурова, говорил, что это капсюли для мин и что если он их не доставит именно сегодня, то ему снимут голову; наконец, были люди, просто по разным надобностям переправившиеся с утра на левый берег и теперь желавшие как можно скорее быть обратно в Сталинграде. Никакие уговоры не действовали. По их тону и выражению лиц никак нельзя было предположить, что там, на правом берегу, куда они так спешили, – осаждённый город, на улицах которого каждую минуту рвутся снаряды!
Сабуров разрешил погрузиться человеку с капсюлями, интенданту с водкой и оттёр остальных, сказав, что они поедут на следующей барже. Последней к нему подошла медсестра, которая только что приехала из Сталинграда и провожала раненых, когда их сгружали с баржи. Она сказала, что на том берегу лежат ещё раненые и что с этой же баржей ей придётся переправить их сюда. Сабуров не смог отказать ей, и, когда рота погрузилась, она вслед за другими по узенькому трапу перебралась сначала на баржу, а потом на пароходик.
Капитан, немолодой человек в синей тужурке и в старой совторгфлотовской фуражке с поломанным козырьком буркнул в рупор какое-то приказание, и пароходик отчалил от левого берега.
Сабуров сидел на корме, свесив ноги за борт и обхватив руками поручни. Шинель он сиял и положил рядом с собой. Приятно было чувствовать, что ветер с реки забирается под гимнастёрку. Он расстегнул гимнастёрку и оттянул её на груди так, что она надулась парусом.
– Простынете, товарищ капитан, – сказала стоявшая рядом с ним девушка, ехавшая за ранеными.
Сабуров улыбнулся. Ему показалось смешным это предположение, что на пятнадцатом месяце войны, переправляясь в Сталинград, он вдруг простудится. Он ничего не ответил.
– И не заметите, как простынете, – настойчиво повторила девушка. – Тут холодно на реке по вечерам. Я вот каждый день переплываю и уже до того простудилась, что даже голоса нет.
Действительно, в её тонком девичьем голосе чувствовалась простуженная хриповатость.
– Каждый день переплываете? – спросил Сабуров, поднимая на неё глаза. – По скольку же раз?
– Сколько раненых, столько и переплываю. У нас ведь теперь не как раньше было – сначала в полк, потом в медсанбат, потом в госпиталь. Сразу берём раненых с передовой и сами везём за Волгу.
Она сказала это таким спокойным тоном, что Сабуров, неожиданно для себя, задал тот праздный вопрос, который обычно задавать не любил:
– А не страшно вам столько раз туда и назад?
– Страшно, – призналась девушка. – Когда оттуда раненых везу, не страшно, а когда туда одна возвращаюсь – страшно. Когда одна, страшнее – ведь верно?
– Верно, – сказал Сабуров и про себя подумал, что он и сам, находясь в своём батальоне, думая о нём, всегда меньше боялся, чем в те редкие минуты, когда оставался один.
Девушка села рядом, тоже свесила над водой ноги и, доверчиво тронув его за плечо, сказала шёпотом:
– Вы знаете, что страшно? Нет, вы не знаете... Вам уже много лет, вы не знаете... Страшно, что вдруг убьют и ничего не будет. Ничего не будет того, про что я всегда мечтала.
– Чего не будет?
– А ничего не будет... Вы знаете, сколько мне лет? Мне восемнадцать. Я ещё ничего не видела, ничего. Я мечтала, как буду учиться, и не училась... Я мечтала, как поеду в Москву и всюду, всюду – и я нигде не была. Я мечтала... – она засмеялась, но потом продолжала: – Мечтала, как выйду замуж, – и ничего этого тоже не было... И вот я иногда боюсь, очень боюсь, что вдруг всего этого не будет. Я умру, и ничего, ничего не будет...
– А если бы вы уже учились и ездили, куда вам хотелось, и были бы замужем, думаете, вам не так было бы страшно? – спросил Сабуров.
– Нет, – убеждённо сказала опа. – Вот вам, я знаю, не так страшно, как мне. Вам уже много лет.
– Сколько?
– Ну, тридцать пять – сорок, да?
– Да, – улыбнулся Сабуров и с горечью подумал, что совершенно бесполезно ей доказывать, что ему не сорок и даже не тридцать пять и что он тоже ещё не научился всему, чему хотел научиться, и не побывал там, где хотел побывать, и не любил так, как ему бы хотелось любить.
– Вот видите, – сказала она, – вам поэтому не должно быть страшно. А мне страшно.
Это было сказано с такой грустью и в то же время самоотверженностью, что Сабурову захотелось вот сейчас же, немедленно, как ребёнка, погладить её по голове и сказать какие-нибудь пустые и добрые слова о том, что всё ещё будет хорошо и что с ней ничего не случится. Но вид горящего города удержал его от этих праздных слов, и он вместо них сделал только одно: действительно тихо погладил её по голове и быстро снял руку, не желая, чтобы она подумала, будто он понял её откровенность иначе, чем это нужно.
– У нас сегодня убили хирурга, – сказала девушка. – Я его перевозила, когда он умер... Он был всегда злой, на всех ругался. И когда оперировал, ругался и на нас кричал. И, знаете, чем больше стонали раненые и чем им больнее было, тем он больше ругался. А когда он стал сам умирать, я его перевозила – его в живот ранили, – ему было очень больно, и он тихо лежал, и не ругался, и вообще ничего не говорил. И я поняла, что он, наверное, на самом деле был очень добрый человек. Он оттого ругался, что не мог видеть, как людям больно, а самому ему когда было больно, он всё молчал и ничего не сказал, так до самой смерти... ничего... Только когда я над ним заплакала, он вдруг улыбнулся. Как вы думаете, почему?
– Не знаю, – ответил Сабуров. – Может быть, он был рад, что вы на этой войне ещё живы и здоровы, и улыбнулся. А может быть, и не так, не знаю.
– Я тоже не знаю, – сказала девушка. – Мне только было очень жаль его и странно: он такой был большой, здоровый... Мне всегда казалось, что сначала всех нас и меня могут убить, а его уже после всех или вовсе никогда. И вдруг совсем наоборот.
Пароходик, пыхтя, подбирался к сталинградскому берегу, до которого оставалось всего двести или триста метров. И в эту минуту в воду впереди плюхнулся первый снаряд. Сабуров вздрогнул от неожиданности. Девушка не вздрогнула.
– Стреляют. А я всё ехала сейчас, говорила с вами и думала: почему не стреляют?
Сабуров не ответил. Он прислушался и ещё до падения снаряда понял, что у этого, второго, будет большой перелёт. Снаряд действительно упал метров на двести сзади пароходика. Немцы взяли пароходик в так называемую артиллерийскую вилку – один снаряд впереди, один сзади. Сабуров знал, что теперь они поделят вилку пополам, потом это расстояние поделят ещё пополам, сделают поправку, и дальнейшее, как всегда на войне, будет делом счастья.
Сабуров поднялся п, сложив руки рупором, крикнул на баржу:
– Масленников, прикажите людям снять шинели и положить рядом с собой!
Красноармейцы, стоявшие рядом с ним на пароходике, поняв, что приказание капитана относилось и к ним, торопливо расстёгивали шинели и, стащив с себя, клали у ног.
Немецкий артиллерист действительно, как и предвидел Сабуров, поделил вилку так точно, что третий снаряд плюхнулся почти у самого борта парохода.
– Рама, – сказала девушка.
Сабуров взглянул вверх и увидел невысоко, прямо над головой, немецкий двухфюзеляжный артиллерийский корректировщик «фокке-вульф», который на фронте за его странный, похожий на букву и хвост повсеместно прозвали «рамой». Теперь была понятна точность стрельбы немецких артиллеристов. Пароходик был лишён возможности маневрировать из-за баржи. Оставалось только ждать те пять минут, которые отделяли их от берега.
Сабуров взглянул на девушку. Она стояла в пяти шагах от Сабурова, у борта, там, где он её оставил, и привычно ждала, упрямо глядя в простирающуюся под её ногами воду.
Сабуров подошёл к ней.
– В случае чего до берега доплывёте?
– Я не умею плавать.
– Совсем?
– Совсем.
– Тогда станьте поближе туда, – сказал Сабуров. – Вон, видите, круг.
Он показал рукой туда, где висел круг, и в эту секунду снаряд попал в пароход, очевидно, в машинное отделение или в котлы, потому что всё сразу загремело, перекосилось, и покатившиеся люди сшибли Сабурова с ног. Его подбросило вверх и швырнуло в воду. Выгребая руками, он очутился на поверхности. Та часть пароходика, на которой осталась труба, перевернулась в двадцати шагах от Сабурова и, как большим стаканом, зачерпнув трубой воду, ушла в глубину.
Кругом барахтались люди. Сабуров подумал, что хорошо сделал, приказав снять им шинели. Тяжело налитые сапоги тянули ноги вниз, и он сначала решил нырнуть и стащить с себя сапоги. Но баржа была так близко, что он по-солдатски пожалел сапоги и решил, что доплывёт и так.
Все эти мысли промелькнули у него в голове в течение одной секунды, а в следующую секунду он увидел в нескольких метрах от себя девушку, которая, неудачно попытавшись схватиться за обломок парохода, погрузилась в воду. Сабуров сделал несколько быстрых взмахов саженками и, когда девушка ещё раз оказалась на поверхности, ухватил её за гимнастёрку. К счастью, баржа неслась по течению, почти прямо на него, и через полминуты он схватился за протянутые руки бойцов. Подтянувшись к борту, он подтянул за собой и девушку и, убедившись, что её уже втягивают на баржу, сам быстро влез на борт.
– Ой, слава богу, товарищ капитан, – обрадовался оказавшийся рядом с ним Масленников.
Сабуров взглянул на него. Масленников был без сапог и без гимнастёрки; он уже готов был прыгать в воду.
Бойцы один за другим подплывали к барже. Последним поднлыл капитан парохода. Он влез, отфыркиваясь и чертыхаясь и ещё глубже надвигая на лоб неведомо как удержавшуюся у него на голове совторгфлотовскую фуражку со сломанным козырьком.
Наперерез нёсшейся по течению барже от берега, пыхтя, спешил катерок.
– Готовься чадить! – крикнули с него хриплым басом.
Мешочек с песком на тонкой бечеве, со свистом перерезав воздух, шлёпнулся на баржу. Красноармейцы дружно начали тянуть канат.
Позади баржи упало в воду ещё несколько снарядов, и всё стихло: близкий крутой берег мешал немцам стрелять.
– Пересчитайте людей, – сказал Сабуров Масленникову, – да оденьтесь. Так и будете босиком стоять?
Масленников смущённо посмотрел на свои босые ноги и торопливо стал надевать сапоги.
Кто-то из бойцов накинул на плечи Сабурова свою шинель.
– Девушке дайте шинель, – сказал Сабуров. – Где она?
Она сидела тут же, в нескольких шагах от него, в уже накинутой кем-то на плечи шинели и, словно забыв о том, что она вся до нитки промокла, с женской старательностью выжимала свои длинные волосы, накрутив их на кулаки. Сабуров хотел подойти к ней, но до его плеча дотронулся Масленников.
– Ну?
– Восьми человек нет, – шёпотом сообщил Масленников, и на его лице изобразилось страдание: ещё только пристают к берегу, ещё не было никакого боя, и вот уже нет восьми человек.
Баржа пришвартовалась. Теперь были слышны не только артиллерийские разрывы, но и близкая пулемётная трескотня. Сабурова, ещё не знавшего истинного положения вещей в городе, это поразило. Пулемёты стреляли не дальше как в двух-трёх километрах отсюда.
Взволнованные люди спешили скорей перебраться на берег. Сабуров пропускал их мимо себя. Девушка сошла одной из первых. Когда Сабуров вспомнил о ней, её уже не было ни на барже, ни на пристани. Он и Масленников сошли с баржи последними.
IV
К ночи разразилась гроза. В десять часов, когда Сабуров переправлял свою последнюю роту, всё окружающее было похоже на какую-то нарочито мрачную фантастическую картину. Волга шумела и пенилась; впереди, на фоне ночи, по всему горизонту поднимались багровые столбы пожара, и где-то поверх, на чёрном небе, отражаясь в нём, плясали багровые отсветы. Частые молнии, выхватывая из темноты куски берега, освещали причудливые изломы обрушившихся домов, вздыбленные к небу крыши, огромные бензиновые цистерны, смятые, как бумажные трубки, сжатые в кулаке. Косой, крупный дождь бил в лицо.
На берегу в страшной темноте трудно было разобраться среди развалин и обломков; люди находили друг друга на ощупь и по голосу, а кругом всё шумела и плескалась бесконечно падавшая с неба вода.
С последней баржей Сабуров переправил свои походные кухни и повозки с провиантом. Нечего было и думать приготовить горячую пищу среди этой темноты и хаоса. Старшины, собравшиеся около повозок, получали сухой паек и в темноте на ощупь раздавали его людям. Спрятаться от дождя и ветра было почти негде, всё было мокро: доски, навесы, развалины.
Близкая автоматная стрельба, которую слышал Сабуров на закате, сейчас почти прекратилась; иногда только вспыхивали и сразу же гасли очереди. Зато и слева и справа беспрерывно слышались артиллерийские раскаты, перемежавшиеся с раскатами грома.
Хотя Сабуров понимал, что главная опасность начнётся с рассветом, ему всё-таки хотелось, чтобы поскорее начался этот рассвет, – тогда, по крайней мере, можно будет разобраться и увидеть, где они находятся, что вокруг них и куда им надо двигаться.
Ровно в двенадцать ночи, когда Сабурову удалось наконец разместить свои роты вдоль ближайших к берегу, превращённых в развалины улиц, когда смертельно усталые люди кто как заснули или пытались заснуть, связной, пришедший от Бабченко, потребовал комбата к командиру дивизии.
Штаб дивизии оказался тут же на берегу, в десяти минутах ходьбы от Сабурова. Он временно помещался под высоким фундаментом здания, построенного вкось на обрыве. Это была довольно глубокая нора, огороженная врытыми в землю, похожими на колонны бетонными упорами. Подвал освещался подвешенной на столб лампой «летучая мышь».
Сабуров не разобрал лиц, но по гулу голосов понял, что в подвале много людей.
– Сабуров, – услышал он голос Бабченко.
– Ну что ж, теперь всё, – сказал другой голос, показавшийся Сабурову знакомым.
Сабуров вгляделся и увидел, что рядом с Бабченко стоит командир дивизии полковник Проценко, которого Сабуров хорошо и давно знал, но не видел полтора месяца, с тех пор, как тот был ранен под Воронежем и отправлен в госпиталь. Проценко вернулся в дивизию недавно, перед отправкой на фронт. Сабуров знал об этом, но до сих пор ещё не видел его. Полковник, относившийся неравнодушно и даже пристрастно к тем, кто с ним давно служил, сделал из темноты шаг вперёд к «летучей мыши» и, похлопав Сабурова по плечу, спросил:
– Ну как, Алексей Иванович? Всё живой ещё?
– Всё живой, – ответил Сабуров.
Проценко любил называть всех, даже самых маленьких командиров, которых он давно знал, непременно по имени-отчеству, подчёркивая этим перед остальными своё старое солдатское товарищество с ними, независимо от их званий.
– Живой, – улыбнулся Проценко. – И я живой. Это хорошо. – И, обращаясь к кому-то, плохо различимому в темноте, сказал: – Старые друзья, товарищ генерал, ещё под Москвой вместе были...
И, сразу перейдя с ласкового тона на строго официальный, переспросив ещё раз, все ли вызванные им командиры собрались, начал объяснять задачу этой ночи. Надо было за ночь сменить остатки дивизии, стоявшей на направлении главного удара немцев. Полк Бабченко должен был ночной атакой выбить немцев с окраины заводского посёлка, где они сегодня днём ближе всего подошли к Волге и откуда Сабуров, очевидно, и слышал близкую автоматную стрельбу.
Проценко подробно и точно, как обычно он это делал, объяснил задачу, ведя карандашом по аккуратно сложенной чистенькой карте, и потом, отпустив командиров двух полков, которым в эту ночь предстояло только занимать позиции, обратился к Бабченко:
– Понимаешь, Филипп Филиппович, что ты сделать должен?
– Сделаем, – сказал Бабченко.
– В каждый батальон я тебе дам присланных из армии командиров, знающих город и обстановку. Товарищи командиры, – повернулся Проценко.
Из темноты вышли трое командиров: два старших лейтенанта и капитан.
– Будете в распоряжении подполковника. Обстановка трудная, – глядя в упор на Бабченко, сказал Проценко. – Очень трудная... Бой ночной в незнакомом городе. Здесь шаблонов не может быть. Чем больше будет драться народу, тем больше путаницы и потерь. Неожиданностью и решимостью, а не числом. Вы понимаете, товарищ Бабченко? – сказал Проценко строго, словно предупреждая этими словами возможные решения Бабченко, которые он предвидел и не одобрял. – Сегодня ночью будете воевать одним батальоном, а два должны быть у вас готовы к рассвету для поддержки и отражения контратак. Атаковать поручите Сабурову.
Оставив Бабченко и обратившись к Сабурову, Проценко продолжал:
– А вы тоже должны помнить – ночью не числом, а неожиданностью, как в Воронеже... Помните Воронеж?
– Так точно.
– Хорошо помните?
– Так точно.
– Ну, тогда всё. Держитесь, как в Воронеже, и ещё лучше. Вот и всё, вся мудрость...
Проценко повернулся к человеку, стоявшему позади и молча слушавшему разговор. Теперь Сабуров разглядел его. Он был одет в чёрное кожаное, блестевшее от дождя пальто с полевыми генеральскими петлицами. Очевидно, он дал Проценко все указания ещё раньше и теперь только слушал.
– У вас приказаний не будет, товарищ генерал? – спросил Проценко. – Разрешите отпустить командиров?
– Сейчас, – сказал генерал и подошёл ближе к свету.
Теперь Сабуров мог разглядеть его. Он был среднего роста, с тяжёлой львиной головой, смотревшими исподлобья, тяжёлыми глазами, с тяжёлым подбородком и с общим выражением какого-то особенного упорства во всём – в глазах, в наклонённой голове, в стремительно подавшейся вперёд фигуре. Казалось, что он сейчас скажет слова непременно угрюмые и резкие, но голос, каким он заговорил, был неожиданно ясным, спокойным.
– В уличных боях участвовали? – спросил он Сабурова.
– Так точно.
– Сапёров вперёд, автоматчиков вперёд, лучших стрелков вперёд. Поняли?
– Понял.
– И сами вперёд. В этих случаях у нас, в Сталинграде, так принято.
– И у нас в дивизии тоже так принято, – сказал Сабуров с неожиданной для себя резкостью.
Лицо генерала не выразило ничего. По нему нельзя было угадать, понравился или не понравился ему ответ.
– Разрешите отправляться командирам? – повторил Проценко.
– Да, пусть идут, – произнёс генерал.
Выходя, Сабуров почувствовал на себе его внимательный взгляд и услышал последние, громче остальных сказанные слова Проценко, ответившего на вопрос генерала:
– Ничего, осилит...
Идя в темноте вслед за Бабченко, Сабуров спросил его, когда же тот наконец даст ему комиссара вместо прежнего, заболевшего тифом и снятого с эшелона по дороге.
– Что ж, я тебе его рожу, что ли? – грубо отрезал Бабченко. – Политрук первой роты выполняет его обязанности или нет?
– Выполняет, – недовольно ответил Сабуров, но Бабченко сделал вид, что не понял его.
– А раз выполняет – пусть и дальше выполняет.
Они прошли ещё несколько десятков шагов в молчании. Сабуров не любил и не ценил Бабченко, но уважал за личную храбрость, и, кроме того, это всё-таки был его командир полка, человек, вместе с которым через час они вступят в бой. Сабуров не то что боялся, но волнение, более сильное, чем обычно, охватило его перед этим ночным боем, и ему хотелось услышать от Бабченко что-то, что могло его поддержать.
– Как думаете, товарищ подполковник, должно всё хорошо сойти, а?
– Я не думаю и вам не советую. Приказ есть? Есть. А думать завтра будем, когда выполним.
Он сказал это сухо, по-обычному, как всегда ничего не поняв из того, что делалось в душе его подчинённого. И Сабурову не захотелось больше ни о чём его спрашивать.
Когда Сабуров вернулся в расположение батальона, оказалось, что его ординарец, которого все в батальоне, несмотря на его тридцатилетний возраст, звали просто Петей, уже устроил среди развалин барака подобие командного пункта; правда, влезать туда надо было на четвереньках, но зато там было сравнительно сухо и горел свет.
Сабуров позвал к себе Масленникова, политрука Парфенова, заменявшего комиссара батальона, и командиров всех трёх рот: долговязого, усатого, похожего на Чапаева Гордиенко, маленького Винокурова и спокойного, тяжеловесного сибиряка, пришедшего недавно из запаса, Потапова. Сабуров дал командирам полчаса на то, чтобы выбрать из каждой роты по пятьдесят человек автоматчиков и лучших стрелков.
– Впереди, – объяснил он, развёртывая план города, – лежит площадь. На той стороне – дома, уже взятые немцами, – три больших дома, каждый в полквартала. Эти дома надо занять сегодня ночью, – говорил он, подчёркивая значение этих слов тем, что после каждого делал паузу, словно ставил точку...
...Силы он поделит на три части: левый дом в обход площади будет брать со своей группой Гордиенко, правый дом – тоже в обход – будет брать Парфенов, прямо, через площадь, пойдёт он сам...
Командиры молча слушали.
– Вы, – обратился Сабуров к Масленникову, – останетесь в резерве и, когда дойдёте до нашего переднего края, остановитесь, расположите всех, кто не уйдёт с нами, и будете ждать рассвета. Надо так расположить людей, чтобы к рассвету, как только мы выбьем немцев, вы уже были совсем близко и могли нас поддержать. Поняли, Масленников?
– Понял, – с некоторой горечью сказал Масленников, недовольный тем, что при первом же деле его оставляют в резерве.
За оставшиеся до выступления полчаса Сабуров обошёл все три копошившиеся в темноте роты и, вспоминая одного за другим тех, кто с ним воевал ещё под Воронежем, вызывал их поочерёдно, чтобы в этом, первом, да ещё к тому же ночном бою сразу же приняло участие как можно больше ветеранов. Если даже за ночь потеряет много людей, то всё-таки он потеряет их ещё больше, если не возьмёт дома до утра, и то же самое придётся делать, когда рассветёт.
Обходя вторую роту, Сабуров вспомнил того солдата, с которым он говорил на Эльтоне. Этот немолодой усатый спокойный дядька, наверное, был когда-то лихим охотником и должен ловко работать в ночном бою.
– Конюков, – позвал он.
– Здесь Конюков! – крикнул над его ухом, неожиданно вырастая, словно из-под земли, солдат.
– Вот и Конюкова включите, – сказал Сабуров Потапову. – Он тоже пойдёт.
Через полчаса роты с шедшими впереди отобранными Сабуровым штурмовыми отрядами стали медленно двигаться под дождём вверх по обгоревшим, ядовито пахнувшим дымом улицам.
Назначенный сопровождать батальон Сабурова маленький чернявый старший лейтенант, по фамилии Жук, привёл батальон к задним дворам той улицы, фасады которой представляли собой на сегодняшнюю ночь линию фронта. Дальше была широкая площадь, на противоположном краю которой врезанными в неё полуостровами выделялись чуть видные в темноте три больших здания, занятых немцами. На этом краю площади стояли остатки полка, днём отступившего сюда. Командир полка был убит, комиссар тоже. Полком командовал капитан – командир одного из батальонов, а старший лейтенант, который привёл Сабурова, как оказалось, был временно назначен начальником штаба полка. Собственно, его миссия сейчас кончалась, но, отведя в сторону командира полка и пошептавшись, он вернулся к Сабурову и сказал, что знает те дома, которые нужно занять, и, если Сабуров не возражает, пойдёт с ним туда. Сабуров не возражал, – напротив, он был рад, хотя его несколько удивила такая самоотверженность старшего лейтенанта. Словно почувствовав это, Жук сказал:
– Я вас провожу. Раз отдать сумели, теперь я должен суметь вас довести...
Сабуров наметил места, с которых всем трём атакующим группам предстояло начинать. На себя он взял центр площади. У него было больше всего людей, зато ему и приходилось идти прямо, через всю площадь, на которой единственным укрытием был темневший впереди, отмеченный на плане, круглый фонтан.
Перед началом Сабуров ещё раз подозвал к себе Гордиенко и Парфенова. Вытащив из кармана коробку, где лежали четыре заветные папиросы, и оставив одну, чтобы закурить после окончания дела, он молча сунул им в руки по папиросе, а третью стиснул зубами сам. Они присели на корточки, накрылись плащ-палаткой и по очереди прикурили. Затем, прикрывая огонь, потягивая из кулака, все трое поднялись.
Что можно было сказать им? Чтобы они шли вперёд? Они это знали. Чтобы они не боялись смерти? Они всё равно её боялись, так же, как и он. Сказать им, что очень нужно взять эти три дома?.. Но если бы это не было очень нужно, разве могли бы люди в кромешной темноте идти навстречу неизвестности и смерти? Конечно, это было очень нужно. И вместо всех этих слов он быстрым движением молча притянул и притиснул к себе сразу обоих – высокого Гордиенко и маленького, тщедушного Парфенова, и так же молча отпустил.
Когда они скрылись в темноте, он почему-то подумал не о себе, а о них: увидит ли он их? Увидят ли они его – об этом он не подумал.
Через минуту двинулся со своим отрядом и он сам. Пятьдесят или шестьдесят шагов Сабуров шёл по площади молча, от волнения сдерживая дыхание, словно немцы могли его услышать. Потом с немецкой стороны треснули автоматные очереди, наискось по площади прошли первые трассирующие пули, одна за другой вспыхнули две маленькие белые ракеты, на несколько минут осветив кусок пространства с выступавшим впереди тёмным пятном фонтана. При этой внезапной вспышке люди справа и слева от Сабурова сразу же прижались к каменной мостовой. Сабуров поднялся и бросился вперёд. Сзади, в ответ на немецкие выстрелы, заухали наши миномёты и длинными очередями стали бить «максимы». Над головой с обеих сторон шло столько трассирующих пуль сразу, что у Сабурова вдруг мелькнула дикая мысль, что некоторые из них должны столкнуться в воздухе.








