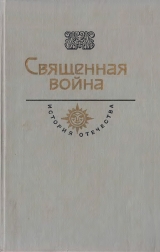
Текст книги "Священная война. Век XX"
Автор книги: Константин Симонов
Соавторы: Андрей Платонов,Владимир Беляев,Леонид Леонов,Евгений Носов
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 32 (всего у книги 57 страниц)
12
Так началась война и в этом рассветном затишье. Гул мотора слился с беспорядочным треском стрельбы. Кому было положено, те сразу свалились навзничь, а другим немцам дано было видеть ещё полминуты, как, вспугнутой, вилась и галдела над лесом галочья разведка. Двести третьи намеревалась прорваться по прямой, как ей было короче, но сбоку застучал по броне станковый пулемёт, и она сделала небольшой крюк, чтобы наказать дурака за бесцельную трату патронов. В зимнем эхе лесов, как в зеркалах, отразилось множество батарей. Артиллерия проснулась, лишь когда двести третья, отвернув пушку назад, чтобы не повредить при таране, уже углубилась в перелесок... Подобие лесной сторожки попалось ей на пути; Литовченке на мгновенье показалось, что видит в упор, в триплексах перед собою, стол с самоваришком и немецких командиров, мирно сидящих вокруг: они так и не успели сообразить, что помешало им попить чайку во благовременье... И ещё километра три мчалась двести третья по опушке, выбирая полянки и стараясь не выдать своего направления падением сбитых деревьев. Им попалась прогалинка в мелком ельнике, там сделали они остановку – осмотреться, оправиться, принять последнее решенье. Собольков отбежал с компасом метров на десять от машины, но стрелка объяснила ему не больше, чем подсказывали чутьё и опыт; вдобавок события ночи неминуемо должны были смешать диспозицию вчерашнего дни. И тут Собольков произнёс самую краткую свою речь; ему хотелось, чтобы каждый в отдельности и вслух подтвердил свою решимость на то грозное и нечеловеческое, что не умещается в обычном приказании.
– Вот, товарищи... – И ростом выше стал, и засмеялся, радуясь чему-то, как мальчик. – Неизвестность окружает нас. Мы нынче как заноза в немецком теле... и выручки нам ждать не приходится. Но мы, танкисты, особый народ... они не жалуются на долю. Ихнее сердце и в огне смеётся над судьбою!.. Моё решение – вперёд и напролом итти. Чтоб ветер не догнал, так лететь. Так биться, чтоб навек у них застряло в памяти двадцать третье декабря. Ну... может, неправильно я болтаю, Андрей? Ты ведь холостой, детишек нет у тебя... тебе драться не за кого, а? Ты, Вася, одного себе искал для мщенья, а я их тебе сотню враз подарю. Бери жадней, сколько в горстку влезет. А ты, повар, чего потускнел? Ой, не любишь ты беспокойства в жизни. Твою силу три раза вокруг земного шара обмотать... да ещё чёрту шею сломать останется! Прав Андрюшка, не обожает беспокойства русский человек. Сам того же племени, знаю. А скажи, можно ли задарма экое серебро отдавать?
Он окинул глазами зимнее убранство леса, строгие ёлочки в снежных коронках и с царственным горностаем на детских плечиках, небо, громаднейшее, как Родина, самый этот снег, лёгкий и лапчатый, ещё на синей ночной подложке, но уже волшебно и ало подкрашенный сверху. Его сердце зашлось, его голос срывался. Никогда в такой вещественной прелести не воспринимал он родной природы, её вкрадчивых шорохов и запахов, – всё ему было дорого в ней, даже эта знобящая, шероховатая тишина. Обрядин глядел себе в ноги; вдруг его лицо потемнело, точно Собольков, тряхнувший седым хохолком, кнутиком хлестнул по самому больному месту.
– Решай, Сергей Тимофеич! А и убьют дружка твоего, товарища Семёнова Н. П., – другие хозяева найдутся. Ведь тебе главное – было бы кому жареного медведя в томатах подавать. Ну, вали, потрепись, коли охота... пока земляки кровь льют!
– Чего меня терзаешь... али я слабже тебя, лейтенант? – поднял голову Обрядин, и что-то пугачёвское, чёрное, атаманское, слепительно блеснуло в его взоре, – блеснуло и, не ударив, погасло. – Я тебя постарше буду, во мне твоей прыти нет. Куда собрался? Что в уставе сказано? Глава восьмая, двести сорок четвёртый номер... действовать в составе танкового взвода, в боевом порядке место сохранять, поступать по заданиям командира. Где всё это у тебя? А обождать бы – глядишь, наши и придвинутся. Ишь, воздух-то гудёт! – А то не воздух, то сердце шумно билось в нём самом. – Но ты прикажи, я выполню.
И тогда, злой, машистый и весёлый, ударил его по плечу Дыбок.
– Везёт тебе, законник... везёт тебе, Сергей Тимофеич, – с двух приёмов выговорил наконец он. – Везёт тебе, друг милый, что есть при тебе советская власть. Без неё, точно тебе говорю, так и слонялся бы ты по земле, на манер Вырви-Дуба,.. вконец извёлся бы, что силушку некуда приложить. Ну, хватит; поговорили, лейтенант. Пора, а то вон пташка смеётся... – И верно, какая-то одинокая синичка резво порхнула с ветки, осыпая снег. – Садись, поехали!
Обрядин переключил горючее на левый бак, Собольков приказал закрыть жалюзи мотора, на случай если кинут бутылку с бензином. Литовченко надел рукавички, чтобы так и не вспомнить о них до самого конца... С опушки они огляделись в последний раз, стараясь угадать место и высмотреть добычу. Ничего там не было впереди, кроме неба с голубыми морозными промоинками да сожжённого села под ним. Да ещё дикая простоволосая женщина, без возраста и худая до сходства с дымом, встала им на дороге. Всё в её жизни покончилось, она тащилась до первого германского патруля... Высунувшись из люка, Собольков посоветовал было ей сидеть дома и спросил, кстати, как называлось когда-то село, лежащее ныне в безжизненных головешках.
– Война, где мои дети... где мои дети, война?! – плаксиво и безнадёжно проплакала та, цепляясь за надкрылок. Ничего там не было, в её красных обветренных веках – ни разума, ни страданья, ни самых зрачков: всё съело горе и не подавилось.
Понадобилась третья скорость, чтобы оторвать машину от её рук; встреча подстегнула ожесточённую удаль экипажа. Отсюда начинается тот баснословный кинжальный рейд, о котором лишь потому своевременно не узнала страна, что он затерялся в десятке ему подобных. Поколениям танкистов он мог бы служить примером того, что может сделать одна исправная, хотя бы и глухонемая «тридцатьчетвёрка», когда её люди не размышляют о цене победы!.. Впоследствии даже участники не могли установить истинную последовательность событий: действительно ли автомобильный парк немецкого мотополка стал первой жертвой Соболькова или тот эшелон с боеприпасами, что рвался вплоть до прихода нашей основной бронетанковой лавы. Всё спуталось в их памяти, утро и вечер, лето и зима, явь и бред, – самый пейзаж, наконец, так прыгавший в смотровых щелях, словно разрезали пополам и сложили обратными концами... Блаженная теплота, исходившая от перегретых механизмов, превращалась в зной; к исходу боя всё в танке сравнилось веществом и температурой. Показания уцелевших как раз и сходятся лишь на том, что отменно жарко стало в машине.
Зарывшись в тело германской дивизии, двести третья низала его во всех направлениях: так ходит снаряд по танку, пока не погасится его живая сила. И как снаряд не жалеет себя, вламываясь во вражескую броню, так и люди забыли об опасностях своего стремительного бега. Здесь следует искать причину, почему до самого конца ни одно попаданье из всех, какие двести третья во множестве приняла на себя, не оказалось для неё смертельным, но уже не удивляла и не пугала командира чудесная неуязвимость его машины!.. Одна могучая бронированная тварь с белым фашистским крестом вырвалась из сарая наперерез двести третьей; целый стальной тоннель упёрся круглым мраком в сердце Соболькова, – ветер громового промаха на мгновенье оледенил его, и все болты и клетки напряглись в своём технологическом пределе... Потом гадина горела, но не оттого, что так хочется глазу наблюдателя и патриота, а потому, что солнце поднималось за танком Соболькова, и всё, даже это холодное медное солнце, работало теперь на гибель Германии.
– Нет, сперва ты, а потом уж я!.. – сорванным голосом, торжествуя, закричал Собольков.
Гром и треск огневой погони остались позади. Пока преследовать двести третью было некому. И тогда, круто вывернувшись из-за бугра, они увидели высокую гряду насыпи. Она была полна немецкими солдатами, повозками, машинами и лошадьми. Всё это двигалось в сторону, обратную той, откуда пришла двести третья. Не обмануло Соболькова солдатское чутьё. Это было шоссе.
Тяжело дыша, приоткрыв грузные веки, двести третья не мигая смотрела из-за кустов, смотрела туда долго и страстно, точно хотела, чтобы досыта насладилось око, прежде чем доверить железу самую работу мщенья. Тихо, на малых оборотах, рокотало её сердце, и что-то бесповоротно надорвалось в нём за два часа исполинской расправы. Слабый звенящий вой слышался в его неровном гуле, но такой же тонкий и пьяный звон, словно от вина, стоял и в ушах экипажа. Как в кочегарке плохого парохода, машинный чад выбивался изовсюду; масло достигало почти аварийной температуры – 120. Собольков взглянул под ноги себе: снаряды были на исходе, дисков не хватило бы даже пунктиром пройтись по всему горизонту. Он также увидел живое белое пятно на полу, блестевшем от масляного пота. Это был Кисо, которому, видно, разонравился жаркий климат итальянской шубы и начинало пугать такое затянувшееся землетрясение. Озабоченным, вопросительным взором он скользнул по своему беспокойному командиру.
– Терпи, Кисо... недолго осталось, – мигнул ему Собольков. – Скоро приедем домой, а там и Алтай близко, будут тебе щи со свининкой... слышишь, варятся? – И правда, издалека, из снежной сини, внятно слышалось как бы глухое бульканье варева.
Возможно, что и это он сказал лишь мысленно: его всё равно заглушил бы другой, неслышный и нечеловеческий крик, от которого давно оглохла душа: «Вот они, вот... убийцы, поработители, изверги!»
Шоссе в этом месте поднималось на мост, который лёгкой журавлиной ступью перешагивал реку. Плоское, сплющенное и цвета отпущенной меди, восходило солнце. Мороз нарядно приодел деревья, и праздничное затишье этого первозимнего дня оглашали лишь истошный немецкий окрик да ещё однообразный шелест движения, стлавшийся над крупнейшей артерией фронта. Плотная чёрная кровь текла по ней в сражающуюся руку, которую на протяжении часа должны были отсечь от тела. Основной инвентарь убийства узко работал на передовой, и теперь вперемежку с подходящими резервами туда подтягивались подсобные товары германской стратегии. С расстояния полувыстрела это казалось безличной пёстрой лентой, но и в полном мраке видит глаз ненависти!
Сама смерть двигалась по шоссе, всякая – в бидонах, ящиках, тюбиках и цистернах, добротная немецкая смерть, проверенная в государственных лабораториях, смерть жидкая, твердим и газообразная смерть, что кочевала по нашим землям в душегубках. Загримированные под штабные автобусы, они шли здесь в ряду бронетранспортёров и грузовиков, «круппов», «опелей» и «мерседесов», как бы возглавляя их шествие, а за ними, мелким дьявол ком и на бесшумной резине, неслось всё, что века таилось в подпольях германских университетов – скотские бичи на наших мужиков, гвозди – прибивать младенцев под мишени, негашёная известь и сквозные металлические перчатки для пытки пленных, чёрная паста, что вводится в ноздри грудных для умерщвленья, пустые и жадные чемоданы под трофейное барахло и мины, пока ещё безвредные, бесконечно замедленного действия, не уловимые приборами мины на святыни и элеваторы, обсерватории и школы наши, когда они наполнятся детворой. Горемычные лошадки тянули это материальное страдание, выбиваясь из сил, и даже пешие маршевые батальоны опережали их. Эти шагали уже без песен, скучные и томные, но ещё прочные – железная связка фашистских отмычек к сокровищницам мира, отребье, стремившееся поселиться во внутренностях человечества; трёхтонки с фабричными деревянными крестами сопровождали их, смертельно раненных мечтой о надмирном могуществе... Всё это двигалось в самое пекло великошумской битвы, чтобы, распылясь в ничто, обратиться в поражение; они ещё не знали, что творится у них на левом фланге. Было шумно, но не очень весело в этом потоке: двести третьей не хватало им для оживления!
Так крадётся охотник, чтобы не спугнуть трепетную дичь, – двести третья медленно набирала скорость. Удобный отлогий подъём выводил дорогу на шоссе; став в сторонку, германский штабной связист копался здесь в своём мотоцикле, пока другой материл его по-немецки из прицепной коляски. Оба они увидели над собою танк, когда он стал величиной с полнеба... Задние шарахнулись, передние не успели понять, что случилось за спиной. Норовя уйти от гибели, трёхосный, специального назначения, «бюсинг» зарылся было в свои же повозки, но Собольков подумал только: «Куда, сатана!» – и тот через мотор, наперегонки со своими ящиками, закувыркался под насыпь. Этим ударом открывается победоносный бег двести третьей к её немеркнущей военной славе.
– Твои!.. – крикнул Собольков, даря водителю весь этот чёрный, многогрешный сброд, застылый вокруг его гусениц.
В каждом мгновенье есть своя неповторимая подробность, которой не превзойти последующим столетьям. Защищая своих малюток от дикарей, мой народ создаст машины утроенной убойной мощности, но страшней и прекрасней двести третьей у него не будет никогда. Стоило бы песню сложить про это крылатое железо, которого хватило бы на тысячу ангелов мщенья, и чтобы пели её – пусть неумело! – но так же страстно и душевно, как умел Обрядин... Двести третья недолго пробыла в схватке, но ради этих считанных минут не спят конструкторы, мучатся сталевары и милые женщины наши стареют у станков! Но, значит, не зря мучились они, не спали и старели... Танк швыряло и раскачивало, как на волне; движение почти поднимало его над гудроном, и тогда верилось – на первом препятствии вылетят пружины подвесок или лопнет стальная мышца вала... но вот он становился на дыбы и опрокидывался на всё дерзавшее сопротивляться; он крушил боками, исчезал в грудах утиля и вылезал из-под обломков неожиданный, ревущий, гневный, переваливаясь и скользя в месиве, которое щемилось, горело, кричало, вздувалось пеной и пузырём. Всё в нём убивало наповал; картечный, с нахлёстом, и иной огонь, что лился из всех его щелей, подавлял волю врага побольше, чем самый вид его и то красное, шерстистое, неправдоподобное, что прилипло к броне или моталось кругом, застряв в крепленьях траков. Никто не плакал, не поднимал рук, не молил о пощаде, – у них не оставалось времени на это. Простреленные насквозь, они ещё стояли, когда набегал на них танк.
Главное началось потом, как только двести третья вступила на высокое и узкое полотно моста. Любо было видеть, как горохом рассыпалось смертоносное немецкое добро, мадам и алую зимнюю бездну, а лошади сгибались, точно подвешенные под брюхо на лебёдке, а солдаты, которые м шли сюда за этим, цеплялись за колёса машин, подвернувшиеся им в полёте. Уже не было перил, и ничего кругом не было, кроме вместительного, насыщенного голубой смежной пылью простора, – довериться ему, опереться о него раскинутыми руками было умнее, чем остаться на узкой ленте шоссе. И он принимал их всех, громадный розовощёкий воздух, и, поиграв, швырял смаху о бетонные откосы, а река распахнула лиловый, непрочный ледок, размещая без задержек грузы, войска и технику, прибывшие, наконец, к месту назначения. И каждым раз горячим мар облачком вырывался из воды, а отражённое солнце разбегалось на куски, чтобы, порезвись, снова сомкнуться в круглое модное целое... Находились и смельчаки; в исступлении отчаянья они вскакивали на танк, били железом по командирскому перископу или пытались просунуть куда-нибудь гранату, а потом неслись вместе, начиненные её осколками, свисая и судорожно держась за поручни, пока там, внизу, гусеницы рвали и грызли их тело...
Там же, затаясь в угрюмых впадинах глаз, в извилинах мозга, в походных сумках, где лежали письма о разрушении фатерланда, тяжёлое немецкое сомненье контрабандой пробиралось к Великошумску. Сейчас оно преобразилось в ужас, и он умножал число советских танков, оседлавших шоссе. Он взрывался сам, с силой тола разнося поток по обе стороны магистрали. Его взрывная волна давно опередила двести третью, почти расчистив ей дорогу: всё валилось само, чтобы не быть поваленным... Мост, пламя, хруст, трескотня бесполезной стрельбы – всё осталось позади. Впереди становилось пусто, и Литовченко перешёл на третью скорость, разгоняя танк, как торпеду, единственное назначение которой – взорваться в гуще врага... Лишь одна открытая штабная машина суматошливо виляла на шоссе, выбирая место для безопасного спуска с крутизны. За рулём сидел майор; видимо, то были важные армейские инспектора или знаменитые хирурги – из тех, что крали кровь наших детей для иссякших воровских артерий; им повезло, машина сошла без повреждений. Патронов больше не было на двести третьей, вес и скорость стали её оружием... Впоследствии улыбались на рассказ Литовченки, будто машина с разгону прыгнула сама, а снежный сугроб и немецкое мясо спружинили её падение, но таково же было впечатление всех, ещё имевших признак жизни, очевидцев... На пути двести третья срезала телеграфный столб, дополнительно ожесточая ужас удара, и только один успел выпрыгнуть, пока двести третья висела в полёте, – майор.
Его колени усердно бились в полы длинной шинели, всякие походные футлярчики скакали по бокам, фуражка скатилась с него, и слетели очки. Вслепую и не оглядываясь, он бежал к ближним кустам, где можно было притвориться падалью, проваливался в снег и опять бежал: он любил жить! Ему удалось выиграть время, – двести третья не сразу выбралась из ямы, словно мёртвые генералы дружно ухватились за её скользкие катки. Видно было по всему, что надолго майора не хватит. То был уже пожилой, средней упитанности фашистский хлюст с отличительными зигзагами на рукаве и, наверно, в хороших заграничных сапогах со шпорами для совращения девок... Но Литовченко не видел ничего, кроме круглой, как бельмо, лысинки на его затылке; это был он, тот самый, что посмел замахнуться курёнком на старуху Литовченко, и уже никто не посмел бы отнять этого майора у Литовченки. Изогнувшись, Дыбок поднял передний люк, чтобы догнать его хоть из автомата, потому что не тратит!» же было на удовлетворение частной потребности последний их, последний в жизни снаряд. Расстояние блистательно сокращалось... и в этот момент сокрушительный удар где-то близ кормы слегка подкинул двести третью.
Левая гусеница была цела и мертва, снаряд ворвался в ведущее колесо танка. Машина тяжко и медленно закрутилась на месте, как бы стремясь ввинтиться в мёрзлую землю. Собольков решил сгоряча, что немецкий танк подобрался сбоку. «Вот я тебе, вот я тебе всыплю в посадочную площадку... сейчас, погоди, сейчас!» – бормотал Собольков, пытаясь обернуть орудие к врагу, которого ещё не видел – сколько его и каков; второй удар пришёлся по венцу башни, и все поворотные механизмы отказали разом. Это был полный паралич, но ещё бешено и грозно ревел мотор; в его раздирающий уши звон вплелись неясные смертные стуки... и всё же он тянул куда то, уставший жить, но не сражаться.
– Уходи... всё! – успел крикнуть лейтенант, тяжестью тела налегая на штурвал пушки. И он никогда не думал, что она будет такой мучительной, тишина последней остановки, когда Литовченко снял ногу с педали. – Лес... бежать... всем... – повторил он криком, которому нельзя было не повиноваться.
Короткий белый полдень вспыхнул в башне. На этот раз попадание было точнее, – Обрядина предохранили казённик и балансиры орудия. Оглохший, полуслепой, точно взглянул на солнце, слизывая солёную горячую росу с обожжённых губ, он обернулся к командиру. Тот ещё сидел, привалясь к задней стенке, прямой и очень строгий, только непонятная дыра, которой не было раньше, образовалась в нижней половине его лица. Его ударило осколком в рот, в самую сказку, незаконченную сказку всей его жизни. Убитый, командир ещё глядел и, кажется, приказывал Обрядину покинуть танк; и опять, уже в последний раз, ослушался его башнёр, как изредка по мелочам делал это и при жизни.
Он привстал, упираясь головой в круглое стальное небо; ему удалось поднять крышку люка и поставить на стопор. Он не заметил, как внизу, сквозь каток, в одну дыру, туда, где тревожно мяукал Кисо, вошли четвёртый и пятый, и дрогнули по-братски все семьдесят два трака, и почему-то смертно заломило ноги у Обрядина.
– Погоди, не вались... давай вылезать отсюда, – осипло и почти спокойно шептал Обрядин, вертясь в своей тесной рубке. – Вылезай, Соболёк... милый, вылезай. Хватайся за меня, я помогу. Врёшь, танкисты особый народ... мы ещё, о! Давай, упрись сюда ножкой, Соболёчек мой!..
Обхватив лейтенанта, он поднял его на весу, на выпрямленных руках, и если бы даже остался жив теперь, вылежал бы месяц за одно это нечеловеческое усилие. Его зелёные глаза почернели, едва понял, что и у десятка Обрядиных не хватит силы вытолкнуть командира наружу. «Одолели, одолели...» – прохрипел он, усмехаясь на подлую радость того, кто бил его сзади. Тогда-то, без боли и шума, в башню и в спину ему вошёл шестой.
Чуть впереди, на шоссе, стояла одна немецкая противотанковая пушчонка. Чёрт поставил её там на страже своего воинства. Она расстреливала двести третью в упор, не целясь, со стометрового расстояния, с какого не ошибаются и новички. Уже были исковерканы и сбиты все левые катки, ленивый дым валил из трансмиссии и командирского люка; уже вся двести третья просвечивала насквозь, уже чинить в ней было нечего, а те всё стреляли, дырявя кормовые баки, откуда хлестала огненная кровь, голили её, сшибали все крышки и, как жесть, разгибали броню; только животный страх, что она ещё оживёт – без гусениц, без башни, – мог быть причиной такого шквального и уже недостойного огня. Всё, что теперь успело снова подняться на шоссе, мрачно и без ликования наблюдало эту солдатскую истерику... Напрасно Дыбок с Литовченкой, прячась за танком, пытались автоматными очередями унять неистовство артиллерийского микроба; он добивал их милый тесный дом, где родилась их дружба, до той поры, пока десятиметровое милосердное пламя не одело его весь, и выстрел из накалённой пушки потряс окрестность, как прощальный салют живым. И так продолжалось всё это, пока другие зрители не пришли на место расправы.
...Герой, выполняющий долг, не боится ничего на свете, кроме забвения. Но ему не страшно и оно, когда свершение его перерастает размеры долга. Тогда он сам вступает в сердце и разум народа, родит подражанье тысяч, и вместе с ними, как скала, меняет русло исторической реки, становится частицей национального характера. Таков был подвиг двести третьей... По живому проводу шоссе волна смятенья покатилась на передовую, и тот момент, когда в армейском немецком штабе была произнесена фраза: «На коммуникациях русские танки», надо считать решающим в исходе великошумской операции. Одновременно с этим корпус Литовченки с трёх направлений охлестнул поле сражения, и третья танковая группа двигалась как раз той трассой, какую за сутки перед тем проложил Собольков... Одинокая размашистая колея, изредка прерываемая очагами разгрома и опустошения, вела их теперь к победе. Похоже было – не один, а целая ватага сказочных великанов крушила германские тыловые становища, и шла дальше, волоча по земле свои беспощадные палицы.
Штурмовая лава Литовченки размела и свалила под откос остатки вражеской колонны, пропуская в прорыв конницу и мотопехоту. На больших скоростях, как бы церемониальным маршем военного времени, они проходили мимо догорающего товарища. И каждый, кто глядел на него из люка, или седла, или с сиденья транспортера, поворачивал голову по мере бега, не в силах оторваться от печального и благородного зрелища. Клочок тепла от итого уже маленького, как представлялось сверху, костерка они на своих лицах уносили в бой... Время перевалило за полдень, двести третья ещё пылала, но чёрные прожилки усталости всё гуще струились в мышцах огня. Ветерку не составило бы труда вовсе погасить леностное, остывающее пламя, сквозь которое стал проступать остов преображённого танка... Дело шло к вечеру, и примораживало. Нестерпимая красота наступала в природе...
Большое солнце опускалось за низкие облачные горы. Глаз легко различал покатые хребты и малиновые склоны, пересечённые глубокими лиловыми распадами; розовые реки и спокойные озёра светились там, недвижные, как в карауле. Возможно, сам Алтай в праздничной своей одежде припожаловал через всю страну проводить земляка в вечный путь танкистской славы. А тот, в ком есть отцовское сердце, отыскал бы там, в огне заката, и каменным стол мод моховой скатёркой, за которым отдыхал не однажды со своей дочкой Собольков... Чуть вправо от этой родины героев сказочно и совсем близко рисовался синий профиль Великошумска, потому что пригороды его начинались тут же рядом, за топким полупрозрачным перелеском. Мускулистые стылые дымы поднимались над пим; казалось, само горе народное встало на часах возле двести третьей... Тем отрадней блистал сквозь них крохотный клочок золотца на высокой, узорчатой, может быть лишь для этого уцелевшей, колокольне. Город горел; догорало не испепелённое накануне. Ясно различимы были изгрызенные взрывом стены собора, у которого не раз Украина браталась с Русью, и тесные вишнёвые садики, разгороженные плетнями и спускавшиеся к реке, безлюдные улички, где неторопливо проходила дымная мгла, – всё, кроме пламени; оно никогда не бывает видно в закате.
Двое сидели на поваленном телеграфном столбе, лицом к солнцу и танку. Как у всех, перешагнувших пропасть, не было у них пока ни раздумья, ни ощущения времени или голода, ни понимания всей новизны обстановки, – ничего, кроме чувства безвозвратной потери. Душою они находились ещё там, внутри; крошилась броня над ними, и звучал голос Соболькова... Снежинка, спорхнув с порванного провода, опустилась на руку Дыбку, на запястье. Она была маленькая и нежная; даже удивляло, что целую ночь, пока дрались и падали люди, трудился над нею мороз, чтоб выковать такую пустяшную и хрупкую бесценность. И сам собою возникал вопрос: повторится ли она когда-нибудь за миллионолетье – в точном её весе, рисунке, в её живой и недолговечной прелести? Она растаяла прежде, чем родился ответ.
Вдруг Дыбок вспомнил про Кисо, его лицо исказилось, виноватая тоска сжала душу. Он подбежал к танку и заглянул через передний люк, как будто ещё не поздно было исполнить ночную просьбу Соболькова. Чадный жар пахнул ему в глаза. Ничего там не было, на дне танка, в копотной мохнатой тьме, кроме горки застылой коричневатой пены да жёлтого пятнышка заката, проникшего сквозь пробоину. Нельзя было долго глядеть сюда: жгло.








