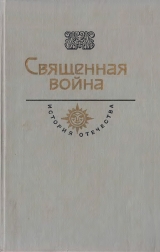
Текст книги "Священная война. Век XX"
Автор книги: Константин Симонов
Соавторы: Андрей Платонов,Владимир Беляев,Леонид Леонов,Евгений Носов
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 57 страниц)

Андрей Платонов
ОДУХОТВОРЁННЫЕ ЛЮДИ [5]5
Платонов Андрей Платонович (1899—1951) – русский советский писатель, в годы Великой Отечественной войны – специальный корреспондент «Красной звезды» в действующей армии. Рассказ «Одухотворённые люди», написанный в 1942 году, один из лучших военных рассказов писателя. «...Русский солдат для меня святыня, и здесь я вижу его непосредственно», – писал с фронта домой Андрей Платонов. Писатель почувствовал и увидел одухотворённость народного подвига, глубоко исследовал духовные истоки общенародного сопротивления захватчикам. Рассказ «Одухотворённые люди» опубликован в книге: Платонов А. П. Смерти нет! Рассказы. М.: Советский писатель, 1970.
[Закрыть]

Рассказ о небольшом сражении под Севастополем
...Помнишь о тех, которые, обвязав себя гранатами,
бросились под танки врага. Это, по-моему, самый
великий эпизод войны, и мне поручено сделать из
него достойное памяти этих моряков произведение.
Я пишу о них со всей энергией духа, какая только
есть во мне. У меня получается нечто вроде Реквиема
в прозе. И это произведение, если оно удастся, самого
меня хоть отдалённо приблизит к душам погибших героев...
Мне кажется, что мне кое-что удаётся, потому что мною
руководит воодушевление их подвигом...
Из письма жене с фронта
В дальней уральской деревне пели русские девушки. Одна из них пела выше и задушевнее всех, и слёзы текли по её лицу, но она продолжала петь, чтобы не отстать от своих подруг и чтобы они не заметили её горя и печали. Она плакала от чувства любви, от памяти по человеку, который был сейчас на войне; ей хотелось увидеть его и утешить вблизи него своё сердце, плачущее в разлуке.
А он бежал сейчас по полю сражения вперёд, лицо его было покрыто кровью и по́том, он бежал, задыхаясь от смертной истомы, и кричал от ярости. У него была поранена пулей щека, и кровь из неё лилась ему за шею и засыхала на ею теле под рубашкой. Он хотел рвануть на себе рубашку, но она была спрятана далеко под бушлатом и морской шинелью. Он чувствовал лишь маленькую рану на лице и не понимал, отчего же он столь слабеет и дыхание его не держит тела. Тогда он рванул на себе воротник застёгнутого бушлата; ему сейчас некогда было слабеть, ему ещё нужно было немного времени, потому что он шёл в атаку, он бежал по известковому полю, поросшему сухощавой полынью. Вблизи от него, справа, слева и позади, стремились вперёд его товарищи, и сердца их бились в один лад с его сердцем, сохраняя жизнь и надежду против смерти.
Он пал вниз лицом, послушный мгновенному побуждению, тому острому чувству опасности, от которого глаз смежается прежде, чем в него попала игла. Он и сам не понял вначале, отчего он вдруг приник к земле, но когда смерть стала напевать над ним долгою очередью пуль, он вспомнил мать, родившую его. Это она, полюбив своего сына, вместе с жизнью подарила ему тайное свойство хранить себя от смерти, действующее быстрее помышления, потому что она любила его и готовила его в своём чреве для вечной жизни, так велика была её любовь.
Пули прошли над ним; он снова был на ногах, повинуясь необходимости боя, и пошёл вперёд. Но томительная слабость мучила его тело, и он боялся, что умрёт на ходу.
Впереди него лежал на земле старшина Прохоров. Старшина более не мог подняться: моряк был убит пулею в глаз – свет и жизнь в нём угасли одновременно. «Может быть, мать его любила меньше меня или она забыла про него?» – подумал моряк, шедший в атаку, и ему стало стыдно этой своей нечаянной мысли. Вчера он говорил с Прохоровым, они курили вместе и вспоминали службу на погибшем ныне корабле. И ему захотелось прилечь к Прохорову, чтобы сказать ему, что он никогда не забудет его, что он умрёт за него, но сейчас ему было некогда прощаться с другом, нужно было лишь биться в память ого. Ему стало легче, томительная слабость в его толе, от которой он боялся умереть на ходу, теперь прошла, точно он принял на себя обязанность жить за умершего друга и сила погибшего вошла в него. С криком ярости он ворвался в окоп, в убежище врага, увидел там серое лицо неизвестного человека, почувствовал чуждое зловоние и сразил врага прикладом в лоб, чтобы он не убивал нас больше и не мучил наш народ страхом смерти. Затем моряк обернулся в темноте земляной щели и размахнулся винтовкой на другого врага, но не упомнил, убил он его или нет, и упал в беспамятстве, с закатившимся дыханием от взрывной волны. По немецкому рубежу, атакованному русскими моряками, начала сокрушающе бить немецкая артиллерия, чтобы место стало ничьим.
Старший батальонный комиссар Поликарпов издали смотрел в бинокль на поле сражения. Он видел тех, кто пал к земле и не поднялся более, и тех, кто превозмог встречный огонь противника и дошёл до щелей врага на взгорье, чтобы закончить его жизнь штыком и прикладом. Комиссар запомнил, как пал сражённым Прохоров, как приостановился и неохотно опустился на землю младший политрук Афанасьев и неровно, но упрямо удалялся вперёд на противника краснофлотец Красносельский, видимо уже раненный, однако стерпевший до конца свою муку.
Правый и левый фланги ещё шли, но середины уже не было. Средняя часть наступающего подразделения была вся разбита и легла к земле под огнём; был или не был там кто в живых, комиссар Поликарпов не знал; поэтому он сам решил идти туда и пополз по земле вперёд.
Позади него был Севастополь, впереди – Дуванкойское шоссе. Немного левее шоссе поворачивало и шло прямо на юг, на Севастополь. Против закругления шоссе, по ту сторону его, лежало полынное поле, а немного дальше находилась высота, на которой теперь были враги. С высоты врагу уже виден был город, последняя крепость и убежище русского народа в Крыму.
Правый и левый фланги атакующей морской пехоты вошли на взгорье, на скат высоты, и скрылись в складках земной поверхности, в окопах противника, занявшись там рукопашным боем. Огонь врага прекратился. Поликарпов поднялся в рост и побежал по взгорью. Четверо моряков с правого фланга присоединились к Поликарпову и помчались вперёд, вслед комиссару, пользуясь тишиною на этой ещё не остывшей от огня смертной земле.
Поликарпов заметил краснофлотца Нефедова, лежавшего замертво на земле. У комиссара тронулось сердце печалью. Он вспомнил Нефедова, павшего теперь славной смертью, а прежде это был весёлый, привлекательный, но трудный человек. И вот он лежит мёртвый, он остался уже позади бегущего вперёд комиссара.
Внезапный и одновременный удар огня из нескольких пулемётов раздался со второго рубежа немцев; этот рубеж проходил возле самой вершины высоты. Огонь был жёсткий и точный; Поликарпов обернулся к бойцам и сделал им знак, чтобы они залегли, и сам залёг впереди них.
Вдобавок к пулемётам начали бить миномёты, и общий огонь стал суетливым и неосмысленным. «Зачем столько огня против пятерых, – подумал Поликарпов. – Пугливо, без расчёта бьют!»
Поликарпов осторожно обернулся лицом назад – к бойцам. Они лежали врозь, правильно, хорошо вжавшись в землю, тесно прильнув к ней в поисках защиты от гибели.
До переднего немецкого края, куда ворвались на флангах краснофлотцы, осталось пройти метров сто, и обратно, до Дуванкойского шоссе, было столько же.
Миномётный огонь усилился; маленькие толстые тела мин с воем неслись над телами людей и рвались на куски, словно от собственной внутренней ярости. Оставаться на месте было нельзя, чтобы не умереть бесполезно.
Поликарпов двинулся вперёд.
– За мной! Вперёд, на злодеев, мать их...
Но мина прошла мимо него и рванулась невдалеке, а пули секли воздух столь часто, что он, казалось, иссыхал и крошился.
Комиссар оглянулся на моряков, они лежали неподвижно; железная смерть пахала воздух низко над их сердцами; и души их хранили самих себя.
Поликарпов почувствовал удар ревущего воздуха в лицо и приник обратно к земле; стая тяжёлых мин пронеслась над отрядом. Комиссар залёг вполоборота к своим людям, чтобы видеть, все ли они целы. Пока они всё ещё были живы. Один Василий Цибулько что-то не шевелился, лёжа ничком. Поликарпов подполз к нему ближе и увидел, что Цибулько тоже начал шевелиться, – стало быть, и он был живой. Цибулько изредка приподымал своё лицо от земли и вновь приникал к ней вплотную. Опухшие, потрескавшиеся от ветра уста его были открыты, он прижимался ими к земле и отымал их, а затем опять жадно целовал землю, находя в том для себя успокоенно и утешение. Даниил Одинцов задумчиво смотрел на былинку полыни; она была сейчас мила для него. «Это всё хорошо, – решил Поликарпов, – но нам пора вперёд», – и он снова крикнул краснофлотцам, едва ли услышанный за свистом и грохотанием огня:
– За мной! – и поднялся в рост, обернувшись на мгновение к бойцам.
Все бойцы привстали; однако близкий разрыв артиллерийского снаряда поверг их снова ниц, и сам комиссар был брошен воздухом на землю.
В третий раз комиссар поднялся безмолвно, но тут же упал, не поняв сам причины и озлобившись на враждебную силу, сразившую его. Он скоро очнулся и почувствовал, как холодеет, словно тает и уменьшается вся внутренность его тела, но мозг его работал по-прежнему ясно и жизненно, и комиссар понимал значение своих действий. Он увидел свою левую руку, отсечённую осколком мины почти по плечо. Эта свободная рука лежала теперь отдельно возле его тела. Из предплечья шла тёмная кровь, сочась сквозь обрывок рукава кителя. Из среза отсечённой руки тоже ещё шла кровь помаленьку. Надо было спешить, потому что жизни осталось немного.
Комиссар Поликарпов взял свою левую руку за кисть и встал на ноги, в гул и свист огня. Он поднял над головой, как знамя, свою отбитую руку, сочащуюся последней кровью жизни, и воскликнул в яростном порыве своего сердца, погибающего за родивший его народ:
– Вперёд! За Родину, за вас!
Но краснофлотцы уже были впереди него; они мчались сквозь чащу смертного огня на первый рубеж врага, чувствуя себя теперь свободно и счастливо, словно комиссар Поликарпов одним движением открыл им тайну жизни, смерти и победы.
Поликарпов поглядел им вслед довольными, побледневшими от слабости глазами и лёг на землю в последнем изнеможении.
Двое краснофлотцев дорвались до первых коротких щелей – окопов противника – и въелись в них. В одном окопе лежал без памяти, но ещё живой Иван Красносельский; возле него валялись опрокинутыми два мёртвых немца.
Окопы были достаточно хорошо отрыты вглубь, и огонь со второго рубежа противника здесь ощущался безопасно.
– Ну, тут-то мы жители! – сказал Цибулько Одинцову.
– Тут-то что же! – согласился Одинцов. – Тут ресторан-кафе на Приморском бульваре, только всего!
– А ребята как там устроились? – спросил Цибулько.
Одинцов смотрел наружу.
– Они вон в том блиндаже остались, – сказал Одинцов. – Там им удобней.
Цибулько и Одинцов помогли Красносельскому, и тот пришёл в себя. Кроме ранения в щёку, у него оказалась рана в грудь навылет; нижняя нательная рубашка присохла к телу в двух местах – возле правого соска груди, куда вошла пуля, и около родинки на спине, где пуля вышла наружу. Цибулько умело и осторожно перевязал Красносельского, изорвав на бинты свою рубашку. Наружные ранки на теле Красносельского уже подсохли и начали заживать, неизвестно было только, что сделала пуля внутри.
– Ну как ты себя чувствуешь-то? – спросил Цибулько. – После боя в эваку пойдёшь иль так обойдёшься, под огнём отдышишься?
– Теперь мне много легче, – сказал Красносельский. – Плохо было, когда я в атаку шёл, тогда истома меня всего брала, а пока до врага дошёл – я обветрился, обозлел и выздоровел. Тут вот я опять устал, пока двоих кончил. А теперь мне ничего. Плохо, когда ранение бывает спервоначалу, когда только в бой входишь, воюешь тогда вполсилы. А теперь мне ничего – я отошёл от смерти.
Но дышалось Красносельскому тяжко, и пот шёл по его лицу.
– Отдыхай! – крикнул ему Цибулько, покрывая голосом стрельбу врага. – А мы пока без тебя повоюем.
Цибулько нашёл место в тупом конце окопа и стал оттуда поглядывать в сторону неприятеля. Одинцов же вывалил мёртвых немцев наружу и прибрал окоп от комьев земли, от осколков, от всего, что не нужно для жизни и боя.
Стало уже вечереть – стрельба немцев стала редкой, они налили сейчас ради одного предостережения, отложив свои главные заботы, видимо, до завтрашнего утра.
– А где наш батальонный комиссар товарищ Поликарпов? – спросил Красносельский.
– Ночью уберём его с поля... – сказал Одинцов. – Такие люди долго не держатся на свете, а свет на них светит вечно.
– Это точно! – произнёс Цибулько. – «Вперёд, говорит, за Родину, за вас!..» За нас с тобой! Родиной для него были все мы, и он умер.
– Он кровью истёк? – спросил Красносельский.
– Точно, – сказал Цибулько.
На высоте настала тьма, но Севастополь был светел: над ним сияли четыре люстры осветительных ракет, и по телу города била издали тяжёлая артиллерия врага. По врагу из мрака моря стреляли через город пушки наших кораблей. Цибулько и Одинцов загляделись на город, на блистающую мёртвым светом поверхность моря, уходящую в затаившийся тёмный мир, где вспыхивали сейчас зарницы работающей корабельной артиллерии.
Красносельский лёг на дно окопа и задремал для отдыха.
Он дремал, больное тело его отдыхало, но в сознании его непрерывно шёл тихий поток мыслей и воображения. Он слушал артиллерийскую битву за Севастополь, чувствовал прах, сыплющийся на него со стен окопа от сотрясения земли, и улыбался невесте в далёкой уральской деревне. Ей там тихо сейчас, тепло и покойно – пусть она спит, а утром пробуждается, пусть она живёт долго, до самой старости, и будет сыта и счастлива – с ним или с другим хорошим человеком, если сам Красносельский скончается здесь ранней смертью, но лучше пусть она будет с ним, а другому человеку пусть достанется другая хорошая девушка или вдова – и вдовы есть ничего.
А в уральской деревне давно уже умолкла песня одиноких девушек: там время ушло далеко за полночь, и скоро нужно было уже подниматься на сельскую работу. Невеста Ивана Красносельского тоже спала, и теперь она не плакала: её лицо, прекрасное не женской красотой, но выражением удивления и ненависти, было спокойно сейчас, и лишь нежное, кроткое счастье светилось на нём: ей снилось, что война окончилась и эшелоны с войсками едут обратно домой, а она, чтобы стерпеть время до возвращения Вани, сидит и скоро-скоро сшивает мелкие разноцветные лоскутья, изготовляя красивый плат на одеяло...
В полночь в окоп пришли из блиндажа политрук Николай Фильченко и краснофлотец Юрий Паршин. Фильченко передал приказ командования: нужно занять рубеж на Дуванкойском шоссе, потому что там насыпь, там преграда прочнее, чем этот голый скат высоты, и там нужно держаться до погибели врага; кроме того, до рассвета следует проверить своё вооружение, сменить его на новое, если старое не по руке или неисправно, и получить боепитание.
Краснофлотцы, отходя через полынное поле, нашли тело комиссара Поликарпова и унесли его, чтобы предать земле и спасти его от поругания врагом. Чем ещё можно выразить любовь к мёртвому, безмолвному товарищу?
Политрук Николай Фильченко оставил командование отрядом на Даниила Одинцова и пошёл в тыл, к Севастополю, на пункт снабжения, чтобы ускорить доставку боепитания.
Осветительные ракеты медленно и непрерывно опускались с неба, сменяя одна другую; их и сейчас было четыре люстры, четыре комплекта ракет под каждым парашютом. Их быстро и точным огнём расстреливали на погашение наши зенитные пулемёты, но противник бросал с неба новые светильники взамен угасших, и бледный грустный свет, похожий на свет сновидения, постоянно освещал город и его окрестности – море и сушу.
На краю города, в одном общежитии строительных рабочих, всё ещё жили какие-то мирные люди. Фильченко заметил женщину, вешающую бельё возле входа в жилище, и двоих детей, мальчика и девочку, играющих во что-то на светлой земле. Фильченко посмотрел на часы: был час ночи. Дети, должно быть, выспались днём, когда артиллерия на этом участке работала мало, а ночью жили и играли нормально. Политрук подошёл к низкой каменной ограде, огораживающей двор общежития. Мальчик лет семи рыл совком землю, готовя маленькую могилу. Около него уже было небольшое кладбище – четыре креста из щепок стояли в изголовье намогильных холмиков, а он рыл пятую могилу.
– Ты теперь большую рой! – приказала ему сестра. Она была постарше брата, лет девяти-десяти, и разумней его. – Я тебе говорю: большую нужно, братскую, у меня покойников много, народ помирает, а ты одна рабочая сила, ты не успеешь рыть. Ещё рой, ещё, побольше и поглубже, – я тебе что говорю!
Мальчик старался уважить сестру и быстро работал совком в земле.
Фильченко тихо наблюдал эту игру детей в смерть.
Сестра мальчика ушла домой и скоро вернулась обратно. Она несла теперь что-то в подоле своей юбчонки.
– Не готово ещё? – спросила она у трудящегося брата.
– Тут копать твёрдо, – сказал брат.
– Эх ты, румын-лодырь, – опорочила брата сестра и, выложив что-то из подола на землю, взяла у мальчика совок и сама начала работать.
Мальчик поглядел, что принесла сестра. Он поднял с земли мало похожее туловище человечка, величиною вершка два, слепленное из глины. На земле лежали ещё шестеро таких человечков, один был без головы, а двое без ног – они у них открошились.
– Они плохие, такие не бывают, – с грустью сказал мальчик.
– Нет, такие тоже бывают, – ответила сестра. – Их танками пораздавило: кого как.
Фильченко пошёл далее по своему делу. «И мои две сестрёнки тоже играют где-нибудь теперь в смерть на Украине, – подумал политрук, и в душе его тронулось привычное горе, старая тоска по погибшему дому отца. – Но, должно быть, они уже не играют больше, они сами мёртвые... Нужно отучить от жизни тех, кто научил детей играть в смерть! Я их сам отучу от жизни!»
За насыпью Дуванкойского шоссе четверо моряков рыли могилу для комиссара Поликарпова.
Одинцов перестал работать:
– Комиссар говорил, что мы для него – всё, что мы для него – Родина. И он тоже Родина для нас. Не буду я его в землю закапывать.
Одинцов бросил сапёрную лопатку и сел в праздности.
– Это неудобно, это совестно, – говорил Одинцову Цибулько. – Надо же спрятать человека, а то его завтра огонь на куски растаскает. Потом мы его обратно выроем – это мы его прячем пока, до победы!.. Неудобно, Даниил!
Но Одинцов не хотел больше работать. Паршин и Цибулько отрыли неглубокое ложе у подножия насыпи и положили там Поликарпова лицом вверх, а зарывать его землёй не стали. Они хотели, чтобы он был сейчас с ними и чтобы они могли посмотреть на него в свой трудный час. Мёртвую, отбитую левую руку моряки поместили вдоль груди комиссара и положили поверх неё, как на оружие, правую руку.
После того Одинцов приказал Паршину и Цибулько спать до рассвета. Красносельский, как выздоравливающий, спал уже сам по себе и всхрапывал во сне, дыша запахом сухих крымских трав. Партии и Цибулько легли в уютную канаву у подошвы откоса, поросшую мягкой травой, свернувшись там по-детски, и, согревшись собственным телом, сразу уснули.
Одинцов остался бодрствовать один. Ночь шла в редкой артиллерийской перестрелке; над городом сиял страшный, обнажающий свет врага, и до утренней зари было ещё далеко.
Наутро снова будет бой. Одинцов ожидал его с желанием: всё равно нет жизни сейчас на свете и надо защищать добрую правду русского народа нерушимой силой солдата. «Правда у нас, – размышлял краснофлотец над спящими товарищами. – Нам трудно, у нас болит душа. А фашист, он действует для одного своего удовольствия – то пьян напьётся, то девушку покалечит, то в меня стрельнёт. А нас учили жить серьёзно, нас готовили к вечной правде, мы Ленина читали. Только я всего не прочитал ещё, прочту после войны. Правда есть, и она записана у нас в книгах, она останется, хотя бы мы все умерли. А этот бледный огонь врага на небе и вся фашистская сила – это наш страшный сон. В нём многие помрут не очнувшись, но человечество проснётся, и будет опять хлеб у всех, люди будут читать книги, будет музыка и тихие солнечные дни с облаками на небе, будут города и деревни, люди будут опять простыми, и душа их станет полной». И Одинцову представилась вдруг пустая душа в живом, движущемся мертвяке, и этот мертвяк сначала убивает всех живущих, а потому теряет самого себя, потому что ему нет смысла для существования и он не понимает, что это такое, он пребывает в постоянном ожесточённом беспокойстве.
Одинцов стоял один на откосе шоссе и глядел вперёд, в смутную сторону врага. Он опёрся на винтовку, поднял воротник шинели и думал и чувствовал всё, что полагается пережить человеку за долгую жизнь, потому что не знал, долго или коротко ему осталось жить, и на всякий случай обдумывал всё до конца.
Потом воображение, замена человеческого счастья, заработало в сознании Одинцова и начало согревать его. Он видел, как он будет жить после войны. Он окончит музыкальную школу при филармонии, где он учился до войны, и станет музыкантом. Он будет пианистом, и если сумеет, то и сам начнёт сочинять новую музыку, в которой будет звучать потрясённое войной и смертью сердце человека, в которой будет изображено повое священное время жизни.
Одинцов посмотрел на товарищей: спят Цибулько и Паршин, спит Красносельский, раненный в грудь насквозь; навеки уснул комиссар. Плохо им спать на жёсткой земле: не для такого мира родили их матери и вскормил народ, не для того, чтобы кости отрывали от тела их живых детей. Одинцов вздохнул: много ещё работы будет на свете и после войны, после нашей победы, если мы хотим, чтобы мир стал святым и одушевлённым, если мы хотим, чтобы сердце красноармейца, разорванное сталью на войне, не обратилось в забытый прах...
К рассвету прибыли на машине политрук Фильченко и полковой комиссар Лукьянов; они привезли с собой боеприпасы, вооружение и пищевые продукты.
Лукьянов осмотрел позицию и увёз с собой в город тело Поликарпова, пообещав наутро снова приехать на этот участок. Фильченко велел Одинцову лечь отдохнуть, потому что невыспавшийся боец – это не работник на войне.
– Иди ляжь! – сказал Фильченко. – В шубе – не пловец, в рукавицах – не косец, а сонный – не боец.
Одинцов лёг в канаву возле разоспавшегося, храпящего Красносельского, приспособился к земле и уснул: он не очень хотел спать, но, раз надо было, он уснул.
Рассвело. Николай Фильченко переложил своих бойцов поудобнее, чтобы у них не затекли во сне руки, ноги и туловище. Когда он их ворочал, они бормотали ему ругательства, но он укрощал их:
– Так удобней будет, голова! Мать во сне увидишь.
Он и сам бы сейчас, хоть во сне, поглядел бы на свою мать и дорого бы дал, чтобы обнять ещё раз её исхудавшее тело и поцеловать её в плачущие глаза.
Наступила тишина. Далёкие пушки неприятеля и наших кораблей, и до того уже бившие редко, вовсе перестали работать, светильники над Севастополем угасли, и стало столь тихо, что трудно было ушам, и Фильченко расслышал плеск волны о мол в бухте. Но в этом безмолвии шла сейчас напряжённая скорая работа мастеровых войны – механиков, монтёров, слесарей, заправщиков, наладчиков, всех, кто снаряжает боевые машины в работу.
Фильченко поглядел на товарищей. Они раскинулись в последнем сне, перед пробуждением. У всех у них были открыты лица, и Фильченко вгляделся отдельно в каждое лицо, потому что эти люди были для него на войне всем, что необходимо для человека и чего он лишён: они заменяли ему отца и мать, сестёр и братьев, подругу сердца и любимую книгу, они были для него всем советским народом в маленьком виде, они поглощали всю его душевную силу, ищущую привязанности.
По-детски, открытым ртом, дышал во сне Василий Цибулько. Он был из трактористов Днепропетровской области, он участвовал уже в нескольких боях и действовал в бою свободно, но после боя или в тихом промежутке, когда битва на время умолкала, Цибулько бывал угрюм, а однажды он плакал. «Ты чего, ты боишься?» – сердито спросил его в тот раз Фильченко. «Нет, товарищ политрук, я нипочём не боюсь, – ответил Цибулько, – это я почувствовал сейчас, что мать моя любит и вспоминает меня; это она боится, что я тут помру, и мне её жалко стало!» В своём колхозе, рассказывал Цибулько, он устраивал разные предметы и способы для облегчения жизни человечества: там ветряная мельница накачивала воду из колодца в чан; там на огородах и бахчах Цибулько установил страшные чучела, действующие тем же ветром, – эти чучела гудели, ревели, размахивали руками и головами, и от них не было житья не только хищным птицам, но и людям не было покоя. Наконец Цибулько начал кушать в варёном виде одну траву, которая в его местности спокон веку считалась негодной для пищи; и он от той травы не заболел и не умер, а наоборот – у него стала прибавляться сила, почему появилось убеждение, что та трава на самом деле есть полезное питание.
Цибулько обо всём любил соображать своей особенной головой; он воспринимал мир как прекрасную тайну и был благодарен и рад, что он родился жить именно здесь, на этой земле, будто кто-то был волен поместить его для существования как сюда, так и в другое место.
Фильченко вспомнил, как они лежали рядом с Цибулько четыре дня тому назад в известковой яме. На их подразделение шли три немецких танка. Цибулько вслушался в ход машин и уловил слухом ритмичную работу дизель-моторов. «Николай! – сказал тогда Цибулько. – Слышишь, как дизеля туго и ровно дышат? Вот где сейчас мощность и компрессия». Василий Цибулько наслаждался, слушая мощную работу дизелей; он понимал, что хотя фашисты едут на этих машинах убивать его, однако машины тут ни при чём, потому что их создали свободные гении мысли и труда, а не эти убийцы тружеников, которые едут сейчас на машинах. Не помня об опасности, Цибулько высунулся из известковой пещеры, желая получше разглядеть машины; он любовно думал о всех машинах, какие где-либо только существуют на свете, убеждённо веря, что все они – за нас, то есть за рабочий класс, потому что рабочий класс есть отец всех машин и механизмов.
Теперь Цибулько спал; его доверчивые глаза, вглядывающиеся в мир с удивлением и добрым чувством, были сейчас закрыты; тёмные волосы под бескозыркой слиплись от старого, дневного пота, и похудевшее лицо уже не выражало счастливой юности – щёки его ввалились и уста сомкнулись в постоянном напряжении; он каждый день стоял против смерти, отстраняя её от своего народа.
– Живи, Вася, пока не будешь старик, – вздохнул политрук.
Иван Красносельский до флота работал по сплаву леса на Урале; он был плотовщиком. Воевал он исправно и по-хозяйски, словно выполняя тяжёлую, но необходимую и полезную работу. В промежутках между боями и на отдыхе он жил молча, и с товарищами водился без особой дружбы, без той дружбы, в которой каждое человеческое сердце соединяется с другим сердцем, чтобы общей большой силой сохранить себя и каждого от смерти, чтобы занять силу у лучшего товарища, если дрогнет чья-либо одинокая душа перед своей смертной участью.
Фильченко догадывался, почему Красносельский не нуждался в такой дружбе. Он был привязан к жизни другою силой, не менее мощной – его хранила любовь к своей невесте, к далёкой отсюда девушке на Урале, к странному, тихому существу, питавшему сердце моряка мужеством и спокойствием. Фильченко давно заметил, ещё до войны, что Красносельский, бывая на берегу, никогда не гулял в Севастополе с девушками, мало и редко пил вино, не предавался озорству молодости, – не потому, что не способен был на это, а потому, что это его не занимало и не утешало и он тосковал в таких обычных забавах. Он жил погруженным в счастье своей любви; им владело постоянное, но однократное чувство, которое невозможно было заменить чем-либо другим, или разделить, или хотя бы на время отвлечься от него. Этого сделать Красносельский не мог, и воевал он с яростью и ровным упорством, видимо, потому, что хотел своим воинским подвигом приблизить время победы, чтобы начать затем совершение другого подвига – любви и мирной жизни.
Красносельский был человеком большого роста, руки его были работоспособны и велики, туловище развито и обладало видимой физической мощью, – он должен бы свирепствовать в жизни, но он был кроток и терпелив: одна нежная, невидимая сила управляла этим могучим существом и регулировала его поведение с благородной точностью.
Фильченко задумался, наблюдая Красносельского: велика и интересна жизнь, и умирать нельзя.
Юра Паршин был четыре раза ранен, два раза тяжело, но не умер. Небольшой, средней силы, весёлый и живучий, способный пойти на любую беду ради своего удовольствия, он допускал свою гибель лишь после смерти последнего гада на свете. На корабле, ещё в мирное время, он дважды сваливался с борта в холодную осеннюю воду, пока не было понято, что он это делал нарочно – ради того, чтобы корабельный врач выдавал ему для согревания спирт, потому что человек продрог. Паршин знал и любил много своих севастопольских подруг, и они тоже любили его в ответ и не ревновали друг к другу, что так необычно для женской натуры. Однако тайна привлекательности Юры Паршина была проста, и понимание её увеличивало симпатию к нему. Она заключалась в доброй щедрости его души, в беспощадном отношении к самому себе ради любого милого ему человека и в постоянной весёлости. Он мог принять вину товарища на себя и отбыть за него наказание; он мог выручить подругу, если она нуждалась в его помощи. Однажды, будучи в командировке в Феодосии, он познакомился с местной девушкой; она, почувствовав в нём настоящего человека, попросила Паршина сделать ей одолжение: жениться на ней, но только не в самом деле, а фиктивно. Ей так нужно было, потому что она стыдилась своего материнства от любимого человека, который оставил её и уехал неизвестно куда, не совершив с ней формального брака. Паршин, конечно, с радостью согласился сделать такое одолжение молодой женщине. В следующий его приезд в Феодосию была сыграна свадьба. После свадьбы он просидел всю ночь у постели своей названой жены, всю ночь он рассказывал ей сказки и были, а наутро поцеловал её, как сестру, в лоб и протянул ей руку на прощанье. Но у женщины, слушавшей его всю ночь, тронулось сердце к своему ложному мужу, она уже увлеклась им и задержала руку Паршина в своей руке. «Оставайтесь со мной», – попросила она. «А надолго?» – спросил моряк. «Навсегда», – прошептала женщина. «Нельзя, я непутёвый», – отказался Паршин и ушёл навсегда.
Видя в Паршине его душу, люди как бы ослабевали при нём, перед таким открытым и щедрым источником жизни, светлым и не слабеющим в своей расточающей силе, и обычные страсти и привычки оставляли их: они забывали ревность в любви, потому что их сердцу и телу становилось стыдно своей скупости, они пренебрегали расчётливым разумом, и новое, лёгкое чувство жизни зарождалось в них, словно высшая и простая сила на короткое время касалась их и влекла за собой.
Чем занимался Юра Паршин до войны и до призыва во флот, трудно было понять, потому что он говорил всем по-разному и даже одному человеку два раза не повторял одного и того же. Истина о самом себе его не интересовала, его интересовала фантазия, и в зависимости от фантазии он сообщал, что был токарем на Ленинградском металлическом заводе (и он действительно знал токарное дело), либо затейником в Парке культуры имени Кирова, либо коком на торговом корабле. Служебные анкеты он заполнял с тою же неточностью, чем вызывал недоразумения.








