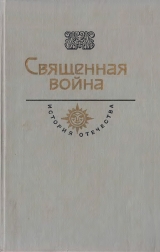
Текст книги "Священная война. Век XX"
Автор книги: Константин Симонов
Соавторы: Андрей Платонов,Владимир Беляев,Леонид Леонов,Евгений Носов
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 19 (всего у книги 57 страниц)
– Недолёт, – сказал Ремизов. – Ну, что ж, пойдёмте.
Он с неожиданной лёгкостью вылез из окопа и, не оглядываясь, пошёл вперёд. Сабуров двинулся вслед за ним. Рядом пошли Шарапов и четыре автоматчика.
Наш артиллерийский налёт продолжался. На немецких позициях и далеко в глубине всё грохотало от разрывов тяжёлых снарядов. Подожжённые «катюшам?», горели остатки бензина или нефти, красные языки пламени поднимались к небу.
No и немцы понемногу начинали отстреливаться; мины уже несколько раз проносились над головой Сабурова и разрывались позади. Потом заговорили пушки. И наконец впереди послышались автоматные очереди.
Штурмовые группы быстро миновали полосу от оврага до своих старых окопов, в которых сейчас сидели немцы. Этот участок, отбитый вчера немцами, был хорошо известен Сабурову. Он представлял собою квадрат примерно триста на двести метров. Всё было изрыто окопами и ходами сообщения, и лишь кое-где почти на голом месте торчали развалины и обломки. Когда-то здесь были бензохранилища, от которых теперь остались только фундаменты и огромное количество раскиданного повсюду рваного листового железа.
Сабуров несколько раз наступал на перегоревшие железные листы, которые со страшным грохотом коробились под ногами. Впереди были остатки каменной сторожки. Туда устремился Ремизов, а вслед за ним и Сабуров. У самых развалин кто-то из бежавших сзади Сабурова тяжело, со стуком, упал на землю. В развалинах несколько человек уже устанавливали два пулемёта.
– Вот правильно, – одобрил Ремизов. – Гаврилов?
– Я, товарищ полковник.
– Выходит, взяли?
– Взяли, товарищ полковник.
– А дальше двигаются?
– Двигаются.
– Иди вперёд. Передай, что я буду здесь.
Около сторожки свистели и шлёпались пули. Слева, совсем близко, слышались взрывы гранат. Справа продолжали стрелять, но взрывов не было: до гранатного боя там ещё не дошло.
– Ах, негодяи! Ах, негодяи! – возмущался Ремизов. – Залегли ведь. Раз гранаты не рвутся, значит, залегли. Командира, что ли, убило? Сабуров, идите туда. Любыми средствами поднимите.
Сабуров вылез из сторожки и пополз направо, в темноту. Действительно, командир там был убит. Бивший из развалин немецкий станковый пулемёт не давал возможности подойти. Но заминка произошла не из-за того, что убили командира, а из-за того, что три сапёра поползли в обход с толом, чтобы подложить заряд под развалины дома, на втором этаже которого находился пулемёт. Остальные ждали взрыва, чтобы двинуться дальше. Распоряжался всем какой-то старшина, который, когда Сабуров к нему подполз, объяснил ему суть происходящего:
– Если не взорвут, и так пойдём, товарищ капитан, а то людей жалко – пообождём немного.
Сабуров согласился и несколько минут лежал рядом со старшиной и ждал. Кругом шёл ночной бой, как всякий ночной бой, похожий на уравнение со многими неизвестными.
«Что сейчас делается у Проценко?» – подумал Сабуров. Судя по грохоту взрывов и частой сетке трассирующих пуль, на участке, где должен был наступать Проценко, тоже шёл бой. Наши снаряды с левого берега всё ещё проносились над головами, но разрывались они теперь далеко в немецком тылу. Разрывы гремели беспрестанно через каждые одну-две секунды, и Сабуров на мгновение представил себе, что творилось бы кругом, если бы такая канонада обрушилась сейчас не на немцев, а на него с его людьми. В сущности, этот огонь был ужасным, и, как все пехотные командиры, он от души благословлял русскую артиллерию.
Когда впереди, там, где прятался немецкий пулемёт, раздался оглушительный взрыв, Сабуров и старшина подняли людей в атаку.
Дважды за ночь Сабурова осыпало комьями земли. Рукав ватника просекло автоматной очередью, и слегка обожгло левую руку. Многие из тех, с кем он пошёл в атаку, уже не отзывались на голоса товарищей. Многие были ранены, сёстры и санитары вытаскивали их с поля боя. Сабуров так и не сумел в темноте и горячке разглядеть, была ли среди санитаров Аня.
Но, в общем, бой сложился легче, чем можно было предполагать. Две штурмовые группы на правом фланге, которые по ходу боя пришлось взять под свою команду Сабурову, довольно быстро заняли приходившиеся на их долю окопы. Когда Сабуров пошёл после этого очищать траншеи, уходившие влево, в одной из них он столкнулся с шедшими навстречу автоматчиками. Это были бойцы одной из левофланговых штурмовых групп. Значит, весь этот участок был взят целиком.
– А как там, ещё левей? – спросил Сабуров. – Соединились с дивизией?
– Вроде как соединились, товарищ капитан, – сказал автоматчик, к которому он обращался, – дали жару фрицам.
Сабуров подумал, что главные неприятности ещё предстоят утром. И даже то, что немцы были ночью сравнительно легко выбиты, не предвещало ничего хорошего. Очевидно, они не ввели в бой свои резервы, решив отложить это на утро.
Сабуров в темноте проверил, кто остался в живых, вместе со старшиной расположил пулемёты, кое-где приказал углубить окопы и восстановить обвалившиеся от взрывов гранат амбразуры. Потом он послал двух связных с записками – к Ремизову и к начальнику штаба. Он писал, что с рассветом ждёт контратаки, остаётся здесь и просит скорее подбросить противотанковые ружья. «И если можно, – добавил он в конце обеих записок, – хотя бы одну противотанковую пушку».
От Ремизова связной не вернулся. От Анненского, когда уже начинало сереть, прикатили вручную две 45-миллиметровые пушчонки на резиновом ходу и пришли пять бронебойщиков со своими длинными «дегтярёвками» и полтора десятка автоматчиков. В записке, которую принёс связной, Анненский писал: «Наскрёб всё, что мог. Держитесь».
XX
С восьми утра, когда рассвело и началась первая немецкая атака, и до семи вечера, когда стемнело и всё кончилось, прошло одиннадцать томительных часов.
Когда на этом участке дивизию в последнюю педелю оттеснили к самому берегу, Проценко постарался укрепиться здесь особенно тщательно. Вся площадь была изрыта окопами, ходами сообщения, под остатками фундаментов были вырыты многочисленные поры и блиндажи, а впереди тянулся неширокий, но довольно глубокий овраг, через который немцам, чтобы достичь наших позиций, необходимо было так или иначе перебираться.
Если бы можно было начертить кривую нарастания звуков на поле боя, то в этот день она бы, как температура у малярийного больного, три раза стремительно лезла вверх и падала вниз.
Утром немцы начали обстрел из полковой артиллерии. Потом к ней прибавились полковые тяжёлые миномёты, потом дивизионная артиллерия, потом тяжёлые штурмовые орудия, потом началась свирепая бомбёжка. Когда грохот возрос до последнего предела, он вдруг оборвался, и под неумолчную пулемётную трескотню неприятель пошёл в атаку. В эту минуту все, кто высидел, вытерпел, выжил в наших окопах, – все прильнули к пулемётам, автоматам и винтовкам. Овраг, который ещё неделю назад, в дни первых немецких атак, был прозван «оврагом смерти», сейчас снова оправдал своё название. Некоторые из немцев не добежали до окопов всего десять-пятнадцать метров. Казалось, ещё секунда – и они проскочат это пространство. Но они не проскочили. Ужас смерти в последнюю секунду охватил тех, которые почти добежали, и заставил повернуть обратно, и тот, кто не был убит, когда бежал вперёд, был убит на обратном пути.
Когда первая атака не удалась, всё началось сначала. Но если в первый раз этот ад продолжался два часа, то во второй раз он продолжался уже пять с половиной часов. Немцы решили не оставить живого места на берегу. Весь берег был до такой степени изрыт воронками, что, если бы все снаряды, мины и бомбы разорвались одновременно, здесь действительно не осталось бы в живых ни одного человека. Но снаряды рвались в разное время, и там, где только что разорвался один, в воронке уже лежали и стреляли люди, а там, где разрывался следующий, их не было, и эта смертельная игра в прятки, продолжавшаяся пять с половиной часов, кончилась тем, что, когда на исходе шестого часа немцы пошли во вторую атаку, оглохшие, полузасыпанные землёй, чёрные от усталости бойцы поднялись в своих окопах и, ожесточённо, в упор расстреливая всё, что показывалось перед ними, отбили и эту атаку.
После недолгой тишины кривая грохота опять полезла вверх. Самолёты заходили по пять, по десять, по двадцать раз и пикировали так низко, что иногда их подбрасывало вверх воздушной волной. Не обращая внимания на зенитный огонь, они штурмовали окопы, и фонтанчики пыли поднимались кругом так, словно шёл дождь.
Бомбы фугасные и осколочные, большие и маленькие, бомбы, вырывающие воронки глубиной в три метра, и бомбы, которые рвались, едва коснувшись земли, с осколками, летящими так низко, что они брили бы траву, если бы она здесь была, – всё это ревело над головой в течение почти трёх часов. Но когда в шесть часов вечера немцы пошли в третью атаку, они так и не перепрыгнули через «овраг смерти».
Сабурову впервые пришлось видеть такое количество мертвецов на таком маленьком пространстве.
Утром, когда после прихода подкрепления Сабуров пересчитал своих людей, у него было – он твёрдо запомнил эту цифру – 83 человека. Сейчас, к семи часам вечера, в строю осталось 35, из них две трети легко раненных. Должно быть, так же было и слева и справа от него.
Окопы разворочены, ходы сообщения в десятках мест прерваны прямыми попаданиями бомб и снарядов, многие блиндажи выломаны и вздыблены. Всё уже кончилось, а в ушах ещё стоял сплошной грохот.
Если бы Сабурова когда-нибудь потом попросили описать всё, что с ним происходило в этот день, он мог бы рассказать это в нескольких словах: немцы стреляли, мы прятались в окопах, потом они переставали стрелять, мы поднимались, стреляли по ним, потом они отступали, начинали снова стрелять, мы снова прятались в окопы, и когда они переставали стрелять и шли в атаку, мы снова стреляли по ним.
Вот, в сущности, всё, что делал он и те, кто был с ним. Но, пожалуй, ещё никогда в своей жизни он не чувствовал такого упрямого желания остаться в живых. Это был не страх смерти и не боязнь, что оборвётся жизнь, такая, какая она была, со всеми её радостями и печалями, и не завистливая мысль, что для других придёт завтра, а его, Сабурова, уже не будет на свете.
Нет, весь этот день он был одержим одним-единственным желанием высидеть, дождаться той минуты, когда наступит тишина, когда поднимутся немцы, когда можно будет самому подняться и стрелять по ним. Он и все окружавшие его трижды за день ждали этого момента. Они не знали, что будет потом, но до этой минуты они каждый раз хотели дожить во что бы то ни стало. И когда в седьмом часу вечера была отбита последняя, третья, атака, наступила короткая тишина, и люди в первый раз за день сказали какие-то слова, кроме команд и страшных, нечеловеческих, хриплых ругательств, которые они кричали, стреляя в немцев, – то эти слова оказались неожиданно тихими. Люди почувствовали, что случилось нечто необычайно важное, что они сегодня сделали не только то, о чём потом будет написано в сводке Информбюро: «Часть такая-то уничтожила до 700 (или 800) гитлеровцев», а что они вообще победили сегодня немцев, оказались сильнее их.
В половине восьмого, уже в темноте, в окоп к Сабурову пришёл Анненский. Сабуров сидел, прислонившись спиной к стенке окопа, и лениво ковырял вилкой в банке с консервами, пытаясь убедить себя, что он голоден и надо поесть, хотя есть ему совсем не хотелось.
– Отбились, – сказал Анненский.
Лицо у него было такое же чёрное и усталое, как у всех, – наверно, там, где был Анненский, сегодня происходило то же, что и здесь.
– Здесь отбились, – сказал Сабуров. – А как вообще?
– И вообще отбились, – ответил Анненский. – Я пришёл с лейтенантом, он вас сменит, – вас генерал срочно вызывает.
– А там как? – спросил Сабуров.
– Тоже отбились.
– А где Ремизов?
– Отнесли в блиндаж.
– Опять ранили?
– Нет, – сказал Анненский. – Полчаса назад, как только всё кончилось, в обморок хлопнулся. Легко ли с таким ранением сутки на ногах? Идите к генералу. Он на новое капе перешёл – метров триста отсюда, на самом обрыве.
Сабуров пошёл по ходу сообщения. Два или три раза ему пришлось переступать через засыпанные землёй, ещё не убранные тела своих бойцов. Пройдя шагов четыреста, Сабуров увидел Проценко, стоявшего на краю обрыва. Он был в таком же, как и все, ватнике, но в генеральской, с красным околышем, фуражке, недавно привезённой ему с того берега. Немного поодаль двое бойцов тесали брёвна для накатов.
– Сабуров, это ты? – крикнул Проценко ещё за десять шагов.
– Я, товарищ генерал.
Проценко сделал три шага навстречу, остановился и, против обыкновения, очень официально сказал:
– Товарищ Сабуров, благодарю вас от лица командования.
Сабуров вытянулся.
– Я вас представил к ордену Ленина, – сказал Проценко. – Вы его заслужили. И я хочу, чтобы вы знали об этом.
– Очень большое спасибо, – неожиданно для себя не по-уставному ответил Сабуров и улыбнулся.
Проценко тоже улыбнулся и, обняв Сабурова, тихо похлопал его по плечу.
– Живой?
Сабуров не ответил. Что сказать на это?
– Когда-нибудь мы с тобой, Алексей Иванович, ещё вспомним этот день, – сказал Проценко. – Помяни моё слово. Может быть, кто и другой день вспомнит, а мы именно этот.
Сабуров молча кивнул.
– Вот командный пункт сменил, – сказал Проценко. – Тут раньше штаб батальона был, я приказал расширить для себя. Они завтра сюда главный удар направят. А мы не отступим. Сегодня всё это почувствовали – я знаю: и ты, и я, и все почувствовали. Так я это чувство у людей закрепить хочу собственным пребыванием. Понимаешь?
– Понимаю, – ответил Сабуров. – Только у вас там удобнее было.
– Там удобнее, но я и здесь ведь прочно устраиваюсь. Смелость смелостью, а четыре наката над головой у командира дивизии всё равно должно быть. Должен тебя огорчить: убит Попов... С Ремизовым теперь, можно считать, познакомился?
– Познакомился.
– Будет у вас командиром полка вместо Попова.
– А у них?
– Там Анненского оставляем. Это во-первых. Во-вторых, пришлось ослабить вчера полки, чтобы штурмовые группы выделить. Ну и заплатили за это – кое-где потеснили нас. И твой батальон потеснили. Дивизия опять вся вместе, а к берегу нас поплотней прижали, пять домов отдали.
– И у меня тоже? – спросил Сабуров с тревожным чувством человека, которому ещё не сказали самых неприятных известий.
– Да. Мой грех – слишком много твоих людей взял, но не взял бы – не соединились бы с Ремизовым. В общем, там, где у тебя командный пункт, теперь передовая. А Г-образный дом немцы забрали.
Проценко говорил спокойным тоном, но было заметно, что он чувствует за собой как бы некоторую вину перед Сабуровым, – что взял у него из батальона и людей и его самого, и теперь Сабурову может казаться, что, будь он там, всего этого бы не случилось, хотя вполне могло случиться и при нём.
– В общем, иди в батальон и стой там, где зацепились, это главное. Не огорчайся, – Проценко похлопал по плечу упорно молчавшего Сабурова, – важнее, что вся дивизия опять вместе – это подороже, чем твой дом. Да, кстати, старые мы сослуживцы с тобой, а не знал, что ты такой скрытный.
– Почему скрытный? – удивился Сабуров.
– Конечно, скрытный. Я у тебя в батальоне был. Мне там всё рассказали.
– Что рассказали? – всё ещё продолжая не понимать, спросил Сабуров.
– Женился, говорят.
– А, вот что. – Сабуров только теперь сообразил, что имел в виду Проценко, так далеко от этого были его мысли. – Да, женился.
– Говорят, далее свадьбу хотел устроить. Так бы и устроил, а меня не пригласил?
– Не устроил бы, – сказал Сабуров. – Просто разговоры были. Хотелось, чтобы так было.
– А почему этого не может быть? Я эту девушку знаю. Даже орден ей выдавал. У тебя фельдшер в батальоне есть?
– Последнее время нет. Убили, пока я в медсанбате был.
– Могу её фельдшером к тебе в батальон. Раз по штату положено.
– Мне даже врач по штату положен, – сказал Сабуров.
– Мало ли что кому положено. Тебе в батальоне положено восемьсот штыков иметь, а где они у тебя? А фельдшера могу дать, только с условием...
– С каким?
– Меня на свадьбу позвать. И ещё одно. Для тебя она жена, а для батальона фельдшер и никакого касательства к батальонным делам, кроме как по санитарной части, иметь не вправе. А то жёны иногда советы подавать начинают... Так вот этого на войне быть не может.
– По-моему, тоже, – сказал Сабуров. – Если сомневаетесь, пусть остаётся там, где сейчас.
– Я не сомневаюсь. Просто подумал и сказал. Иди к себе. Тебя там уже заждался Масленников твой.
– А кто же вам всё-таки рассказал о моих личных делах, товарищ генерал?
– Кому по штату положено, тот и рассказал. Ванин рассказал. – Проценко протянул Сабурову руку. – Думаю, немцы завтра повторят. Но если сегодня у них не вышло, завтра тем более не выйдет. Однако учти – если Волга ещё два дня не станет, снаряды и мины на этом берегу кончатся. Экономь. И паёк экономь!
XXI
Ночь была тёмная. Вдали шлёпались случайные мины, и именно потому, что разрывы были редки и неожиданны, Сабуров несколько раз вздрогнул. Добравшись до своего батальона, он встретил бойца, который узнал его.
– Здравствуйте, товарищ капитан.
– Здравствуйте, – сказал Сабуров. – Проводите меня на командный пункт. Где он теперь, знаете?
– А где был, там и есть, – ответил боец.
Когда Сабуров подошёл к блиндажу и увидел в окопе знакомую фигуру Пети, ему показалось, что он пришёл домой.
– Товарищ капитан! – обрадовался Петя. – А мыто уж вас ждали...
– Вы бы меньше ждали, да лучше воевали, – упрекнул Сабуров, стараясь скрыть свою растроганность. – Дом отдали.
– Это верно, – согласился Петя. – Очень уж навалились, а то бы не отдали. Сил не было. Сорок человек генерал от нас забрал.
– Не только у вас забирали.
– Так и других потеснили, – обиженно сказал Петя. – Не было человеческой возможности… А уж комиссар и Масленников вас ждали, ждали.
– Где они?
– Товарищ Ванин здесь.
– А Масленников?
– А Масленников, как темнеть стало, пошёл в дом. Туда теперь днём не пройдёшь.
– А до немцев отсюда сколько теперь?
– Слева далеко, как были, а с этой стороны, – Петя кивнул направо, – шестидесяти метров не будет. Всё слышно.
– Много народу потеряли? – спросил Сабуров.
– Одиннадцать убитых, тридцать два раненых. И Марью Ивановну убило.
– А дети?
– И детей. Всех вместе. Прямо в их подвал бомба. Одна воронка – и кругом ничего.
– Когда это?
– Вчера.
Сабуров вспомнил, как эта женщина давно, теперь казалось, целую вечность назад, сказала ему равнодушным голосом: «А если бомба, так пусть – один конец всем, вместе с детьми».
И вот её пророчество исполнилось.
– Да, много ты мне всего наговорил. Лучше бы меньше. – Подняв плащ-палатку, Сабуров вошёл в блиндаж.
Ванин дремал за столом. Он писал политдонесение и так и заснул, уронив голову на бумагу и разбросав по столу руки. «Отрицательных случаев морально-политического поведения нет» – была последняя фраза, которую успел дописать комиссар, засыпая.
– Ванин, – позвал Сабуров, постояв над ним. – Ванин!
Тот вскочил.
– Ванин, – повторил Сабуров, – это я.
Ванин долго тряс ему руку, глядя на него, как на выходца с того света.
– А мы уже за тебя тревожились.
– У вас тут, кажется, некогда было тревожиться.
– Представь себе, нашли время. Чёрт тебя знает, что-то такое в тебе есть, что скучно без тебя. Будто из комнаты печку вынесли.
– Спасибо за сравнение, – улыбнулся Сабуров.
– Между прочим, дело к холодам, так что напрасно обижаешься: печка – теперь самая необходимая техника, чтоб согревать живую силу.
– Тем более когда эта техника топится.
Сабуров сел на койку, стащил сапоги и портянки и протянул ноги к огню.
– Хорошо, – сказал он. – Очень хорошо. Нажаловался на меня генералу?
Ванин рассмеялся.
– Нажаловался. Я же комиссар. Увидел, что у тебя душа не на месте, и нажаловался.
– У всех душа не на месте, и раньше, чем война не кончится, она на место не встанет... Что Масленников, вперёд ушёл?
– Да.
– К утру вернётся?
– Должен. Если к утру не вернётся, значит, до следующего вечера. Туда и оттуда днём не пройдёшь.
– Кто ж там остался в доме?
– Человек пятнадцать. И Конюков за коменданта. Потапов-то убит.
– Ну?
– Убит. Конюкова я в критическую минуту своей властью командиром роты назначил. Больше некого было. Когда нас вышибли, он с тем, что от роты осталось, засел в доме.
– Неужели пятнадцать человек всего во второй роте?
– Нет, – сказал Ванин, – ещё человек десять здесь есть. Они с двух сторон отошли, а он в доме остался. Если точно – двадцать шесть человек во второй роте.
– А в остальных?
– В остальных немножко больше. На, смотри.
На листочке бумаги было расписано наличие людей по всем ротам.
– Да, много потеряли. А где передний край теперь проходит?
– Вот, пожалуйста. – Панин вынул план.
На плане было нанесено расположение батальона. Батальон уже не выдавался уступом вперёд, как это было раньше, а после потери Г-образного дома стоял на одной линии с остальными батальонами, вдоль правой стороны разрушенной улицы, и только один дом, номер 7, обведённый на плане пунктиром, языком выходил вперёд.
– В сущности, дом в окружении, – сказал Ванин. – Немцы днём не пускают. Ползаем ночью.
– Когда всю улицу обратно придётся брать, будет хороший опорный пункт для продвижения, – сказал Сабуров. – Надо его удержать.
– Когда обратно брать будем... – протянул Ванин. – Боюсь, далеко ещё до этого. Дай бог удержаться там, где сидим.
– Конечно, – согласился Сабуров, – я об этом и говорю, что дай бог удержаться. А удержимся, так и обратно возьмём.
– Ты что-то весёлый вернулся, – сказал Ванин.
– Да, весёлый. Это ничего, что один дом отдали. То есть плохо, конечно, но ничего. А что удержались сегодня на берегу и не пустили их к Волге, это самое главное. И дальше не пустим.
– Убеждён? – спросил Ванин.
– Убеждён.
– А почему убеждён?
– Как тебе сказать? Могу привести некоторые логические доводы, но не в них дело. Верю в это. Такое сегодня выдержали, чего раньше не выдержали бы. Сломалось у них что-то. Знаешь, как игрушка заводная. Заводили, заводили, а потом – крак – и больше не заводится.
– Рад слышать это от тебя. А мы тут с этим домом так огорчились, что ни вчера, ни сегодня никаких чувств у нас, кроме горькой досады, не было.
Ванин поднялся и, прихрамывая, прошёлся по блиндажу.
– Ты что хромаешь?
– Ранен. Ничего, до свадьбы заживёт – до моей, конечно, а твоя, говорят, не за горами.
– Кто говорит?
– Проценко. Как Масленников вернётся, мальчишник устроим. Без мальчишника всё равно не дадим тебе жениться.
– Не возражаю, только у Пети с запасами, наверное, слабовато. А, Петя?
– Как-нибудь уж постараюсь, товарищ капитан. – Петя открыл флягу, налил водки в кружки, стоявшие перед Ваниным и Сабуровым.
Но не успели они поднести кружки к губам, как плащ-палатка поднялась, и Масленников, весёлый, шумный, растрёпанный Масленников, появился на пороге блиндажа.
– Подождите, – поднял он руку. – Что вы делаете? Без меня?
Бросившись к Сабурову, Масленников схватил его, приподнял с места, обнял, расцеловал, отодвинул от себя, посмотрел, опять придвинул к себе и снова расцеловал, – всё в одну минуту. Потом плюхнулся на третью, стоявшую у стола табуретку и басом крикнул:
– Петя, водки мне!
Петя налил ему водки.
– За Сабурова, – произнёс Масленников. – Чтобы он скорее стал генералом.
Но Ванин, подняв кружку, улыбнулся своей грустной улыбкой и возразил:
– А я за то, чтобы он поскорее стал учителем истории.
– Значит: или – или, – улыбнулся Сабуров. – А я готов всю остальную жизнь быть поливальщиком улиц, если бы из-за этого война кончилась хоть на день раньше. Разумеется, победой. Может, за неё и выпьем? – Он выпил залпом и, переведя дух, добавил: – А что до учителей – то после войны все мы понемножку будем учителями истории... Ну, как там в доме, а? – повернулся он к Масленникову.
– В доме правит Конюков; объявил себя начальником гарнизона, нацепил старый «Георгий» и говорит, что носит его в ожидании, когда комбат выдаст законно причитающийся ему согласно приказу командующего орден Красной Звезды. Петя, что смотришь? – крикнул Масленников. – Кружки пустые.
Сабуров искоса посмотрел на Масленникова, но, решив, что тот всё равно валится с ног от усталости и ему, так или иначе, надо спать, не стал возражать. Петя налил им ещё по одной.
– Интересно, что Петя никогда не ошибается: всегда наливает ровно по сто грамм, – заметил Ванин.
– Точно, товарищ старший политрук.
– Я знаю, что точно. Даже если в разную посуду. Может, объяснишь секрет?
– Я разливаю не на глаз, товарищ старший политрук, а на слух. Держу фляжку под одним углом и по звуку отсчитываю; раз, два, три, четыре, пять – готово!
– Похоже, что ты после войны будешь работать в аптеке, – пошутил Масленников.
– Никогда, товарищ лейтенант, – сказал Петя. – Вот уж именно – никогда! – с неожиданным жаром повторил он. – Зря вы думаете, товарищ лейтенант, что я так люблю считать каждую каплю, что даже после войны мечтаю об этом!
– А ты часом не выпил, Петя? – улыбнулся Сабуров.
– Да, товарищ капитан, когда вы выпили за победу, я тоже немного выпил. – Водка, против обыкновения, ударила Пете в голову, потому что еда была на исходе и он, экономя для командиров, за день съел лишь два сухаря. – После войны я буду работать по снабжению, как и работал. Но я мечтаю за такое время, когда всё, что я делал когда-нибудь раньше, показалось бы людям смешным. Я считался королём, потому что мог достать пятьдесят мешков картошки или три мешка репчатого лука. Но когда-нибудь, после войны, мне скажут: «Петя, достань в рабочую столовую устриц». И я скажу: «Пожалуйста». И к обеду будут устрицы.
– А ты ел когда-нибудь этих устриц? – спросил Сабуров. – Может, они – дрянь?
– Не ел. Я только к примеру хотел назвать что-нибудь такое, о чём вы сейчас меньше всего думаете. Налить вам ещё?
– Нет, – отказался Сабуров, – довольно. – Он опустил голову на руки и задумался над тем, сколько людей, мечтавших, желавших, мысливших, каявшихся, погребено за эти полтора года в русской земле и никогда они уже не осуществят того, о чём думали. И ему показалось, что всё это исполнимое, но не выполненное, всё задуманное, но не сделанное теми, кто теперь мёртв, всей своей тяжестью ложится на плечи живых и на его плечи. Он задумался над тем, как всё будет после войны, и не мог себе этого представить, так же как не мог бы себе представить до войны того, что происходило с ним сейчас.
– Чего загрустил? – спросил Ванин. – Генерал говорил с тобой?
Сабуров поднял голову.
– Я не грущу, я просто думаю. – Он рассмеялся. – Почему у нас, если кто-нибудь задумается, считают, что он грустит? Петя, возьми автомат. Сейчас пойдём с тобой.
– Куда? – спросил Масленников.
– Обойдём позиции.
– Поспите, Алексей Иванович. Утром…
– Нет, утром обходить их... мне жизнь дороже, – усмехнулся Сабуров.
– Тогда я с вами, – вызвался Масленников.
– Нет, я один. – И Сабуров положил руку на плечо Масленникова. – Всё, Миша. Когда командир возвращается в часть, его принимают как гостя первые полчаса, а потом хозяин снова он. Понял? Ложись спать. Ты бы тоже вздремнул, – вставая, посоветовал Сабуров Ванину.
– Я уже, – улыбнулся Ванин. – Никак политдонесение не кончу, три раза засыпал.
– А ты их скучно пишешь, – съязвил Сабуров, – так скучно, что сам в это время засыпаешь, а представь себе, как другие засыпают, когда их читают!
Сабуров и Петя вышли из блиндажа. Масленников растянулся на койке и сразу же, по-детски посапывая носом, заснул, а Ванин сел за стол и, положив перед собой незаконченный лист политдонесения, задумался. Потом полез под койку, достал оттуда потрёпанный клеёнчатый чемодан и вытащил из него толстую общую ученическую тетрадь. На первой странице её было написано: «Дневник».
Он положил дневник рядом с листком сегодняшнего политдонесения и подумал, что, может быть, именно то, что он записывает в эту заветную тетрадь, и нужно было писать в политдонесениях. Разговоры, мысли, чувства, события, показывающие людей с неожиданной стороны, – всё, что он записывал, потому что это было интересно ему, – может быть, именно это и вообще интересно, а то, что он пишет каждый день по графам «положительные явления», «отрицательные явления», – не особенно интересное для него, может быть, так же неинтересно и для тех, кто будет читать.
В эту минуту, приподняв плащ-палатку, в блиндаж вошла Аня.
– Здравствуйте, товарищ старшин политрук, – сказала она.
Ванин поднялся ей навстречу.
– А где капитан Сабуров? – спросила Аня.
– Ушёл в роту, скоро вернётся.
– Разрешите обратиться к вам?
– Пожалуйста.
– Назначенная в ваш батальон военфельдшер Клименко по месту назначения явилась, – доложила Аня. Потом, опустив руку, спросила: – А Алексей Иванович скоро будет?
– Скоро.
– Хочу его поскорее увидеть.
– Сочувствую вам, – улыбнулся Ванин. – он скоро будет. Садитесь.
Они сели и с минуту молчали.
– Не смотрите на меня так. Я никого не просила об этом.
– Знаю.
– И он не просил.
– Знаю. Я просил.
– Вы?
– Я. И прекрасно, что это вышло, что вы здесь. Мы тут с Алексеем Ивановичем часто спорили. Мы с ним очень разные люди. Но как бы вам это объяснить... Стойте, вы же меня давно знаете, – вдруг прервал себя Ванин.
– Конечно, товарищ Ванин, – сказала Аня. – Кто же из сталинградских комсомольцев вас не знает?
– Когда мы тут встретились с Сабуровым, то поспорили из-за зелёных насаждений. Помните, мы все тут зелёными насаждениями увлекались. Он мне доказывал, что, предвидя войну, мы поменьше должны были заниматься этим и побольше многим другим. И я с ним, в общем, даже согласился. Но вы помните, с каким увлечением мы это делали, как это было хорошо!
– Помню, – сказала Аня.
– Это же было счастье, – продолжал Ванин убеждённо, – самое настоящее счастье. Мне всегда хотелось, чтобы у всех было счастье, и всё, что я делал, я делал дли этого. Иногда ненужные мероприятия проводил – для этого, лишние директивы писал – всё равно для этого. Так я, по крайней мере, всегда считал.
Хотя Ванин говорил путано и сбиваясь, но Аня понимала, что он говорит о том, что мучило его всё это время.
– А вот сейчас, – сказал Ванин, – хотя мне всегда казалось, что я всё делал правильно и для счастья людей, – сейчас я всё-таки чувствую, что, наверное, прав Сабуров: может быть, меньше нужно было зелёных насаждений, меньше вольных движений на физкультурных парадах, меньше красивых слов и речей, – больше надо было топать с винтовками и учиться стрелять. Но я же тогда так не думал, это же я теперь, задним числом, здесь, на берегу Волги, так считаю. Вы понимаете меня?








