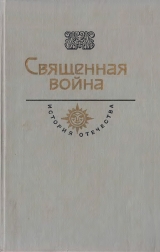
Текст книги "Священная война. Век XX"
Автор книги: Константин Симонов
Соавторы: Андрей Платонов,Владимир Беляев,Леонид Леонов,Евгений Носов
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 27 (всего у книги 57 страниц)
6
Мерцала над горизонтом вечерняя звезда, но сотни беспокойных земных светил оспаривали сейчас её первенство. Цветные ракеты подымались в небо, высокие пристрельные журавли шрапнелей перемежались с пунктирами светящихся снарядов, рябили небо вспышки гвардейских миномётов, и звезда блекла, терялась в смутной пелене дыма, потому что война уже зажгла свои дикие ночные костры. Шофёры наблюдали от машин за этим разнообразным фейерверком... Генерал подошёл сзади. Ближний безучастным голосом доводил до сведения остальных, как хозяин вон той, наискосок, хаточки, едва придвинулась канонада, порубил своих гусей, готовясь уходить от немца... и как они лежали на пороге, все шестеро, пышные и безголовые, те самые, что криком и крыльями встречали их на селе... и как стояли молча над ними хозяйские дети.
– О гусях потом, – сказал Литовченко, открывая дверцу. – Дотемна Ставищи проскочить, опасный отрезок... Показывай, шофёр, свою работу!
Офицер доложил последнее сообщение рации: за исключением тридцать седьмой, размещение корпуса закончилось. Это означало, что квартирьеры развели роты по домам, если только не зимний лес стал местом их временного пристанища, – ложатся в грязь все шестьдесят километров корпусного провода для связи с бригадами и соседями, варится побатальонная каша, бродят по карте карандаши и циркули, прощупывает разведка, где противник, сколько его, каково состояние его духа, готовности, оружия и сапог; то были первые обороты новой шестерни в большом армейском механизме. Машины прогрелись и вот поднырнули в сизый падымок туманца. Дорогу прихватило холодком, ехать было хорошо.
На сиденье рядом обнаружился плотный пакет, в нём мясо и бутылка какого-то трофейного напитка; так и не вспомнил Литовченко, чтобы командующий в его присутствии отдавал распоряжение об этом свёртке. На обстоятельное ознакомление с ним ушло в среднем полчаса, и когда генерал выкидывал за борт бумагу, там плескалась и текла река ночи. Струились поля, уставленные куполами вроде казацких шапок, – омёты бурачной ботвы, мелькал нестаявший снежок во впадинках поглубже, изредка с удвоенной скоростью проносились одноглазые грузовички с белым облачком над радиатором, потом длинные руины, руины... и вдруг душевный огонёчек в уцелевшем окне, и, наконец, встречный лесок, такой неотвязчивый, долго и вприпрыжку бежал наперегонки с машиной. В мутном, слякотном стекле, вставленном в фанерную прорезь, это сливалось в нескончаемую ленту, и начинало представляться, что уже много километров тянется стена великошумского монастырька, высокая, под небеса, с полубойницами вместо окон. Начавшийся жар и однообразное качанье преувеличивали размеры видений, ещё более властных, чем днём.
«Кажется, заболеваю... не вовремя», – впервые за сутки сознался Литовченко, закрывая глаза и откидываясь на заднюю стенку «виллиса».
Собор кончился, а то, что вначале прикидывалось только снежком, на поверку оказалось фасадами глинобитных строений. Внутренний сумеречный свет, какой внезапно озаряет мрак усталому путнику, помог теперь и генералу различить безлюдную и как бы недосказанную окраину Великошумска. Три тополя прошумели над головой, и стал виден уютный, такой прохладный даже в нынешнюю июльскую жару домик учителя Кулькова.
«Приехали...» – вяло подумал Литовченко.
Всё сбывалось немножко не так, как предсказывала утренняя догадка. Митрофан Платонович встретил гостя во дворике, в той вышитой рубахе, в какой навсегда простился с Литовченкой тридцать лет назад. Совпадение не удивляло: с годами люди научаются беречь испытанную дружбу вещей. Дворик стал пошире, и нарядней обычного распушились в нём цветистые мальвы. Друзья обнялись, но не радость, а как бы нездоровый озноб доставило Литовченке это объятие. Хозяин пошёл впереди, и огорчило гостя, что ничем не напомнил о былом, не пошутил о глобусе, даже не подивился чудесным превращениям в судьбе бывшего ученика. Не было ни рассказов о прошедшем житье-бытье, ни обещанных кавунов, и в окошке ничего не было, будто в пустоте висел учительский домик.
Они сидели молча, великий вопрос читался в молчанье старика. «Чем возместит история неоплатную человеческую муку, причинённую войной? Чем вознаградит она труд современников, одетых в изорванные смертью шинели? Что там, за издержками века, за горными хребтами, на которые поднимались мы столько веков? Или ближе станет солнце к тем, кто доберётся до их снеговой и всё-таки земной вершины?»
И Литовченко отвечал с волнением, точно это был урок, заданный тридцать лет назад; и он знал, что старику мало только пространного отчёта о материальных благодеяниях или перечислениях параграфов ещё не полностью осуществлённой программы.
«Слушай, милый старик. Завтра бой, а нынче моё время – минутка. Простоим её благоговейно у главных врат, которых мы достигли. Взгляни в звёздный проем этой вечной арки, окинь глазом принадлежащие тебе пространства... Не зарождается ли в тебе богоподобная способность реять над безднами, где ползали твои пращуры? Простор – отец крыльев. Колумб и Галилей так же стояли у океанов земли и неба, как сегодня Новый Человек стоит у Океана людского возрождения. И уже не сможет он отказаться от своих социальных достижении, как невозможно ему забыть колесо, или рычаг, или винт Архимеда, помогшие ему подняться с четверенек».
«Я слышал это и раньше», – сказал Кульков.
«От кого? От самого себя!.. Оглянись – трудно жили наши отцы. Даже когда плясал, бывало, под хмельком дед мой Фадеич, мне представлялось, что это он пудовыми сапогами отбивается от горя. Но никогда не покидала народ вера в правду, что постучится однажды в окошко мира. Мы решили помочь истории и сократить срок сказки... Смотри, грозные силы состоят служанками при людях, но уже протянута рука за ключиком от сокровенных тайн материи и жизни. И надо спешить, пока они не стали достоянием злых, готовых её созидательный потенциал обратить на разрушение. Судьбу прогресса мы, как птенца, держим в наших огрубелых ладонях. Оказалось, никому она так не дорога, как нам. Преданность идее мерится готовностью на усилия и жертвы».
«Цена должна соответствовать товару», – сказал учитель Кульков.
«Учась ходить на двух, человек ушибался больнее, но страдание не вернуло его назад, в пещеру. Кто отправляется далеко, тот обрекает себя и на лишения. Терпение – посох подвига, который награждает время... По чередованию событий трудно представить вечность, как слепому постигнуть море по солёным брызгам на губах; смертному, слабому мнится, что он живёт на краю времени; боль застилает ему взор в будущее. Но когда мой танкист покуривает свою махорочку перед атакой, он смотрит вперёд и как бы держит её в руках, газетку двадцать первого века, полную великих новостей! В том и заключено бессмертно советского солдата».
«Искать друзей в будущем – удел одиночества», – сказал Кульков.
«Нет!., потому что никто, кроме нас, не смеет глядеть в будущее без боязни. Неодолимые резервы движутся оттуда нам навстречу. Ни с посланиями, ни с жалобами мы не обращаемся к ним. Они и без того до последней кровинки – наши. С непокрытой головой они посетят скелеты наших городов, они раскопают известковые карьеры братских могил, святая и умная печаль отуманит их сердце. Кто свалит их или прельстит соблазном скотского существования, где наука изобретала душегубки, а насилие и грабёж были заповедью древних государств? Поняв всё, они восславят наши горести и грубоватые песни, бедность одежды и суровый обычай времени, увенчанный победой...»
«Ты против войны!» – сказал Кульков.
«Я не собирался быть солдатом, но раз коснулись меня огнём – горе им, кто обнажил меч неправедной и неразумной войны. Нам, которые голыми руками разворотили свою темницу и вырвались на простор Океана, ничто не страшно. Что фашизм! Мы пройдём сквозь него, как сквозь дым последнего дикарского костра. Наше железо будет становиться лишь острей от ударов врага, пока не поймут, насколько оно безопасней в плугах и станках, чем в образе наших танков».
Больше Литовченко не слышал Кулькова. Толчок рванул его с сиденья и заставил открыть глаза. По вётлам вокруг чёрной воды можно было узнать Ставищи. Свет фар доставал до шлагбаума, преградившего путь. Остановка произошла в том же месте, что и утром, шагах в ста от бывшего контрольного пункта. Бешеная дрожь мотора передавалась телу; чужие не стучали поблизости, некого стало спросить, отстали или проскочили вперёд. За смотровым стеклом стоял немецкий верзила, переодетый в красноармейскую шинель. Он почти не отличался от обычного регулировщика, всего их там было трое. Остальные выжидали во тьме, на краю плотины, не сводя автоматов с проезжих. У них был свой план. Никто не произнёс ни слова.
Левый флажком отсигналил приказ стать к обочине. Шофёр повиновался; волнуясь и рискуя сжечь сцепление, он стал делать это на больших оборотах и с пробуксовкой. Вдруг резким броском – скорее хитрости, чем даже радиатора – он спихнул двух в жидкую черноту позади, где, верно, лежала на дне та давешняя, воронежская, с ямочками на щеках. На мгновенье колесо повисло над бездной; в последующее, вывернувшись и выжав газ до конца, он с ходу пустил машину на опущенный шлагбаум... Никто не помнил впоследствии, гаркнул ли он при этом ложись или сама передалась им спасительная догадка. Последовал треск, будто смаху полоснули дубиной по фанере; звонкий холод пополам со стеклом обрушился на спины пассажиров. Их выручила накатанная в этом месте дорога. Когда шофёр разогнулся на сиденье, машина вскачь неслась по краю глубокой балки, и впечатленьице было посильнее, чем самая встреча с передовым немецким патрулём. Полкилометра все молчали, привыкая к жгучему ветру и слушая фанерный дребезг позади.
Они так и не дождались автоматных очередей вдогонку; это служило добрым признаком, что немецкое купанье ещё не закончилось.
– Эх, теперь совсем простудитесь без шапки, – сокрушённо прокричал шофёр, удостоверяясь в сохранности седоков. – Стекло в грязи, ни дьявола не видно. Зато теперь поспособней будет, круговой обзор! – и помахал рукавичкой впереди себя.
– Не дразни счастья, – проворчал капитан, обирая битое стекло с шинели и в предчувствии крупного разговора с начальством. Второй раз оно дураку не улыбается!
– Точно, – согласился тог и плавно остановил машину. – Придётся вас слегка побеспокоить... товарищ гвардии генерал-лейтенант!
Проверив на ощупь, не отвязались ли запасные бачки, он не без видимого удовольствия принялся срывать остатки фанерного короба. Делал он это со словоохотливой присказкой, понятной после встряски, но, может быть, ему и в самом деле правилось, что и для них наконец после долгого перерыва началась война. По скату спускались качающиеся огни отставших «виллисов».
– Торопятся... ничего, проскочат. Теперь ганцы сушиться в село поднялись. Нонешние воды – ой, ядовитые! Прямо скажем, иностранному телу они ни к чему...
Холод ослабел, едва движение прекратилось. Беззвёздная ночь освещалась лишь заревом, которое теперь неотступно следовало за генералом. Если не считать шофёрской возни да привычного гудения какого-то связного шмеля с фонариком, было совсем тихо. Тем слышней доходил до сердца далёкий звук, похожий на ворчанье, с каким зверь ворочает и рвёт безгласное поверженное тело. Литовченко припомнились глаза старухи из Коровичей, девочка с бутылью, чёрная клякса на обочине шоссе, старенькая книжка в руке прокурора. Летящая гоголевская фраза вошла в него, как стрела, и остриё обломилось в памяти, чтобы остаться там навеки: «Знаете ли вы украинскую ночь? О, вы не знаете украинской ночи...»
Грузный, понижающийся лай дважды пронёсся над головой в ту сторону, куда в облегчённом виде и двинулся головной «виллис». Литовченко читал эти дорожные мелочи, как ноты с листа, завершая ознакомление с обстановкой. Германские дивизии выходили к железной дороге; назад, в Лытошин, было бы теперь, пожалуй, и не проехать. Вскоре позёмка побежала по полям; она превратилась в пёструю и крутую, как вчера, изморозь, когда машины вступили в расположение корпуса.
Множественный след гусениц сводил с дороги влево, во мглу горелой сосновой рощи. Деревья стояли в дряблом, вислом снегу, как древние озябшие хвощи. По несмолкающему треску древесины и бормотне моторов можно было заключить, какая уйма железа размещалась там на ночлег.
Наступил поздний по весеннему времени час. Люди ещё не спали.
7
Тридцать седьмая пришла на место затемно: нараставшие события удлинили намеченный маршрут, посдвинув её на крайнее левое крыло армии. Сразу по прибытии экипажам выдали неприкосновенный запас, а ротных командиров вызвали в батальоны. Пока они, на ночь глядя, лазили со штабным начальством по артиллерийскому бурелому на опушке и спускались в окрестные поля, откуда ждали немца, поступило приказание закопать машины. Ещё основательней, этих явных признаков подсказывало старым танкистам особое обострённое чутьё, что утро застанет бригаду в огне. Их невольная озабоченность, происходившая от перерыва в боевой практике, передавалась и новичкам. На марше тридцать седьмая попала под бомбёжку, которую ещё нельзя было считать боевым крещеньем. Прямых попаданий не было, – бригада увеличила дистанцию и скорость. Кроме заклиненной осколком башни да разбитого баяна, привязанного с барахлишком снаружи, повреждений на всю часть не оказалось. Но про минутку, когда в открытом люке мелькнули немецкие штурмовики, причём верилось – все целились в него одного, Литовченко неоднократно рассказывал, впоследствии своим затихшим внучаткам.
Смущенья от этой первой встречи он не испытал, а только боялся, что само тело дрогнет и выдаст товарищам его попятное волненье. Ему помогло одно из собольковских наставлений, какими не первый год тот воспитывал новичков: мысленно, с предельной живостью представить себе данного конкретного врага, как бы раздеть его из фальшивой славы, а затем и крушить в полную силу русской оплеухи. Литовченко так и поступил, и опасенье, что не удастся ему довести задуманное до конца, рассеялось, и он увидел за штурвалом белёсое, помятое злобой и бессонницей лицо лётчика, бескостное и гнусное, точь-в-точь как у сверчка по выходе из личинки где-нибудь на гнилой картошке. И заглянув так в его чёрные, расширенные движением зрачки, он понял, что этот человек умрёт, не достигнув цели... Так и было. Машину слегка шелохнуло, обдало горячим ветром и глиной, и у всех было торжественное ощущение, будто война напутствовала их дружеским шлепком по броне, как рекрута бывалый солдат, принимая в своё кровное братство. Ей немедленно отсалютовали крупнокалиберные зенитные установки. Литовченко впервые видел вблизи, как самолёт врылся в землю, стремясь закопать в неё огромный и шумный огонь... Местность позволила быстро рассредоточить колонну, ранние сумерки помешали вражеской авиации повторить заход.
Когда капонир был готов, лейтенант лично опробовал боевые механизмы; Обрядин светил ему переноской. Всё находилось в исправности, не считая лопнувшего ролика ведущего колеса, но это означало лишь, что экипаж получасом позже отправится на отдых. К особой удаче для тридцать седьмой в лесу обнаружились добротные землянки немецкой работы, построенные в начале войны, когда Германия рассматривала поход в Россию как увеселительную прогулку по славянским заповедникам. Послушав мотор, пока двести третья спускалась на дно земляного стойла, Собольков отметил, что тот работает, как часы, и незачем ковыряться в нём больше.
– Какое число у нас сегодня? – вспомнил он вдруг, не обращаясь ни к кому.
– Двадцать первое кончается, – ответил из потёмок радист и поднёс лампу к его лицу, различив незнакомую потку в голосе лейтенанта. – Не обедали нынче... вот он тебе и показался за неделю, нынешний денёк... а что?
Лейтенант раздумчиво улыбнулся, с такой недоверчивой пристальностью вглядываясь в глубину леса, что радист невольно оглянулся туда же.
– Нет... это хорошо, – неопределённо сказал Собольков и прибавил обычным тоном, что, кроме радиста, который после ужина вернётся сюда с автоматом, все смогут выспаться до рассвета; охрану нёс моторизованный батальон, но лейтенант всегда считал, что предосторожность – старшая сестра отваги.
Сам он ушёл от машины последним, она стояла в земле, в уровень с основанием башни: ходовые чернорабочие части были скрыты брезентом, и снежок, процеженный сквозь ветви, уже округлял впадины на нём. Ничего нельзя было разобрать во тьме, но Собольков видел её всю, двести третью, как в полдень. Сейчас она лишь отдалённо напоминала ту, что два месяца назад уходила в тыл, на поправку. Та была старая; перед тем семь летних месяцев, когда жара и пыль вдвое изнашивают цилиндры, она не выходила из боя. Нельзя было понять из формуляра, сколько пробежал этот железный воин по пути к победе; паспорт танка в его холщовом мешке был одновременно с командиром пробит осколком. Кашель слышался в моторе, вонючий черноватый дым валил из сапуна, стучали выношенные подшипники коленчатого вала. После каждой ездки жирная горячая испарина покрывала стенки выхлопной трубы, потому что сработались и поршневые кольца; едва хватало силы довести стрелку масляного манометра до двух атмосфер. Сдавало танковое сердце, расшатанное приключениями жаркой бранной жизни. В ту пору ничего грозного не оставалось в двести третьей, кроме надписи мелом по башне – «смерть фашизму». На осмотре перед уходом в тыл кто-то выразился в том смысле, что полудохлый этот танк годится если не на переплавку, то лишь под долговременную огневую точку. Экипаж встретил обещание помпотеха выдать новую взамен таким угрюмым молчаньем, что никто не решился разлучить этих людей с их машиной. Двести третья осталась в строю.
Биография танка была написана на его броневой шкуре. Прежде чем приступить к починке, старики завода долго и почтительно читали эту краткую родословную корпуса, где каждая битва оставила свой неистовый и неизгладимый росчерк. И один, сам бывший солдат и отец трёх танкистов, молча сдёрнул шапку с лысой головы при этом. То была высшая награда танку... Так, вмятина на башне была получена под Орлом, а сквозная, от болванки, рана в обе боковые плоскости – тотчас за Валуйками, а пушку почти на локоть обрезали на Днепре, когда противотанковая нуля вырубила её нарезку, но, и культяпая, она ухитрялась действовать. Двести третьей доводилось также возвращаться на буксире у тягача или даже вовсе без ленивца, выкинув лишние траки и закрепив гусеницу через каток... Эти пробоины, зашитые электрокузнецом из ремонтного батальона, выглядели, как ордена и медали на груди ветерана; их было девять. «Пускай добирает до десятка!» – решило начальство.
Такая привязанность экипажа к своему временному жилищу объяснялась не только воинским тщеславием. Броневая кровля, вторично пройденная по швам электросваркой в ПРБ, казалась хозяевам надёжней иной новёхонькой, изготовленной в серийной спешке военного времени. Даже теплилась в них уверенность, хоть и не признались бы в ней, что война уже заприметила их машину и в дальнейшем пощадит её, со всех боков исковырянную танковой смертью. Вдобавок лейтенант обещал лично присмотреть за ремонтом, который, к слову, производили тоже очень злые на немца люди. Новая пушка грозно выглянула из бойницы, свежий мотор мог без устали носить её по становищам врага. Кроме орудия и мотора, они заменили рацию и коробку перемены передач, и Собольков дважды опробовал машину на заводском танкодроме, прежде чем вернулся с нею в часть. Так началась вторая молодость двести третьей.
К бою за родные горы, родившие её металл, за счастье своих создателей двести третья была готова. И если человеческий инструмент, каким добывается независимость поколений, заслуживает такого слова, то была последняя её спокойная ночь перед рывком в бессмертие. Ей уже не довелось показать свои почтенные раны на большом параде по окончании войны; всё же её удел был счастливей, чем у тех, чьи распиленные тела отдали огню на переплавку, как прах героев возвращают в материнское чрево земли. Советскому танкисту некогда было заботиться об отдельном куске даже качественной стали и хотя бы он весил двадцать восемь с половиной тонн. Но, будь время обдумать заранее, как умнее обозначить в веках победу, он сохранил бы это дырявое железо как образчик вещества, из которого творится истинная слава. Он поставил бы эту «тридцатьчетвёрку» на высоком уральском мраморе, чёрную и страшную, как она стала выглядеть через двое суток, с развороченным лобовиком, с листами брони, порванной на бортах и раскинутыми, как крылья, точно и мёртвая она собиралась лететь в одиночку на полчища врага...
Похвала танку означает похвалу его экипажу и в первую очередь его командиру. Войну Собольков начал водителем на двести третьей. Тогда в бой с ним ходили другие; полностью их имена мог теперь перечислить только он один, и как хотелось ему порою попировать с ними когда-нибудь потом за дружеским пол-литром! У него как-то вышутилось не без горечи однажды, что жизнь его выбрала мишенью для своей иронии. И правда, желания его исполнялись, но всегда в несколько исправленном виде. К примеру, он обожал сады, и в любой его сказке, какими он коротал и без того малый досуг танкиста, непременно и под разными предлогами осыпался яблоневый цвет. Судьба же два года водила его мимо чужих и горелых садов; даже выпал такой вечер в прошлом году, когда двести третья на полном газу, стреляя прошла по цветущим плодовым деревьям, и вихрь боя не сдул с неё прилипших кое-где к мазуту лепестков. И когда на торжественных собраниях части он, смелый, с блестящими глазами начинал речь привычным словесным завитком: «мы, танкисты, особый народ, бензинщики... и не зря нам завидует пехотка, хоть и не обожает стоять рядом, когда нас бомбят» – люди верили, будто он затем и родился под солнышком, чтобы век гулять в газолевом чаду. Собольков обучался на агропома, но стать им не смог по причинам семейных обстоятельств...
В каждой сказке у него появлялось юное светловолосое существо всевозможных достоинств и не тронутое даже нескромным взором, а жениться ему довелось на одной пышной огневолосой вдове с целым выводком чужих и рыжих племянников. Семья жила на Алтае, куда он и отсылал целиком свой денежный аттестат. Взамен и изредка приходили треугольные писульки с детскими каракульками; заметили, что разбирать их лейтенанту нравилось наедине и вслух и чтобы, по возможности, листва шумела над головой при этом. Конверты бывали склеены из синей тетрадочной обложки; он прочитывал всё подряд, вплоть до таблицы умножения, напечатанной на обороте... Кроме непреклонной храбрости, этот суровый, в свои тридцать лет, советский воин владел ещё удивительным даром русской сказки; истоки её терялись, верно, в таёжном дымке ещё ермаковского костерка. Повествуя, обычно глядел в огонь походного очага, и у всех создавалось впечатление, что рассказывает он сказку не им, а в розовое ушко кому-то пятому – там, у далёких алтайских предгорий. Этот человек заслуживал уважения товарищей, которое на войне труднее заработать, чем приятельство или даже любовь.
Когда Литовченко пришёл сюда из танковой школы, Обрядин отвёл его после первого ознакомленья в уголок.
– Как зовут тебя, парень?
– Васильем, – отвечал Литовченко.
– Вася, значит? Так вот, милый ты мой Вася, – сказал Обрядин и показал глазами на лейтенанта, который правил бритву на ремешке, – тянись и уважай этого дядьку, парень. Он два раза горел на своей железной квартере... понятно? Про него, погоди, ещё песню составят... и твои детки будут её на Первое мая петь тоненьким голосишечком. Он этих самых ганцев массыю погубил! Из кремня сделан, но имеются в нём розовые прожилочки...
Всегда себе на уме и насмешливый даже в опасную минуту, он произнёс это с редкой для него серьёзностью. Товарищеская оценка соответствовала воинским качествам Соболькова. Обрядин потому и принял своё паденье без обиды на судьбу и начальство, что честному человеку роль бампера на двести третьей должна была представляться повышением в его человеческой должности. Старший в экипаже по возрасту, Обрядин имел немалый опыт для суждения о ближних. Службу кулинарному искусству он начал поварёнком с двенадцати лет; последующие двадцать пять он проплавал как бы в сладостной кухонной дрёме на больших волжских пароходах, с каждым годом совершенствуясь как в добродетелях, так и в пороках, – с незначительным уклоном в последние. На вопросы простодушных, почему у него к твёрдой пище нет такого пристрастия, как к некоторым видам жидкой, Обрядин сокрушённо отвечал, что ею он лечит одно коварное заболевание, под названием малярия, происшедшее от долгого местонахождения у воды; малярия в нём сидела на редкость прочная, и борьбе с нею он беззаветно посвятил всю свою жизнь. Все обрядинские меню носили резко выраженный антималярийный характер, причём иное блюдо способно было одним запахом отопит, на выстрел вредного комара... Бывший повар любил вспоминать былые достижения, и члены экипажа охотно внимали ему, потому что и бахвальство развлекает во фронтовых буднях, если достаточно цветисто и не направлено в ущерб или поношение другу.
– Загибаешь ты, Сергей Тимофеич, – говаривал при этом Алёшка Галышев, неизменно весёлый и добродушный, тот самый, кого сменил Литовченко на посту водителя двести третьей; не затем говаривал, чтобы попридержать размахавшегося артиста, а чтобы подзадорить на дальнейшее. – Это всё красноречие твоё. Кто ж поверит, что у тебя волчатину от куропатки не отличишь!
Обрядин лишь головой покачивал, горько усмехаясь на его преступное неверие.
– Разве ж я виноват, что таким красноречивым зародило!? Ведь я кто?.. Я мастер-художник, и всё у меня крутится. Ты мне налима дай... не теперешнего дай – у зимнего-то, у него тело самое хорошее. Ты мне летнего дай, когда он в норе сидит, млеет... и он у меня будет плавать в собственном масле и смеяться. Я товарищу Семёнову И. П. живых гусей к столу подавал... понятно? Я... – Он залпом перечислял свои изобретения, и если некоторые из них не были художественным преувеличением, значит, целебный волжский воздух помогал пассажирам выносить их без вреда для здоровья. – Ия могу сготовить из любого любое. А спроси меня – почему, я отвечу. Я всегда пою, когда готовлю... и весь пароход слушает меня. – Он обводил глазами затихшую землянку. – Это верно, голос у меня немножко сильный... запою – лампа в каюте гаснет, но пою я хорошо.
– Поёшь ты – ровно яичница скворчит на сковороде, вот как ты поёшь! – позже, через год, прерывал его Андрей Дыбок, новый радист на двести третьей. – Тебе только в печку петь... и то, как в Германию взойдём, для острастки населения. Свои же могут слушать тебя только под хлороформом. Протрезвись, милый русский человек!
Поглаживая небритые щёки, Обрядин подолгу глядел в грязный и натоптанный пол, прежде чем поднять глаза на обидчика.
– Эх, парень... гроб, и тот серебром оклеивают, а тут сердце с тоской перед тобою лежит... Соври, укрась, непонятливый! Вот и красивый ты, а холодный, не погреешься о тебя. И слова твои жёсткие, колючие... из них только настойку от клопов делать!
Разговор таким образом упирался в отвлечённые темы, и тогда, чтобы не плодить разногласий, вмешивался Собольков:
– Ладно, хватит тебе, Обрядин. А ну... скажи зажигалка!
– Ну... зажигалка, – старательно и сначала сосредоточат», чтобы не промахнуться, выговаривал башнёр, и это служило верным признаком, что уже завелась у него очередная приятельница в окрестности, мастерица хмельного зелья.
Как всегда, Собольков пророчил в этом месте, что ещё доведётся Обрядину поразвлечь пехотку своими приключениями, и беседа мирно возвращалась в прежнее русло; какова должна быть плотность электролита в аккумуляторе при морозе, больше или меньше сорока, или – что за вещество такое в нынешних снарядах, от которых свеженькие танки разваливаются в железную щепу.
Обрядин любил песню, но слушать его полагалось в землянке, в ненастный вечерок и желательно в канун большого военного дня; поэтому и невозможно было ему прославиться пением, равно как игрой на трофейном, с перламутровыми пуговицами, полубаяне, разбитом при бомбёжке. Сей незадачливый повар умел много песен, шуточных и сиротских, украинских, татарских, даже башкирских, и особенности часто доставалось от него грузинке Сулико, и все получались у него на один манер, во всех одинаково поскрипывала старинная русская рябинушка. Голоса ему было отпущено достаточно, даже больше положенного по норме, но репертуар свой он выполнял с такой натужной и щемящей хрипотцой, что всякий раз приходилось заново привыкать ко вступлению. То бывало не менее трудно, чем выйти из тёплого дома за околицу и отдаться на милость мокрого осеннего ветра. Зато привыкнув, уже нельзя было оторваться от обрядинской песни, где каждый слышал своё, одному ему желанное.
Когда Сергей Тимофеевич заводил её, полузакрыв глаза, укрепя локоть на колене и зачем-то кончиками пальцев держась за мочку уха, чудилось всем – какой-то иной, прекрасный голос вторит певцу от своей беспокойной силищи, которой нипочём любой всемирный подвиг. Иностранец ни черта не понял бы в этой тайне – откуда оно берётся, влекущее и странное очарование русской песни, потому что не в звуках тут дело и не в словах; к тому же их без зазренья совести всегда перевирал Обрядин. Нет, например, и не было такой песни на свете:
...В низенькой светёлочке огонёк горит,
молоденькая пряха за столом сидит,
а ветер занавесочку тихонько шевелит...
как равно и припева к ней – «лодка да сети, сети да лодка», в рамку которого он неизменно заключал начало и конец. Но неспроста однажды после такого сеанса обронил с затуманенным взором Собольков, что Россию следует любить именно в непогоду, а при ясном-то солнышке она и всякой сволочи мила... Плотный, плечистый, щекастый, Сергей Тимофеевич всегда уставал от песни.
Будучи женат, но по условиям деятельности находясь в разъездах, Обрядин постоянного местожительства не имел, но в любом климатическом поясе мог бы он обрести верное пристанище под старость. Из всех больших и малых населённых пунктов, где случалась хоть трёхдневная стоянка, наперебой приходили к нему тихие и благодарные бабьи посланьица без упрёков и напрасных надежд; зная наперёд их содержание, Обрядин их не хранил и, кажется, даже не читал: сердечные свои дела он считал нестоящими пустяками. Про жену он говорил со сдержанной жалостью, что она ещё подождёт его лет двадцать, а потом умоет проплаканные глазыньки и ещё лет десять подождёт.








