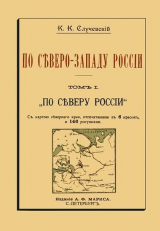
Текст книги "По Северо-Западу России. Том I. По северу России"
Автор книги: Константин Случевский
Жанр:
Путешествия и география
сообщить о нарушении
Текущая страница: 17 (всего у книги 29 страниц)

Соловецкий монастырь. Савватиевский скит.
Центральной усыпальницей главнейших представителей монастырского подвига, полной самых драгоценных воспоминаний, должно считать непосредственно прислоненную к собору Троицко-Зосимо-Савватиевскую церковь и находящуюся под ней церковь преподобного Германа. В богатых серебряных раках почивают преподобные Зосима и Савватий, один подле другого. Из множества людей, приходящих сюда помолиться угодникам, мало кто вспомнит, мало кто знает, каким выдающимся человеком был преподобный Зосима, сделавший из Соловецкого монастыря то, что он есть, проживший в Соловках сорок два года и имевший когда-то в Великом Новгороде встречи и разговоры с могущественной Марфой Борецкой и другими вечевыми людьми. От раки святителя веет отдаленной уже историей нашей с четырехсотлетнего расстояния. Резная деревянная сень оттеняет серебряные рельефные лики обоих подвижников; оба преподобные в поясных писаных изображениях сами созерцают эти металлические лики из двух соседних арок; три массивные древние лампады неугасимо теплятся над ними; в больших подсвечниках пылают десятки постоянно возобновляемых свеч.
В находящейся под этой – нижней церкви св. Германа почивают под спудом святые мощи его. Собственно говоря, св. Герман был одним из первых в деле основания Соловков, так как он направился сюда с преподобным Савватием, он же направил сюда Зосиму. Подле них, тоже под спудом, покоятся мощи преподобного Иринарха; тут же возле почивали до перенесения мощи св. Филиппа. Надгробные надписи, заметные кое-где, гласят о других угодниках, почивающих в безмятежном спокойствии.
Нет сомнения в том, что в длинном ряду памятей соловецких святитель Филипп в его заслугах, страданиях, в его великой и бесстрастной стойкости пред Иоанном Грозным занимает первое место. Не монастырю только, но всей православной России знаком и дорог этот величавый, страдальческий облик. Филипп происходил из знатного боярского рода Колычевых и воспитывался в царском дворце в Москве. По тридцатому году оставил он царский двор и удалился, в 1539 году, в Соловки; десять лет спустя был он игуменом. Во всей истории русского монашества нет другого лица, ему подобного. Он был образцовым хозяином; благодаря ему, дикие острова сделались благоустроенными; пользуясь своим богатством, Филипп рыл канавы, засыпал болота, созидал пастбища, разводил скот, устроил кожевенный завод и ввел выборное управление между монастырскими крестьянами. Если на Муксалме богат и обилен скотный двор, если по острову бродят стадами лапландские олени, если созданы соляные варницы, – всему этому причиной неутомимое трудолюбие Филиппа.
Шел восемнадцатый год игуменства Филиппа, когда царь Иоанн Грозный, обуянный страстями, больной, жестокий, кровожадный, подозрительный, окруженный лютой опричниной, вспомнил о сверстнике своего детства Филиппе и призвал его на московскую митрополию. Слыхал соловецкий настоятель о том, кто такой Иоанн и против какой воли придется ему бороться, но, повинуясь царскому слову, прибыл в Москву и стал на митрополию. Кто не знает этих ярких страниц нашей истории, где противостоят друг другу, лицом к лицу, Иоанн и Филипп? Много ли подобных страниц в любой истории? «Благослови нас по нашему изволению», говорит митрополиту царь; Филипп не дает ему благословения. «Не я просил тебя о сане», – отвечает митрополит, – «постыдись своей багряницы! Не могу повиноваться твоему велению, паче Божьяго». И кому говорит эти слова митрополит? Иоанну, в период злейшего развития его душевной болезни, говорит в церкви пред лицом всех опричников, из которых каждый – злодей.
Царь долгое время щадил смелого иерарха, но, наконец, назначил суд. Обвинение повели из далеких Соловков, потому что в Москве поводов не нашлось; подкупили соловецкого игумена Паисия. Филипп был обвинен в волшебстве, разоблачен из святительства и, приговоренный к вечному заключению, позорно заточен в тверской Отроч-монастырь. Здесь, 23-го декабря 1569 года, был он задушен Малютой Скуратовым. Царь переказнил, в отместку Филиппу, много неповинных людей из рода Колычевых, и нет сомнения в том, что величавый святитель был ему страшнее Курбского, говорившего не всегда правду, и ту только издалека.
В 1591 году, после того как наследник Иоаннов сослал лжесвидетельствовавшего игумена Паисия на Валаам, мощи Филиппа были перевезены в Соловецкий монастырь и опущены в землю. Трогательным пением гимна, на этот случай сочиненного, приветствовали монахи изможденное тело мученика; гимн начинается словами: «Не надо было бы тебе, о святителю Филиппе, оставлять твое отечество!» В 1646 году, повелением царя Алексея Михайловича, мощи вскрыты и перенесены в Соловецкий собор; в 1652 году торжественно перенесены в Москву, а в Соловках оставлены только их части, хранимые в соборном храме, в серебряной раке, вправо от алтаря.
Хотя память митрополита Филиппа и опустевшая усыпальница его имеют для посетителя преобладающее значение, но нельзя не вспомнить и о другом деятеле, почивающем в монастырской ограде во дворе, подле собора. Это – Авраамий Палицын, келарь Троицкой лавры, один из самых выдающихся людей годины лихолетья. Он был членом посольства, отправленного в Смоленск к Сигизмунду; во время движения к Москве Пожарского и Минина, он с Дионисием, архимандритом Троицкой лавры, писал им грамоты и торопил прийти; Авраамий ездил в Ярославль, для уничтожения раздоров и беспорядков в рати Пожарского, шедшей к Москве; он, наконец, был членом посольства, отправленного просить молодого царя Михаила Феодоровича принять царство. Авраамий умер в 1647 году в Соловках, в которых недобровольно прожил семь лет. От Палицына осталось сочинение: «Летопись о многих мятежах», за время обладания столицей поляками, один из любопытнейших источников для исследования смутного времени. Палнцыны происходили от знатного рода новгородских выходцев, прибывших в Москву в XIV веке и носивших имя родоначальника своего, прозванного Палицей. Здесь, в Соловках, патриарх Никон принял иночество и прожил несколько лет; также принял здесь пострижение и бывший царь казанский Эдигер. Одна из надгробных надписей на монастырском дворе гласит, что тут покоится кошевой атаман сечи, Кольнишевский, сосланный сюда «на смирение» в 1776 году.
В одной из башен монастырской стены, называемой Успенской, помещается очень любопытный арсенал или оружейная палата монастыря, с большим количеством деревянных стрел, копий, алебард, бердышей, кольчуг, пищалей и пушек. Посещающий этот арсенал, вспоминает исторические факты, в которых монастырская жизнь принимала военную окраску. Этими бердышами и алебардами вооружались монахи в XV и XVI столетиях против шведов; из этого арсенала взято было оружие во время раскольничьего мятежа в XVII столетии, против царских войск. Когда, в 1854 году, бомбардировали обитель англичане и монастырь вооружался против них, то в арсенале оказалось 20 пушек разного калибра, 381 пика, 648 бердышей, и все это пошло в ход и послужило для вооружения. Главный начальник края поручил тогда одному из офицеров, Бруннеру, осмотреть побережье Белого моря и Мурмана, строить и вооружать батареи, но только местными средствами. Таким образом, при помощи монахов и богомольцев, построено было несколько батарей и в Соловках; для защиты скотного двора на Муксалме, на который зарились англичане, устроено было для действий против десанта нечто вроде конной артиллерии в три орудия, ездовыми которой были богомольцы, прислужники, а командование поручено монаху, бывшему фейерверкеру; командир этот, в монашеской одежде, командовал молодецки. Орудия из-за монастырской стены глядели грозно, но взяты они были с бору да с сосенки. Одна пушка, отлитая при царе Алексее Михайловиче, найдена была в бане, где заменяла каменку для получения пара; в других орудиях была масса свищей и раковин; пришлось просверливать стволы. Вооружению монастыря помогало: отставной коллежский асессор Соколов и отставной гвардии унтер-офицер Крылов. Следы бомбардировки имеются налицо в грудах бомб и ядер, в знаках на стенах и на иконах. Стреляли англичане плохо; лесистые островок заслонял монастырь, и большая часть бомб перелетала через монастырь и ложилась за ним в Святое озеро. В этом озере летние богомольцы считают долгом своим искупаться. В память бомбардировки монастыря, в 1854 году, сооружены были три пирамиды из неприятельских снарядов.
Не лишнее будет упомянуть несколько подробнее о раскольничьем мятеже, имевшем место в Соловках, так как это одна из любопытных страниц истории нашего Севера.
Явное возмущение раскольничествовавших монахов началось при настоятеле Варфоломее и длилось ровно десять лет. Личное недовольство патриархом Никоном, множество братии и прилив ссыльных немало способствовали смутам. Много было тут военных и мирских людей. Уже давно шло пьянство по кельям, о чем игумен Илия и доносил царю; доносил он, что слишком часто меняют игуменов и что много времени проводят без них.

Оружейная палата в Соловецком монастыре.
В ответ на это царская грамота 1647 года возбранила принос по кельям пития. Когда Никон управлял новгородской епархией, он тоже заметил многие беспорядки в Соловках, а именно: что просфоры пекут не из одной пшеничной муки, а с примесью ржаной; что поют в два, три и четыре голоса, вместо того, чтобы петь единогласно; питаются в пост рыбой, допускают жить мирских людей, вводят хмельное и нарушают предание об откровении глав. Об этом писал сюда Никон в 1651 году.
Особенно противились Никону соловецкие ссыльные, и между ними вел главенство князь Львов, бывший главный начальник печатного двора в Москве. В 1655 году вызван был из Соловок в Москву для исправления книг грек Арсений; когда он вернулся, то жил двусмысленно и одобрял мнения раскольников. Против исправления книг был и сам архимандрит Илия. В 1657 году прибыл в Холмогоры с новыми книгами боярский сын; книг этих не приняли в монастыре, и монахи начали писать свои знаменитые челобитные в Москву. Число недовольных росло; таким оказался и Никанор, архимандрит Саввина-Сторожевского монастыря, тоже удалившийся в Соловки. Сам соловецкий архимандрит Варфоломей исключил из символа веры слово «истиннаго», и он же ездил в Москву со своими объяснениями. Тогда послана была от царя в Соловки комиссия, под начальством архимандрита Старо-Ярославского монастыря Сергия. Это был «муж гордый, якоже древний фараон и велеречивый», то есть совсем непригодный к роли умиротворителя. 4-го октября 1666 года прибыл он и, собрав монахов, прочел им царский указ. Раздались крики: «Указу послушны во всем, но повеления о символе веры, сложении перстов, аллилуйя и новоизданных книг не приемлем...» «Горе нам! отнимают у нас сына Божия! Где вы девали сына Божия»? – кричали монахи. Они хотели даже потопить присланных стрельцов, и сам Сергий поторопился отбыть в Москву с келарем Савватием; он взял с собой также князя Львова и других непокорных. По отъезде его, избран был монахами новый келарь Азарий, открытый враг новоисправленных книг; монахи послали царю челобитную, в которой изложили, что за веру чудотворцев готовы смерть принять; многие приняли схиму; «позволь нам, государь», писали они, «в том же предании быть, чтобы нам врозь не разбрестись и твоему богомолью, украйному и порубежному месту, от безлюдства не запустеть».
Настоятель за это время отсутствовал, и мятеж усиливался. Притекали в Соловки, прослышав о нем, разные люди, «даже и грабители из шайки Стеньки Разина». Когда из Москвы отправлен был новый архимандрит Иосиф и с ним прежний Варфоломей, то допущен был в поездку – что было уже совершенно некстати – и заявивший свои раскольничьи воззрения Никанор. Он предпослал своему возвращению в Соловки лживое письмо, последствием которого было то, что Иосифа не приняли, а у Варфоломея разорвали клобук и выдрали волосы.
22-го сентября 1668 года отправлена была царю еще одна, самая знаменитая челобитная. Царь решился тогда прибегнуть к строгости: он отписал на себя все земли монастырские, не велел пропускать запасов и послал в Соловки сотника стрельцов Чадуева. Это была полумера, которая и не помогла: монахи писали: «и повели, государь, прислать на нас свой царский меч, и переселить нас от сего мятежного жития на безмятежное и вечное». В ответ на это царь послал в Соловки стряпчего Волохова с сотней двинских стрельцов, с приказом подчинить монахов оружием и ввести законного настоятеля архимандрита Иосифа. Это распоряжение, как мера запоздалая, тоже не принесло ожидаемой пользы: царское войско встречено было пушками. Главными деятелями в монастыре были: келарь Азарий, архимандрит Никанор и послушник Бородин; первый и последний были вскоре захвачены в плен царскими стрельцами, стоявшими перед запертыми монастырскими воротами. В монастыре в это время, в 1674 году, находилось 200 братий, 300 бельцов, 90 пушек, 500 пудов пороху и хлеба лет на десять. Почти семь лет стояли стрельцы под стенами соловецкими; в 1674 году назначен начальствовать над ними воевода Мещеринов, человек более предприимчивый. Но и со стороны осажденных росла дерзость, в которой не было больше и помину о прежнем послушании царю, изображенном в челобитных. На сходке 28-го декабря решено было не молиться за царя; в сентябре 1675 года монахи не ходили более к священникам, говоря: «и без них проживем»; явились, словно из-под земли выросли, люди, о которых прежде не было слышно: сотники, неведомо кем так названные, Исачка и Сашка, подстрекавшие ко всему; сам Никанор, бывший архимандрит, в ожидании приступа, ходил по стенам и кропил святой водой пушки, нежно величая их: «О, матушки мои, голаночки!»
Приступ был сделан 23-го декабря 1676 года, но отбит. Только 8-го ноября 1677 года перебежчик Феоктист сообщил Мещеринову, что в крепость можно проникнуть из рва Онуфриевой церкви; в ночь на 22-е января Мещеринов сам или лицо, им посланное, действительно с пятидесятые стрельцами пробрались в монастырь, и началась жестокая расправа. Никанор, Сашка и многие другие люто казнены, многие разосланы. Описание расправы оставлено в свидетельстве Семена Денисова, который в своем Выгорецком раскольничьем ските написал «Историю о запоре и взятии Соловецкого монастыря», конечно, с точки зрения раскольнической. Значительная часть монахов бежала на берега олонецкой реки Выга, в так называвшуюся Выгорецию, где быстро росли объемом, значением и богатством раскольничьи монастыри Данилов и Лекса. Так кончился соловецкий раскольничий мятеж, и памятью его служит ныне часовня Предтеченская, где покоятся царские воины, погибшие и умершие во время осады монастыря. Монахи показывают место, сквозь которое проникли стрельцы; оно находится у сушильни, близ Белых ворот южной стороны.

Соловецкий монастырь. Скит Секир-Гора.
Огромное число богомольцев ежегодно посещает монастырь много уже веков. Дней за десять до Троицына дня, в Петербурге, на Калашниковой пристани, можно видеть отправление соловецких паломников. Пестрый народ этот помещается в одну или две соймы и двигается, буксируемый пароходом, вверх по Неве. Путь их рассчитан так, чтобы поспеть к Троицыну дню в Свирский монастырь, ко времени ежегодного перенесения мощей св. Александра Свирского из одного храма в другой. Оттуда Свирью и Онежским озером двигаются они на Повенец, чрез Олонецкий горный кряж, Масельгу, кто пешком, кто верхом, или в телеге, а иногда по пескам на санях, приходят они к Сумскому посаду на Белом море, где их ожидают карбасы или пароходы Соловецкого монастыря. Сто двадцать верст, остающиеся до обители, в сравнении с пройденным путем кажутся им, конечно, недалекими. Как только завидят они в море мелькающую точкой монастырскую святыню, тотчас радостно и торжественно приветствуют ее общим коленопреклонением и молитвой. Эта минута могла бы дать богатейший сюжет кисти живописца-художника.
Когда-то, еще сравнительно недавно, Соловецкая обитель служила местом ссылки; сюда ежегодно командировалась особенная военная команда в составе одного офицера и двадцати рядовых из архангелогородского местного батальона для различных служебных нарядов. Так как цель командирования её для содержания караула при тюрьме утратила всякое значение, за упразднением тюрьмы, то дальнейшее содержание команды на острове признано бесцельным, и она возвращена к своему батальону.
К числу наиболее живописных местностей на Соловецком острове принадлежат окрестности Живоносного источника, Сергиевой пустыни на Муксалме, скит на Секирной горе, Савватиева и Макариевская пустыни. Дороги на острове очень хороши, и быстроходные монастырские лошадки мчатся по ним очень бодро. Лес южной части острова так зелен и красив, травы так густы и сочны, день иногда бывает так тепел и ясен, что решительно не верится близости Ледовитого океана. Но пройдет это короткое лето, и обитель покроется глубокими снегами, и отгородится она от всего остального мира неприступными, навороченными осенним взводнем волн льдинами; станет тогда застывшая поверхность моря «ропачиста», и нет тогда с обителью никакого сообщения. Но прилетает в Благовещение чайка, час воскресения настает, и все три заснувшие царства природы сразу пробуждаются к жизни.
От Соловков до Кеми. Кемь.
Ночевка у Як-Острова. Таможенный пост. Вид на Кемь. Переправа через порог. Два собора. Женский город. Жемчуг и его добыча. Историческое о Кеми. Легенда о 40 рукавицах.
Ловко и быстро снялся с якоря «Забияка», покидая Соловки; сильно вспенивал он винтом своим за кормой тяжелую беломорскую волну. В полнейшей ясности северной полуночи на 18-е июня скрылись, мало-помалу долго и постепенно умалявшиеся, очертания Соловецких островов, и все ближе выяснялись влево от судна острые, темные профили неприветливых островов Кузова. Они виднелись почти на полпути между Соловками и Кемью, совершенно дикие, мрачные, голые, угрюмые, и дали предвкусить своим очертанием то, что предстояло путникам видеть на бесконечном Мурманском берегу. Вслед за ними, будто декорации, шествовали в светлой ночи, выплывая из недр морских, другие очертания, другие острова, тоже голые, скалистые, необитаемые, большие и маленькие, острова с названиями и без названий, и, наконец, около двух часов ночи близ Як-Острова «Забияка» бросил якорь для ночевки. Тут окружал его темневший по светившемуся полуночным светом морю целый архипелаг и виднелись: Дальний Кузов, Немецкий Кузов, ближе и гораздо ниже их Ольховый, Топоруха и еще многие. Море в этих местах никогда неспокойно, оно вечно терзается приливами и отливами, чрезвычайно разнящимися своей вышиной в той или другой губе его. Эти четырехкратные перемены дня и ночи следуют одна за другой по пятам, непосредственно, и вызывают наблюдаемую простым глазом борьбу течений; борьба прилива с отливом, обозначающаяся видимо, называется «сулоем». От места якорной стоянки, Як-Острова, до Кеми оставалось верст тридцать, и судно прошло это расстояние с утра очень быстро. Для съезда с него на берег необходимо было воспользоваться приливом, и для первого же знакомства с характером беломорских портов приходилось сделать девять верст, отделявших путников от Кеми, сначала на паровом катере, а дальше, ближе к городу, в порогах реки Кеми, на местных лодчонках.

Вид города Кеми, от моста на р. Кемь.
День выдался очень теплый и светлый, и глазам было больно смотреть на яркое серебро моря, едва колеблемое ветром. Влево от судна виднелись на берегу: бездействующий казенный лесопильный завод и здание Егостровского таможенного поста; таможенные солдаты в матросских куртках, с зелеными воротниками и такими же околышами фуражек, большей частью люди местные, очень отважные и ловкие моряки. Всех таможенных карбасов в Белом море 43; имеется еще и паровой карбас. В 1860 году простой карбас стоил 135 руб., в 1870 – 250 руб., а в 1885 году обходился он постройкой 400 руб.; сравнение этих цен может служить наглядным доказательством довольно быстрого возрастания стоимости леса, Береговая линия Ягостровского поста, подле которого «Забияка» стоял на якоре, составляет 130 верст; отсюда же наблюдают таможенные и за Соловецкими островами. Контрабанда вообще слабо развита, но не будь здесь этих «зеленых» людей, она бы, несомненно, процветала.
Паровой катер, несмотря на встречный юго-восточный ветерок, или – как его здесь называют – «обедник», отвалив от судна, шел быстро. Прежде всего обозначилась на приближавшемся берегу сосновая роща с часовней Ильи Пророка, отстоящей на три версты от Кеми; роща эта – любимое место прогулок кемлян и единственная представительница зелени на голых скалистых окрестностях. Почти одновременно с ней глянула вдали и сама Кемь, и яснее других обозначились на плоском берегу две церкви – старый, закрытый по ветхости, и новый, неоконченный, соборы; имеется еще небольшая третья церковь – кладбищенская, так что в городе церквей две или три – как считать. По мере приближения катера, все яснее и яснее поднимались из воды мелкие строения; вырастал как будто и берег, замкнутый вдали по кругу довольно высокими холмами; вправо виднелся в море каменистый мысок; невдалеке от него, по зелени прибрежного луга, двигалось, направляясь к городу, довольно большое стадо скота. По некоторым из печатных источников, мурманские и беломорские коровы питаются рыбой, треской, вследствие безусловного недостатка травы. Может быть, такие коровы и существуют где-нибудь дальше, но тут, в Кеми, нет достаточной причины этому своеобразному развитию коровьего вкуса.
Около двух часов времени прошло с тех пор, как путешественники покинули судно и, идя против ветра, но по приливу, оставив влево полуразрушенную батарей, построенную против англичан в 1855 году, въехали в довольно широкий бассейн, образуемый рекой Кемью; на берегу, вправо, лежало, накренившись, несколько судов, прибитых весенним ледоходом; невысокие, голые, скалистые холмы вырисовывались за ними и будто вырастали. Отсюда виднелись очень ясно: новый собор с его тремя шатровыми шапками, мост на колодах через реку Кемь, сильно пострадавшие в последний ледоход, так как третью часть его снесло, небольшие домики, островок с часовенкой, благополучно существующий в самой стремнине порога. Путники могли любоваться на зелень, расстилавшуюся по берегу. До берега казалось так близко, рукой подать, можно было отличить черты каждого лица, чуть ли не рисунки сарафанов и кацавеек сковавших по берегу кемлянок, а между тем самое трудное предстояло: по близости клокотал порог, покрывая своим вечным ревом оклики, доносившиеся с берега. Между островком с часовенкой и городом река Кемь перекидывает свои крупные, сердитые волны через крутой и высокий гребень скал и направляет их дугой, образуя сильную круговую стремнину. Паровой катер мог двигаться только до этого места, а тут предстояла пересадка на маленькие лодочки, легкие, быстрые, доски которых связаны сосновыми корнями или тростником. Порог ревел невообразимо, заглушая людские голоса, когда у самого края его к катеру подъехало множество быстроходных лодочек с гребцами женского пола. С лентами на лбах, в золототканых повойниках, с цветными платками на шее и груди, быстро и ловко подгребли кемлянки к катеру; нельзя было терять секунды, чтобы не быть снесенными стремниной. Удивительно ловко принялись кемлянки за работу: раз, два, три, – и утлая лодочка, подчиняясь могучим ударам весел наших плечистых северянок, скользнула по направлению к берегу по безумно прыгавшим белым волнам порога. Минут через пять путешественники были уже на берегу.
В Кеми путешественник впервые встречается с характерным типом кемлянок. Все мужское население города, способное работать, отправляется в марте или апреле на Мурман и возвращается не ранее сентября или октября. В это время, в Кеми все женское население, матери, жены и дочери, остаются на местах, что нисколько не мешает им отваживаться пускаться в открытое море, когда и на чем угодно, и прибрежное дитя еще в люльке готовится быть моряком, не знающим страха и вскормленным неприветливым морем, так как матери-кормилицы берут с собой детей в лодки и укладывают спать на носу или в корме. Смелы кемлянки до безумия, и нередко тонут они даже в городском пороге; но эти безвременные жертвы не влияют ни на общий строй жизни, ни на личные характеры. Тонуть – так тонуть, кричать – так кричать, и кричат же кемлянки невообразимо, потому что говорить обыкновенным голосом в Кеми нельзя, так как человеческая речь заглушается неумолкаемым ревом порога.

Ловец жемчужин.

Кемлянка.
Собор в Кеми как-то очень долго строился, на деньги (кажется, 60.000 рублей), пожертвованные частным лицом. Объясняли это тем, будто и в самой постройке не было необходимости, так как старый собор вовсе не ветх; говорили тоже, что большинство населения Кеми, и в особенности заправилы, – раскольники; что поддерживать собора они не хотели. Верно то, что старый собор вовсе не так ветх, как о нем толковали; хотя он строен 185 лет тому назад, но он еще прочен и при некоторой поддержке мог бы служить еще очень долго; в нем трехъярусный иконостас и весьма древние иконы, несомненно, более древние, чем сам собор; иконы эти, быть может, даже новгородские, из каких-нибудь прежних исчезнувших церквей; имеются два придела, в каждом по иконостасу резному, деревянному,, с очень характерными царскими вратами: краска с них лупится, позолота потерта.
Новый, недостроенный собор не может выдержать сравнения со старым: это – заурядная небольшая церковь, скорее комната, чем церковь, имеющая сени, отделенные перегородкой, и украшенная очень немногими иконами; в старом соборе их много, и если не озаботиться о перенесении их или починке крыши, то предстоит неминуемое и скорое разрушение, так как дождевые потоки уже разрисовали сиротеющие стены храма своими сталактитными изображениями. От стен веет сыростью, несмотря на широкий доступ сквозному ветру в храме.
Поморы в общем живут безбедно. У некоторых замечаются даже предметы роскоши; у одного из богатых хозяев – поморов имеется семь шняк, три шхуны и две промысловые яхточки; дом убран чисто и красиво; вообще поморские дома могут похвастать обстановкой: занавеси, зеркала и мягкая мебель – не редкость у хозяев промыслов. Живут поморы обыкновенно в нижнем этаже, по праздникам переходят в верхний и тут принимают гостей; одним из существенных украшений является гладко вычищенный самовар; он ставится на почетном месте. Наряжаться любят жены и дочери не только хозяев, но и простых работников – «покручников», так что если верить рассказам, то почти все, что остается свободным от заработков, расходуется на одеяние. Яркость цветов действительно поразительна; как и во многих местах Севера, местный жемчуг, вылавливаемый в реке Поньке, в пятидесяти верстах отсюда, составляет одно из любимых украшений; шелковой и золотой ткани тоже очень много. Здесь, как и везде, любят «песни играть», и во всякое время на берегу, под рокотанье порога, с разных сторон слышатся песни.
Жемчужница, Unio margaritiferus, по словам профессора Гримма, очень распространена в прозрачных, светлых водах речек нашего Северного края, и подтверждение этому имеется действительно в богатых нарядах олонецких и архангельских женщин; особенно славятся жемчужницами речки Сюзьма, Сума и Повенчанка; добыча же жемчуга наиболее развита в Коле. Ловят жемчужницу или «ракушницей», – деревянной рамой, снабженной ножом, помощью которой сцарапывают ракушку с каменистого дна, или просто руками, обходя известные места и пользуясь светом полуденного солнца. У промышленников имеется даже нечто вроде особого одеяния с принадлежностями лова; надо иметь много опытности, чтобы по наружному виду раковины судить о том, есть ли в ней жемчуг, и не вскрывать понапрасну; попадаются жемчужины до 100 рублей ценой, но редко; сбыт жемчуга обеспечен всегда.
Жителей в Кеми около 1.000 человек. Как и значительная часть побережья Белого моря, Кемь в свое время служила вотчиной Марфы Борецкой, и в 1450 году отдана ею Соловецкому монастырю, о чем и свидетельствует хранящаяся в монастыре «вкладная крепость» с вислыми свинцовыми печатями. На этих древних документах зачастую не обозначалось ни числа, ни года; не более точны были и межевые знаки; определялось, например, что уступаются те «два лука (или две обжи, каждая длиннику 126, а поперечнику 32 сажени) земли, где Пареенка да Першица живут». Следовательно, эти сгинувшие Пареенки да Першицы – тоже исторические данные. В 1597 году вторглись сюда «коянские немцы», то есть финляндцы из города Кояна, прячем были побиты соловецкий воевода Озеров и бывшие с ним стрельцы. Новое нападение последовало год спустя, но воевода Аничков отбился; в 1657 году Соловецкий монастырь, по-видимому, сильно интересовавшийся Кемью, поставил здесь острог и снабдил его пушками, пищалями и припасами. Сохранилось сведение, что острог этот напором льда снесен в 1763 году. С 1785 года Кемь – уездный город, и открывал его бывший в то время олонецким губернатором Державин, едва не потонувший при этом случае.
Хотя Кемь считается одним из лучших уездных городов Архангельской губернии, тем не менее летом нет в него въезда в экипаже. Михайлов, пробывший здесь целое лето, утверждает, что он видел одну только лошадь, занятую развозом водки на санях. Он был счастливее путешественников, бывших здесь в 1885 году: они не видели ни одной лошади. По его словам, гористая местность Кемского уезда, дальше, вглубь страны, выработала даже особый тип архангельских горцев, а близость моря, опасного моря, воспитала замечательных моряков. От Кеми до Онеги и по всему Кандалакшскому заливу на протяжении 500 верст нет вовсе сухопутных дорог, и все сообщение происходить на карбасах, для чего приблизительно на 40 верстах расстояния устраиваются почтовые пункты; гребут опять-таки только женщины, которые могут сделать в сутки 120 верст, работая в две смены. По окраинам города имеются кое-где огороды, где растут: морковь, редька, репа и брюква; по-видимому картофель – корнеплод слишком нежный для этих широт; капусту тоже привозят, и цена ей около пяти рублей за сотню кочней. Но и Кемь – некоторым образом юг относительно недалекого Мурмана, потому что в одном из становищ морского побережья Ура, морковь уже не вызревает, и люди ограничиваются только тремя остальными овощами. Говорят, впрочем, что в этой далекой Уре в 1873 году не без успеха пытались сеять ячмень.
Легко, конечно, относиться саркастически к этой скудости и угрюмости страны двухмесячной ночи; наезжающим легко судить о том, что измаянный работой, часто становящийся лицом к лицу со смертью в океане, со смертью в становище в образе цинги или скорбута, помор – лишнее выпьет. Но что за сила воли таится в этих людях; каких только подвигов нельзя ожидать от них! В 1850 году в «Архангельских Губернских Ведомостях» было напечатано, что кемский мещанин Михаил Никитин вдвоем с женой ходил на шняке на Новую Землю. В тридцатых годах умер тот Старостин, который проводил зимы на Шпицбергене в течение целых сорока лет. Это ли не люди, это ли не характеры, это ли не моряки?








