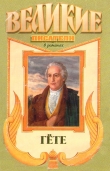Текст книги "Гёте. Жизнь и творчество. Т. I. Половина жизни"
Автор книги: Карл Отто Конради
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 45 страниц)
Истинный пульс жизни: концентрация и экспансия, воля к самоутверждению и открытость в отношении к целому – вместе они и есть закон жизни; и, таким образом, это «вменяет нам в долг возвышаться над собою и, стремясь воплотить великие замыслы господни, то заставляет нас уходить в свою сущность, то – через равномерные промежутки времени, – напротив, отрекаться от своей обособленности» (3, 298).
Эту философски–спекулятивную «личную» религию, которая сложилась у Гёте в годы его болезни во Франкфурте и в которой проявилось его отрицательное отношение к герметическим взглядам на Бога, мир и величайшие жизненные силы, Гёте – этот ищущий – скорее тогда скрывал, чем открыто исповедовал. В ней было слишком много личного, она слишком явно черпалась из источников, не принадлежащих к признанным руководствам по вопросам религии или науки, чтобы юный ученик решился всякому открыть свои знания и веру. И главное, эта «собственная религия» была первым результатом еще неуверенных разведок в новых областях, различного рода попыток, включавших даже алхимические опыты на собственной печурке. И в страсбургский период химия оставалась его тайной страстью, как он писал фрейлейн фон Клеттенберг, в то время как «общение с благочестивыми людьми» «не очень продвигается» (26 августа 1770 г.). Импульсы, исходившие от доктора Метца и герметических сочинений, продолжали действовать; но уверен–113
ным в познании бога, природы и человека Гёте себя тогда еще не чувствовал. Как и прежде, еще робки неопределенные замечания в письме к Лимпрехту на страстную пятницу 1770 года: «Каков я был прежде, таков я и ныне, только что с господом богом я в лучших отношениях и с его дражайшим сыном Иисусом Христом. Из этого следует, что я немножко умнее стал и понял, что это значит: страх господень – начало мудрости. Конечно, мы поем осанну тому, кто грядет…» (13 апреля 1770 г.).
То, что Гёте получил от герметизма, заслуживает внимания; но отнюдь не все, о чем юный студент размышлял, говорил и что поэтически выражал, может быть сведено к нему, хотя трудно не поддаться искушению и не искать повсюду герметических идей. Поскольку герметизм всегда имеет дело с миром в целом, повсюду, где речь идет о важных явлениях и процессах, всплывают его термины, понятия, образы. Их значение, однако, часто так широко, что не обязательно искать в них герметического содержания. Можно понятие «радость» в герметической модели, сопоставляющей различные области жизни, трактовать как выражение экспансии, распространения. Но в XVIII веке было широко распространено и выражено во многих стихотворениях и другое понимание радости, не имеющее в себе герметического начала. Когда выздоровевший Гёте пишет из Страсбурга: «Небесный врач вновь усилил огонь жизни в моем теле, и вновь обрел я мужество и радость», то здесь перед нами, конечно, герметическое понятие «огонь жизни», но из–за этого не следует каждое поэтическое выражение со словом «огонь» или его производными приписывать герметическому духу и толковать их только на этот лад.
Гёте упорно настаивал на личном характере своей ранней философской религии. Это объясняется также из направленности его философски–религиозного познания на охват целого. Если макрокосм и микрокосм, большой мир и малый мир, целое и единичное, бог, природа и человек объяснены и повсюду присутствует божественная жизнь и божественный дух, то тогда субъект и его личные взгляды оказываются причастными этому достоинству и получают свое оправдание. И не доказывают ли самые разные результаты размышлений мудрых людей, если они и оценены справедливо лишь в «Истории еретиков», что не может быть только одной истинной религии? В «Письме пастора в *** к новому пастору в ***" Гёте писал недвусмысленно в
114
1773 году: «Если задуматься, то у каждого своя религия…» Если бы мы «всем сердцем почувствовали, что же это означает: религия, и дали бы каждому почувствовать, как он только может, и с братской любовью пошли бы ко всем сектам и партиям, то мы бы порадовались тому, что божественные семена на множество ладов приносят свои плоды. И тогда бы мы воскликнули: Слава господу, что Царство божие можно обрести и там, где я его и не тщился искать!» Письмо это показывает, насколько близок писатель к просветительским идеям веротерпимости, что и подтверждается «Поэзией и правдой»: главной темой различных сочинений был «тогдашний лозунг – он назывался терпимостью и был в ходу среди лучших людей того времени». Идея терпимости эпохи Просвещения и идея причастности субъекта божественному началу могли сочетаться, и в ряде случаев трудно определить в этом сочетании долю каждой.
В начале 1770 года Гёте записал в свою тетрадь с выписками и конспектами прочитанного и собственными заметками латинский текст, происхождение которого до настоящего времени не ясно: возможно, этот текст принадлежит ему самому. Он кажется неким резюме принципиальных для него положений: природу нельзя понять в отрыве от бога, их соотношение аналогично соотношению души и тела; душу можно понять в связи с телом, бога – познав природу; бог един и всеобъемлющ; все восходит к божественной сущности. Подобные взгляды вполне согласуются с Библией, но и философия гарантирует истину, согласно которой все восходит к божественному источнику. Следующее затем стремление во что бы то ни стало размежеваться со «спинозизмом» едва ли по существу оправдано и является лишь отголоском распространенного тогда осуждения спинозизма как атеизма.
«Говорить о боге и о природе вещей отдельно друг от друга так же трудно и опасно, как мыслить отдельно о теле и отдельно о душе; душа познается лишь через тело, бог – через созерцание природы. И по этой причине мне представляется заблуждением обвинять в абсурдности тех, кто путем философских умозаключений соединяют бога с миром. Все, что существует, с необходимостью соотносится с сущностью бога, ибо бог – это единственно сущее и охватывает все. Хотя «Sacer Codex» (Библия) и не противоречит нашим взглядам, мы знаем, что каждый по собственному разумению толкует ее слова, и относимся к этому со спокойствием.
115
Вся античность была того же мнения, и я в высшей степени солидарен с ней. Доказательством служит мне, что со взглядами замечательных людей, с истинным разумом учение об эманации находится в таком далеко идущем согласии. Разумеется, я не желаю примыкать ни к одной секте, и мне весьма прискорбно, что спинозизм – тем более что его омерзительные заблуждения проистекают из того же самого источника – стал совсем не схожим братом этого чистого учения».
Месяцы во Франкфурте – с сентября 1768 года по март 1770–го – пауза; попытка осмотреться; оценка различных теорий, обещавших надежные ответы на философские вопросы о боге, природе, человеке и собственном месте; надежда на путь, «который обязательно выведет из лабиринта», и снова сомнения: «Беспокойство! Беспокойство! Слабость в вере» (17 января 1769 г.). Встреча с пиетистами из окружения Сузанны фон Клеттенберг познакомила его с жизнью, руководимой внутренней верой, что на него, вероятно, произвело впечатление, если судить по «Признаниям прекрасной души» в «Вильгельме Мейстере»; и его интерес дошел до того, что 21—22 октября он даже принял участие в собрании братской общины в Мариенборне в Веттерау. Но Гёте не вернулся к твердым христианским верованиям. Важным было, однако, то, что он близко познакомился с языком, обладавшим начиная со Шпенера и Цинцендорфа таким запасов слов, который, будучи достаточно гибок, мог служить постоянным самонаблюдениям и анализу душевных движений. Теперь «моя душа спокойна, не болит, не радуется, не вспоминает», – признавался он Лангеру 8 сентября 1768 года, описывая тем самым точно такое душевное состояние, к какому стремилось пиетистское благочестие. В письме от 17 января 1769 года снова возникает важнейшее слово: «спокойствие» – «Моя душа более спокойна, чем Ваша…»
Каковы бы ни были все эти взаимно перекрещивающиеся импульсы, требования и предположения, связанные с пиетизмом и герметизмом, они вели к обогащению жизневосприятия, к знакомству со взглядами, претендующими на универсальность (в чем и заключалась их притягательность), и к выработке собственных представлений, которые давали опору исканиям, не принося, разумеется, полного успокоения. «Умножая знания, умножаешь беспокойство» – эта старая мудрость оправдывается и в данном случае. В этот кризисный период дали себя знать и религиозные потребности,
116
которые могли бы быть удовлетворены лишь тогда, когда ищущий был бы преисполнен решимости. Односторонность его не устраивала, самоудовлетворенность казалась подозрительной. Это–то и оттолкнуло его в Страсбурге от пиетистов. «Сплошь люди среднего ума, у которых пробудились лишь первые религиозные чувства, появилась первая разумная мысль, и они думают – это все, оттого что ничего не знают» (к С. фон Клеттенберг, 26 августа 1770 г.).
Религиозно–философские размышления смогли помочь стабилизации собственной жизни. Если в человеке бьет «необходимый пульс жизни» и ему дано в системе божественного миропорядка «через равномерные промежутки времени» «уходить в свою сущность» и «отрекаться от своей обособленности», то все дело заключается в том, чтобы подобная личность могла полностью выявить себя, разжигая снова и снова жизненный огонь, заключенный во всем живом. Если нельзя себе представить бога вне природы и природу вне бога, природа, следовательно, нечто иное, чем привлекаемая по мере необходимости декорация к поэтической игре в духе рококо, и нуждается в совсем другом языковом выражении. То, что стало возможным для Гёте в Страсбурге и позднее, находится в тесной связи с вышеприведенным.
Запись, находящаяся в «Эфемеридах» перед цитированной выше и начинающаяся словами «говорить о боге и о природе…», читается сегодня как раннее введение к «учению о цвете». Она обращает на себя внимание своим спокойным тоном и точностью наблюдений и описаний:
«В середине января случилось следующее явление. На том месте у горизонта, где обычно летом заходит солнце, было необычно светло, голубовато–желтое сияние, как в самую ясную летнюю ночь на месте, где закатилось солнце, и свет этот захватил, поднимаясь, четвертую часть видимого неба, над ним появились рубиново–красные полосы, которые, хотя и несколько неравномерно, устремлялись к желтому сиянию. Эти полосы все время менялись и достигли наконец зенита. Видно было, как сквозь них сияли звезды. С обеих сторон, с запада и с севера, это было охвачено темными облаками, некоторые из коих парили на фоне желтого сияния. Небо было кругом окаймлено. Красный цвет был настолько силен, что он окрашивал дома и снег и длился он почти что целый час, с шести и до семи. Вскоре небо затянуло, и пошел сильный снег».
В эти месяцы во Франкфурте больной, а затем вы–117
здоравливающий Гёте, конечно, не только общался с пиетистами, изучал герметические сочинения и ставил алхимические опыты. (Сейчас уже никто не может точно сказать, какие книги он действительно прочел и насколько основательно.) В конечном счете он ощущал себя поэтом и художником, и начатое в Лейпциге он продолжал и сейчас: рисование и гравирование. В октябре 1769 года вышли уже упомянутые «Новые песни» (год обозначен: 1770), положенные на музыку Бернгардом Теодором Брейткопфом, – первая книга Гёте, правда, без упоминания его имени. Хотя некоторые стихотворения и принадлежат к франкфуртскому периоду, в целом они выдержаны в его «лейпцигском стиле».
Интересы Гёте не были ограничены. В письме к лейпцигскому книготорговцу Рейху от 22 февраля 1770 года он упоминает учение Адама Эзера о том, что простота и спокойствие составляют идеал прекрасного, и сразу же добавляет: «После него и Шекспира единственный, кого я могу признать своим истинным учителем, – это Виланд…» Несколько позднее, 11 мая 1770 года, сообщив в письме к Эрнсту Теодору Лангеру, что его интерес к герметизму нисколько не ослабел, он патетически восклицает: «О, это длинный ряд от скрижалей Гермеса до «Музарион» Виланда». Дистанция действительно большая, от «Tabula smaragdiana», приписываемой Гермесу Трисмегисту, до стихотворной повести «Музарион, или Философия граций», вызвавшей восторг у лейпцигского студента в 1768 году, когда Эзер показал ему наборные листы. Восхитительной гречанке Музарион удается в конце концов излечить своего друга Фания от безумия аскетического образа жизни и привести к спокойным земным радостям. Разум и чувственность соединяются в жизнеутверждающем согласии, а высокомерие внешне весьма достойных философских убеждений обнаруживает свою действительную суть: враждебную жизни и человеку односторонность, «мишурный блеск ложной добродетели и громких слов».
В октябре 1769 года Гёте посетил Античный зал в Мангейме, пользовавшийся тогда известностью: больше нигде в Германии нельзя было увидеть такое множество гипсовых слепков с античных скульптур. В письме к Лангеру от 30 ноября, написанном по–французски, Гёте рассказывает о своих впечатлениях. Позднее в «Поэзии и правде» он соединил это первое посещение выставки в Мангейме со вторым – на обратном пути из
118
Страсбурга осенью 1771 года. Наибольший интерес вызвала у Гёте группа Лаокоона с сыновьями.
Винкельман в работе «Мысли о подражании греческим произведениям в живописи и скульптуре» (1755) именно на этой скульптурной группе стремился показать «благородную простоту и спокойное величие» как «общий преимущественный признак выдающихся произведений греческой пластики», не сводя всего, однако, к этой формуле, ставшей расхожей. «Подобно тому как глубины моря всегда остаются спокойными, как бы ни бушевали волны на поверхности, выражение фигур у греков свидетельствует при всех страстях о великой и сдержанной душе», – звучит следующая фраза. Идеал Винкельмана, таким образом, полон внутреннего напряжения и не укладывается целиком в слова о «простоте» и «спокойном величии». Под спокойной поверхностью могут скрываться страсти, или полное страсти выражение позволяет угадать «великую и сдержанную душу». Через десятилетие после Винкельмана Лессинг попытался на примере Лаокоона определить различие между скульптурой и поэзией. Если бы изваянный в мраморе Лаокоон закричал бы, то он кричал бы вечно. В поэзии же крик, поскольку поэзия связана с течением времени, является лишь преходящим моментом, и поэтому в ней кричащий Лаокоон допустим. Гердер вступил в полемику с этой точкой зрения в своих «Критических рощах» (1769). Гёте со своей стороны писал в «Поэзии и правде»: «Пресловутый вопрос, почему он не кричит, я решил для себя следующим образом: он и не может кричать. Действия и движения всех трех фигур уяснились мне из самой концепции группы. Напряженно необычная и в то же время высокоправдивая поза центральной фигуры обусловлена двумя причинами: Лаокоон тщится сбросить с себя змей, но в то же самое мгновение его тело прянуло назад от нестерпимой боли укуса. Чтобы смягчить эту боль, он невольно втягивает низ живота, и крик становится невозможным» (3, 423).
В статье «Лаокоон» (1798) Гёте вернулся к этому вопросу. Он относит к посещению мангеймского Античного зала «созерцание великих творений, сужденное мне в юности и оказавшее на меня влияние в течение всей моей жизни», хотя «на первых порах почти никаких последствий» оно для него не имело (3, 423).
119
«Совиновники»
Поэтическое творчество Гёте не прерывалось во франкфуртский период, его занимал также критический разбор ранних работ. Согласно «Поэзии и правде», он устроил вторичное аутодафе своим работам, и уцелели только его работы, переписанные Беришем: «Капризы влюбленного» и «Совиновники» (3, 295). Что касается «Совиновников», то Гёте ошибался, считая, что они написаны в Лейпциге. Может быть, там его заинтересовала сама тема, материал, но из писем с очевидностью следует, что разные редакции этой пьесы были им написаны между ноябрем 1768 и серединой февраля 1769 года. Первая редакция состоит из одного–единственного акта, действие быстро переходит от явления к явлению (их было всего 15), представляя зрителю действующих лиц, их сомнительные поступки в неожиданных ситуациях. В пьесе отсутствует экспозиция, введение в некую драматическую ситуацию. Зеллер, одетый арлекином, что должно служить указанием на фарсовый характер действия, представляется публике как человек, избравший себе девизом слова:
Нет, храбрость иногда бывает ни к чему,
Полезней доверять сноровке и уму,
(Перевод И. Грицковой – 5, 25)
и затем быстро переходит к делу: вскрывает шкатулку и крадет деньги, принадлежащие Альцесту, который живет в комнате гостиницы, куда проник Зеллер. Но он должен спрятаться в алькове, потому что хозяин гостиницы, его тесть, приходит в ту же комнату в поисках письма, в котором могут быть новости: сплетник, жадный до всяких новостей, он постоянно за ними охотится. Зеллер, прячущийся в алькове, сопровождает это своими комментариями. Но и у хозяина нет в запасе времени. Появляется Софи, его дочь и жена Зеллера: у нее назначено здесь свидание с Альцестом, ее прежним любовником. Зеллер должен слушать, как она его ругает и печалится о любви Альцеста:
О сердце робкое! Ну в чем ты виновата?
Кому же поклялась ты в верности когда–то?
Ничтожеству, лгуну, пройдохе, наглецу…
(Перевод И. Грицковой – 5, 30)
120
Она находит свечку, брошенную отцом, спасшимся бегством. И вот уже четвертое явление – появляется пришедший на свидание Альцест; он разочарован: Софи не уступает ему, как он надеялся.
Да я должна решиться
Уйти отсюда прочь, чтоб друга не лишиться… —
(Перевод И. Грицковой – 1, 35)
говорит она ему. Следует краткий монолог Зеллера, вынужденного признать себя рогоносцем и решающего потопить свои горести в вине, а затем более длинный монолог Альцеста, который обнаруживает кражу, – этим завершается шестое явление в комнате Альцеста. Завязка есть – теперь сцены 7—15 в комнате хозяина должны принести развязку. Развязка затягивается, каждый старается утаить, почему он был в комнате Альцеста. Хозяин дома обвиняет дочь в краже денег; Альцест ошеломлен подобным открытием; Софи со своей стороны поражена тем, что он может такое подумать; и Зеллер находится в тяжелом положении:
Ох, страшно! Ох, боюсь! Дознались! Я пропал!
Так даже доктор Фауст, поди, не трепетал
И Ричард Третий! Ой! Вот он, помост проклятый.
Меж двух столбов висит, качаясь, муж рогатый.
(Перевод И. Грицковой – 5, 53)
Впервые здесь Гёте упоминает доктора Фауста. В конце все разъясняется, и все вынуждены признать, что каждый совершил нечто более или менее предосудительное.
Гёте, вероятно, очень скоро увидел, что эта одноактная пьеса нуждается в экспозиции, в которой разъяснялись бы характеры персонажей и их отношения друг с другом. Так, еще в 1768 году появилась вторая редакция в двух актах, в которой второй акт почти целиком совпадает с одноактной пьесой, а первый дает мотивировку завязке. Зеллер оказывается человеком, наделавшим карточных долгов, он не хочет и не умеет экономить в домашнем хозяйстве; Софи же получает в четвертом явлении возможность представить себя самое в монологе: она с грустью думает о прежних годах, когда она, желая выйти замуж, вынуждена была выбрать Зеллера.
В своей автобиографии Гёте предпослал «Совиновникам» несколько важных замечаний. Он преждевре–121
менно заглянул «в те петляющие подземные ходы, которыми подрыто бюргерское общество. Религия, закон, сословные и имущественные обстоятельства, обычаи и привычки – все это царит лишь на поверхности городской жизни» (3, 241). Законен вопрос: допускает ли комедийная игра этой пьесы такую трактовку? Гёте ранее называл «Совиновников» и фарсом и комедией, не разграничивая строго этих понятий (в письме к Фридерике Эзер от 12 ноября 1769 г.); можно было бы конкретно показать, что пьеса эта весьма далека от позднейших указаний автора и вполне соответствует требованиям жанра «фарс»: перед зрителем, стремительно сменяя друг друга, проходят сцены обманов и интриг, и зритель смеется веселым смехом, не отягощенным никакими моральными соображениями. Пусть даже это сомнительные поступки и сомнительное поведение – в фарсе они не оцениваются, не критикуются, главное здесь – смех, и все дело в том, чтобы вновь и вновь возбуждать его. Так «Совиновники» могут читаться и смотреться, и юный автор, конечно же, хотел поупражняться в технике комического. Лишним доказательством этого служат отдельные стихи и обороты, заимствованные у Мольера и Шекспира. Сцены построены по–комедийному точно, и язык удивительно легко укладывается в строгие александрийские стихи. Но пьеса эта не сводится все же к фарсу. Какой скептицизм в основе всего: это не только безобидные случайности, не просто комизм положений, не только вызывающие смех остроты – не этим одним живет эта комедия. Стремление к деньгам, жажда новостей, наполовину желанный, наполовину нежеланный брак, взаимный обман и взаимные обвинения – разве это, если отвлечься от обычных комедийных ситуаций, не те отношения, которые характеризуют «бюргерское общество» и одновременно дискредитируют его? Конфликты, которые таятся в отношениях Софи– Альцест—Зеллер, настолько взрывчаты, что могли бы легко взорвать форму фарса или комедии. Необходимость подчиниться общественным правилам заставила Софи вступить в брак с Зеллером; счастье любви, однажды испытанное с Альцестом, осталось лишь воспоминанием, омраченным вынужденным отказом от него. Альцест же представляется человеком, который может позволить вести себя свободно и который никогда не помышлял соединить свою судьбу надолго с дочерью хозяина гостиницы.
Таким образом, старый Гёте не был совсем не прав,
122
когда он задним числом указывал в «Поэзии и правде», какое понимание общественных пороков лежало в основе этой комедии, сочиненной им вскоре после возвращения из Лейпцига. Зритель, для которого не все сводится к смеху, замечает это и, получая удовольствие от пьесы, обнаруживает признаки смущения. Карл Фридрих Цельтер, близкий друг последних десятилетий, сообщал 27 ноября 1824 года в Веймар о берлинской постановке «Совиновников»: «Публика из предместий» отличалась от первых рядов дерзостью аплодисментов.» Гёте отвечал ему 3 декабря 1824 года: «Впечатление, произведенное «Совиновниками», правильное. Так называемая образованная публика хочет видеть на сцене себя… народ же доволен, что шуты на подмостках устраивают для него потеху, в которой он не обязан участвовать».
123