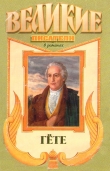Текст книги "Гёте. Жизнь и творчество. Т. I. Половина жизни"
Автор книги: Карл Отто Конради
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 45 страниц)
Подобные рассуждения, которые юный поэт выслушивал в комнате больного, могли и даже должны были
137
заставить его критически задуматься над тем, что он создавал до сих пор. Разве все сочиненное в Лейпциге, за небольшим исключением, не было рождено «искусственностью» и далеко от «матери–природы»? Разве его стихи не были всего лишь «проговорены», а не «выражены»? Разве этот «добродушный насмешник» с его богатством неупорядоченных мыслей не требовал прямо от него искать собственного выражения, не бояться самовыражения, не подражать чувствам, а выражать их? Перед ним был человек, призывавший к проявлению творческих сил, сам решительным образом порвавший с представлениями об искусстве, все еще ориентированными на внешнее соответствие «правилам», душевную сдержанность, рациональную правильность и тем самым обнаруживающими свою связь с придворно–аристократическими кругами. Это не значило, что следовало предаться буйной беспорядочности, совсем нет, так не считал ни Гердер, ни другие настаивавшие на самостоятельности и сознательной свободе выражения. Неприемлемо было только внешнее подражание, требовалось черпать из внутренних творческих сил. Это не имело ничего общего с безрассудным прославлением иррационального и безудержной фантазии. Так, Гердер смеялся над подобными отклонениями, над «бессмыслицей» «великолепно сумбурного языка, повествующего о почти божественном, о полноте окрыленной души, о высших сферах и т.д.».
Гердер, очевидно, питал надежду, что в современной поэзии проявится нечто от силы и исконности поэзии ранней поры. Но с этой точки зрения он со своими теориями о возрастных этапах языка оказывался в трудном и противоречивом положении. От плохого к хорошему, от хорошего к прекрасному, от прекрасного к худшему и к плохому – таков круговорот вещей. «Так обстоит с каждым искусством, с каждой наукой: они пускают ростки, набирают бутоны, расцветают и отцветают. Так обстоит и с языком». Читавший Руссо, Гердер в современности не наблюдал расцвета языка; это был поздний этап, этап господства рефлектирующего рассудка, и он не мог быть временем расцвета поэзии. «Чем больше правил в языке, тем он, правда, совершеннее, но тем больше потерь для истинной поэзии». Гердер, спасая свои теоретические построения, прибегал к вспомогательным конструкциям. Если современность не могла явиться эпохой расцвета поэзии, то, во всяком случае, могла стать периодом теории поэзии, эстетики; и для поэзии
138
Гердер старался оставить надежду: дидактическая поэма как своеобразное вместилище различных поэтических возможностей приобрела сейчас величайшее значение; иногда он рассуждал и так: эта поздняя эпоха может развиваться в обоих направлениях – и в сторону поэзии, и в сторону рефлексии. Но разве не относились и к современности слова, что каждая эпоха несет в себе свое счастье? Без сомнения, все эти размышления трудно привести в согласие, иные противоречия никак не разрешить. Законченная система никогда не была сильной стороной Гердера. Но его мысли о том, что же такое язык и поэзия и чем они могут быть, прославление им внутренней творческой силы стали импульсами для современной ему теории поэзии и поэтической практики. И в этом он не был одинок.
Вероятно, Гёте уже в Страсбурге слышал, что для Гердера Шекспир является величайшим примером гения, как это тогда понимали: воплощением творческой силы, созидающей не согласно внешним правилам, а творящей неповторимое искусство исходя из внутренней формы. В статье о Шекспире 1773 года Гердер вдохновенно писал: «Поскольку, как известно, гениальность выше философии и творец не похож на того, кто рассекает и исчисляет, то один из смертных был наделен божественной силой…» В работе Генриха Вильгельма Герстенберга «Письма о достопримечательностях литературы» (1766—1770) можно было прочесть сходные слова – следует различать два понятия: обладать гениальностью или быть гением; «гений – это изобретательность, это новое, это подлинник».
Эти писатели–бюргеры обладали столь высоким самосознанием, что исходили из субъективного целостного опыта действительности жизни и не желали художественно расцвечивать всеобщие моральные истины. В этом они видели возможность освободиться от придворно–аристократических норм и утвердить прозреваемого и желаемого цельного человека вопреки сословным ограничениям и перегородкам.
Гёте был подготовлен к восприятию взглядов Гердера. Автора «Од к Беришу» проповедь о гении и его правах могла только укрепить. Человек, развивавший в письме к Хецлеру идею о становлении как о задаче самоосуществления, должен был с восторгом слушать о том, что каждый факт – это действие, а все остальное лишь тень, лишь пустые слова; человека, усвоившего из герметических рассуждений, что все живое связано друг с другом, учение о творческой вы–139
разительной силе языка и поэзии должно было еще более укрепить и ободрить.
Хотя Гёте позднее жаловался на недостаток методичности у своего страсбургского собеседника, свободное парение его мысли в тот момент было для Гёте важным. Он стремился приобрести многообразный опыт. «Множество людей, которых я вижу, разные случаи, которые мне попадаются, дают мне такой опыт и столько знаний, о которых я не осмеливался и мечтать» (письмо к С. фон Клеттенберг, 26 августа 1770 г.).
Обращение Гердера ко всему исконному и первичному, от которого он ждал благотворного влияния на современную немецкую поэзию, заставило его обратить внимание на народную поэзию и на то, что тогда считали таковой. Песни Оссиана вызывали восторг у Гердера и Гёте, и Гердер с трудом мог примириться с тем, что они оказались весьма тонкой подделкой шотландца Джеймса Макферсона. С переводом Михаэля Дениса, сделанным гекзаметром, Гёте познакомился еще в Лейпциге; теперь, под влиянием Гердера, он воспринял их в оригинале совершенно иначе. Вскоре Гёте перевел «Песни Сельмы». Переработав, он перенес их в «Вертера» – эти выразительные, меланхоличные песни о смерти и печали, в которых природа откликается как бы на чувства человека – и наоборот.
«Ночь! И я одна, забытая в бурю на холме. Ветер свищет в ущельях. Поток стремится вниз с утеса. А я забыта в бурю на холме, и негде мне укрыться от дождя.
Выйди, месяц, из–за туч! Явитесь, звезды ночи! Пусть ваш свет укажет мне дорогу туда, где мой любимый отдыхает от трудов охоты, лежит рядом с ним спущенный лук, и усталые псы окружают его! А я сижу здесь одна на утесе, и под ним бурлит поток. Поток ревет, и буря бушует, и мне не слышен голос любимого» (6,90).
Гердер был захвачен выразительной силой языка оссиановских песен и сборника старых песен и баллад «Reliques of Ancient English Poetry» 1, который издал Томас Перси в 1765—1767 годах. В народной песне, казалось, выразился исконный народный дух. «Стихотворения древних и диких народов» можно было считать рожденными «непосредственной действительностью, непосредственным вдохновением чувств и воображения». В «Извлечениях из переписки об Оссиане и песнях древних народов» (1771) Гердер дал краткий
1 «Памятники древней английской поэзии» (англ.).
140
очерк своих воззрений на поэзию, начав тем самым свой длительный труд над «Голосами народов в песнях» (так называли его собственный сборник народных песен 1778—1779 годов). Несогласованности и перескоки в повествовании и языке этих песен теперь больше не казались недостатком, а скорее свидетельствовали об их естественной первозданноста. Увлеченный всем этим, Гёте принялся разыскивать народные песни и послал, вернувшись во Франкфурт, свой маленький сборник в 1771 году Гердеру: «Я еще из Эльзаса привез двенадцать песен, которые во время своего бродяжничества я слышал из уст старых бабушек. И это счастье! ибо их внуки поют только: «Я люблю одну Исмену»» – это была тогда модная песня.
Гёте сам написал немного стихотворений в стиле народных песен: «Дикая роза», «Фиалка», «Фульский король», «Неверный», «Поймал мальчик синичку»; кроме «Дикой розы», все они включены в его пьесы. Но стиль народных песен был и остался ему близок. Он легко и свободно использовал его в своих «книттельферзах», а простота и меткая грубоватость, идущие от народной песни, встречаются у него не только в маленьких пьесах ранней поры.
При всех своих всемирно–литературных интересах Гердер своими занятиями языком и поэзией стремился помочь своему родному языку и национальной литературе, судьба которых его беспокоила. В третьем сборнике своих «Фрагментов» он писал: «Язык, который я воспринял с младенчества, мой язык… Оригинальный писатель, как это словосочетание понимали в древности, – это, за немногими исключениями, всегда национальный писатель… Поистине! Поэт должен оставаться верным своей почве, если он хочет владеть выражением: здесь может он взращивать великие слова, ибо он знает свою страну; здесь может он срывать цветы, ибо ему принадлежит эта земля; здесь может он копать до самых глубин в поисках золота, громоздить горы и направлять потоки, ибо он здесь хозяин» (глава 7). Гердер решительно не желал возводить «стену между повседневным, художественным и ученым языками» и смело утверждал: «Всегда, когда я обращаюсь к простолюдину (я имею в виду здесь всякого, кто не книжный ученый), я должен говорить его языком и только постепенно приучать его к моему языку» (глава 5). Из этих и подобных фраз явствует, что они направлены против придворно–аристократических вкусов, ориентировавшихся тогда в первую
141
очередь на французские образцы, и исполнены заботой о народе в целом. Объясняется ли влиянием Гердера то, что Гёте не отправился из Страсбурга в мировой город – Париж? Его статья о Страсбургском соборе и речь о Шекспире были явно антифранцузскими. Впрочем, и позднее он не побывал западнее Вальми, хотя с уважением относился к тому, что во Франции культура и образование считались общенациональным делом, и питал неизменный интерес к французской литературе.
Гердер был трудным собеседником. В «Поэзии и правде» Гёте не скрывает, как Гердер умел порицать без обиняков и не считаясь с правилами вежливости и как из–за его непредвиденных реакций у его гостя симпатии и уважение к нему соседствовали с досадой. Из писем последующих лет видно, что отношения этих двух людей не были лишены напряженности. «Гердер, Гердер… Оставайтесь для меня тем, что Вы есть… Я Вас не отпущу. Не отпущу. Яков боролся с ангелом господним. И если я даже останусь хром» (октябрь 1771 г.). И тогда, когда Гердер в 1776 году прибыл в Веймар в качестве главного духовного лица, трудности продолжали давать о себе знать. Гердер не умел по–настоящему приспособиться к придворному обществу, в котором свободно вращался Гёте, вызывавший всеобщее восхищение. Гердер чувствовал ограничения, налагаемые в этом кругу на бюргера, и глубоко оскорблялся этим. Стать на путь, ведущий к «классике», к признанию искусства, удовлетворенного самим собой и не желающего вмешиваться в окружающую жизнь, он не хотел. В своей деятельности он постоянно страдал от общественных ограничений и от того, что, будучи источником огромного богатства мыслей, ставших могучими импульсами для других, сам он лишь размышлял над великим творческим произведением, но создать его не смог. Только лишь в десятилетие 1783– 1793 годов между ним и Гёте царило единомыслие, ничем не омрачаемое: Гердер искал в истории человечества единство в многообразии, а Гёте в исследованиях природы шел тем же путем.
Импульсы, воспринятые страсбургским студентом, были творчески переработаны в его статьях и художественных произведениях. В Эльзасе с апреля 1770 до августа 1771 года было создано немного: так называемые зезенгеймские стихи; возможно, некоторые части работы «О немецком зодчестве»; в одной из тетрадей с набросками и заметками находится фрагмент эпистолярного романа «Арианна к Ветти». Вероятно, обду–142
мывались планы «Готфрида фон Берлихингена», а также драма о Цезаре, от которой дошло лишь несколько фраз. Мы не будем здесь на этом останавливаться. Лишь в связи с произведениями последующих лет можно судить о том, что дал этот этап его жизни, в процессе которого Гёте стал видным представителем того течения, которое в истории литературы принято называть «Бурей и натиском». Здесь же следует сказать о жизненно важных событиях этих месяцев в Страсбурге.
Фридерика Брион, возлюбленная
Это, вероятно, было в октябре 1770 года, когда сотрапезник Гёте Вейланд, эльзасец, у которого повсюду были друзья и знакомые, ввел Гёте в дом пастора Иоганна Якоба Бриона в Зезенгейме. Началось то, что неоднократно в восторженных тонах описывалось и приукрашалось, будто мы точно знаем, как все происходило, – недели и месяцы любви к Фридерике, родившейся в 1752 году, младшей из двух дочерей пастора из Зезенгейма; пребывание на лоне очаровательной природы; участие в местных празднествах; сочинение стихов, которым суждено было значительно позднее стать событием в истории лирики, и возвращение во Франкфурт в августе 1771 года, означавшее конец всему, разлуку навсегда.
Мы не располагаем точными сведениями о том, как протекала и как закончилась эта любовь. Только сам Гёте рассказал в десятой и одиннадцатой книгах «Поэзии и правды» о зезенгеймских днях, и то, что там написано, хотя и рассказано новеллистически великолепно, – поздние воспоминания о счастливой и бурной юности, – не может считаться сейчас надежным свидетельством. Весьма искусно – для создания соответствующего поэтического настроения – Гёте напоминает читателю о «Векфильдском священнике», затем следует эльзасская идиллия с влюбленными в окружении приветливой природы и приветливых людей. Других документальных свидетельств нет. Как будто существовали тридцать писем Гёте к Фридерике; ее сестра Софи, по ее собственным словам, сожгла их. Сохранился лишь черновик письма, которое Гёте написал после первого посещения, оно датировано 15 октября 1770 года. Процитированное здесь начало Гёте взял в скобки, чтобы начать снова, на этот раз несколько более сдержанно и формально.
143
«Дорогая новая подруга,
не сомневаюсь, называя Вас так; ибо если я хотя бы немного разбираюсь в глазах, то мои глаза, с самого первого взгляда, обрели надежду на дружбу в Ваших, а за наши сердца я могу побожиться; Вы, столь нежная и добрая, какой я Вас знаю, разве Вы, которая мне столь любезна, не будете ко мне хоть немного благосклонны?»
Это показалось Гёте все же слишком откровенным и сказанным напрямик, и он начал по–другому:
«Дорогая, дорогая подруга,
имею ли я что–либо Вам сказать, об этом можно и не спрашивать; но знаю ли я, почему я именно сейчас хочу писать Вам и что бы я хотел писать, – это совсем иное; как я замечаю по известному душевному беспокойству своему, мне хочется быть рядом с Вами…»
В некоторых письмах к Зальцману Гёте говорит о своем внутреннем состоянии. Но это относится уже к весне и лету 1771 года. Здесь, однако, и речи нет о безоблачном счастье любви, наоборот. Неуверенность в оценке собственной ситуации и душевные колебания – вот что выражают весьма симптоматичные образные выражения. «Голова моя подобна флюгеру, когда приближается гроза и порывы ветра меняют свое направление» (29 мая 1771 г.). «Моя anima vagula (колеблющаяся душа) совсем как флюгер на церковной колокольне» (12 июня 1771 г.?). «Разве мечты твоего детства все не воплотились? – спрашиваю я иногда себя, когда мой взор оглядывает с удовольствием горизонты моего блаженства. Разве это не те волшебные сады, о коих ты мечтал? Это они, да, они! Я чувствую это, дорогой друг, и чувствую, что ни на йоту не становишься счастливей, когда достигаешь, чего желал. А прибавок, прибавок, который судьба примешивает к каждому блаженству! Дорогой друг, необходимо много мужества, чтобы в этом мире не впасть в уныние» (19 июня 1771 г.?).
Эти и подобные высказывания (как, например, свидетельствующие об угрызениях совести в письме от 29 мая 1771 года) вводят в соблазн порассуждать: а что подразумевается в действительности под «прибавком»? Что же мешало влюбленным и в чем причины крушения этой любви? Но надо честно признать: это все может относиться лишь к области предположений, несмотря на то, что за сто пятьдесят лет исписаны сотни страниц, чтобы внести ясность в некоторые темные места. «Литература о Фридерике» может служить забав–144
ным или отталкивающим примером того, до каких предположений и комбинаций, соблазнительных и трогательных сочинений могут дойти любопытствующие исследователи, пожелавшие в пылу почитания, а также при недостатке самоконтроля заполнить пробелы в документальных свидетельствах касательно биографии своего почитаемого или в чем–то подозреваемого писателя. Но кого может еще заинтересовать подобный вынюхивающий биографизм? Гадают о том, слабость ли конституции или болезнь воспрепятствовали женитьбе Гёте на Фридерике; какие любовные отношения были позднее у Фридерики и не почуял ли Гёте измены; действительно ли отношения были столь безобидными и «морально безупречными», как это изображено в «Поэзии и правде» (причем моральность понимается каждый раз в зависимости от представлений того или иного стража морали); от кого ребенок, которого имела Фридерика; как вообще обстоит дело с позднейшей «репутацией» Фридерики; как произошел разрыв и какие он имел последствия в жизни обоих любящих. Сентиментальное умиление вызывают замечания, подобные дошедшему от пережившей Фридерику сестры: «Все предложения руки она (Фридерика) отклоняла. Кто был любим Гёте, – сказала она однажды, – не может любить никого другого».
В 1835 году студент Генрих Крузе прибыл в Эльзас, чтобы – уже не первым – расспросить еще живых свидетелей и поискать подлинные документы о событиях, происшедших в Зезенгейме. Прежде всего он хотел опровергнуть «подозрения», павшие на Фридерику и получившие гласность. Он записал слова сестры Софи в Нидербронне и скопировал также у нее рукопись стихов, зезенгеймских стихотворений Гёте и Якоба Михаэля Рейнхольда Ленца. В остальном нам известны лишь рассказы стариков, относящиеся к 1825 году или более позднему времени, в которых сообщаются по воспоминаниям разные факты из истории семьи Брион и Фридерики, умершей в 1813 году в Мейсенгейме.
Гёте пережил месяцы любви и счастья с Фридерикой Брион. Об этом свидетельствует идиллический рассказ в «Поэзии и правде», а зезенгеймские стихотворения запечатлели пережитое в поэтическом слове. Но к восторгам счастья примешиваются и слова, говорящие о неуверенности, колебаниях: «Люблю ли тебя, того не знаю», «И все ж любить какое счастье! Какой восторг – твоя любовь!». Нам это уже знакомо из лейпцигского периода, из истории его отношений с Кетхен Шёнкопф.
145
Почему же произошел разрыв с Фридерикой, сказать никто не может; нам следует отказаться от спекулятивных конструкций и ограничиться достоверным: пережитое в Зезенгейме и разрыв, который, очевидно, принял малоприятные формы, глубоко затронули юного студента. Надолго связывать себя он не собирался, так же как до этого в Лейпциге или несколько позже во Франкфурте с Лили Шёнеман. И об этом часто говорят чересчур громкими словами: гений, мол, слишком сильно ощущал свои творческие силы и свое художническое призвание, чтобы взвалить на себя ярмо супружества, и женщины, вступающие в любовные отношения с «гением», должны быть готовыми к отречению, дабы он мог завершить свое дело. Разве более простое объяснение не было бы уместнее? Разве само собой разумеется, что личное счастье человека должно быть принесено в жертву развитию гения? Не обычное ли это дело, что некоторые люди (не только мужчины) остерегаются рано связывать себя, что покинутым не помогает сознание, что «гению» следует предоставить свободу? Во всяком случае, не следовало бы это оправдывать за счет тех, которых разрыв больно ранит и которые не могут ссылаться на свои творческие потенции.
После отъезда из Лейпцига юный Гёте продолжал поддерживать переписку с Кетхен Шёнкопф, посылал ей подарки из Франкфурта. После резкого разрыва с Фридерикой все было по–другому. Никакого намека на письма. Только через Зальцмана, не присоединяя к этому ни строчки, он посылал ей в октябре 1771 года тетради с гравюрами («Пошлите это доброй Фридерике, вложив или нет туда записку, как Вы хотите») и той же осенью, снова через Зальцмана, – переводы из Оссиана, а через два года в Зезенгейм был отправлен экземпляр «Берлихингена»: «Бедной Фридерике послужит известным утешением, что неверного отравляют» (Зальцману, октябрь 1773 г.).
В старости Гёте вспоминал, как его мучило раскаяние: «Гретхен у меня отняли, Аннета меня покинула, сейчас я впервые был виноват и сам глубоко ранил прекраснейшее сердце; для меня настала пора мрачного раскаяния, при отсутствии привычной животворной любви до ужаса мучительная, более того – нестерпимая» (3, 439). Никто не может определить, сколько здесь правды и сколько поэтического вымысла. Кое–что было явно мучительно как для юноши, так и для автора мемуаров, о чем говорит позднейшая актив–146
ная борьба против публикации частных бумаг страсбургского периода: «Как я изобразил свое пребывание в Страсбурге и его окрестностях в «Поэзии и правде», было встречено всеобщим одобрением… Но это хорошее впечатление будет разрушено неизбежно отдельными разрозненными фактами» (К. М. Энгельгардту, 3 февраля 1826 г.).
Когда Гёте в мае и июле 1775 года по пути в Швейцарию и возвращаясь оттуда был дважды в Страсбурге, он не посетил дом пастора в Зезенгейме. Через четыре года, в сентябре 1779–го, во время второй поездки в Швейцарию, он нанес в Эльзасе два визита, полные воспоминаний: он был у Фридерики и у Лили фон Тюркгейм, урожденной Шёнеман. 28 сентября он послал письмо Шарлотте фон Штейн с отчетом о том, как был встречен в Зезенгейме, и о пребывании там, но исследователи сомневаются не без основания, описывается ли тут вполне правдиво встреча с прежней возлюбленной. «Признаться должен я, что она (Фридерика. – К. К.) 1 не сделала даже небольших усилий, чтобы пробудить в моей душе прежнее чувство. Она водила меня по всем беседкам, и это было хорошо». Идиллия прикрывает здесь то, что, по–видимому, было сложнее.
Посещение 1779 года не определялось, как видно, ни чувством раскаяния, ни желанием дружественного свидания, а лишь стремлением получить ясное представление о том, как вел себя в доме Брион Якоб Михаэль Рейнхольд Ленц и что стало с его собственными письмами. Среди записей, которые в собраниях сочинений Гёте объединены под заголовком «Автобиографические заметки», находится запись о визите в Зезенгейм в 1779 году, по–деловому сухая и явно неприязненная в отношении Ленца: «Беседа касалась по преимуществу Ленца. Он появился в доме после моего отъезда [на самом деле почти через год!], старался выведать все, что можно, обо мне, пока он не внушил ей [Фридерике] недоверие тем, что очень старался заглянуть в мои письма и заполучить их… Она распознала его намерение навредить мне и погубить меня в общественном мнении, для чего он тогда же и напечатал фарс против Виланда».
В этой записи Ленц выступает в весьма двусмысленном свете. Когда Гёте делал эту запись и писал подроб–1 Далее пояснения К. Конради внутри цитат даются в квадратных скобках. – Прим. ред.
147
нее о Ленце в четырнадцатой книге «Поэзии и правды», его отношение к прежнему спутнику молодости и соратнику по «Буре и натиску» было отрицательным и критическим. Юношеский шумный протест и возмущение стали теперь подозрительным прошлым, и те сложности, которые возникли в веймарском обществе с Ленцем, сильно охладили дружеские отношения – вплоть до непонимания и не очень справедливой оценки несчастного, измученного и изнемогающего автора «Гувернера» и «Солдат».
Родившийся в Лифляндии в 1751 году, Ленц, после изучения теологии в Кенигсберге, приехал в 1771 году в Страсбург, сопровождая братьев Фридриха Георга и Эрнста Николауса фон Клейстов. Он примкнул к кружку, образовавшемуся вокруг Зальцмана; Гёте еще был там, и для первого знакомства у них оставалось всего несколько месяцев (до августа 1771), общение их было, по–видимому, не очень интенсивным. В 1772 году один из Клейстов был переведен офицером в рейнскую крепость Форт–Луи, недалеко от Зезенгейма. Офицеры из Форт–Луи бывали в доме пастора Бриона, и таким образом туда попал и Ленц. 31 мая 1772 года он впервые побывал в пасторском доме, был с повторным визитом на следующий же день и, подобно Гёте, поведал в письме к Зальцману о своей симпатии к Фридерике. 3 июня, когда Фридерика с матерью и сестрой отправились в Саарбрюккен, Ленц писал: «Я несчастлив, дражайший, дражайший друг, и, однако ж, я счастливейший из людей. В тот самый день, когда они возвратятся из Саарбрюккена, я должен буду отправиться с господином фон Клейстом в Страсбург! Итак, месяц разлуки! А может, больше, может, навсегда! А мы поклялись никогда не разлучаться…» Эти и подобные пассажи в его письмах читаются как написанные рукою Гёте. И мы также не знаем ничего определенного о его отношениях с Фридерикой Брион; только то, что Ленц здесь, как и в позднейших встречах с женщинами, взвинчивал себя до бурных восторгов и что его взволнованные чувства оказывались несоразмерными с реальностью. 2 сентября Ленц сообщал отцу, что происходило с ним в эти летние месяцы: «Около Форт–Луи находилась деревушка, в которой жил пастор с очаровательными дочерьми, где укрывалась райская невинность. Здесь я жил летом сладостной и мирной жизнью пастушка, так что весь шум больших городов стал для меня почти что невыносимым. Я не в состоянии без слез вспоминать об этой счастливой поре. О,
148
как часто я говорил о Вас и Вашем кружке! О, как охотно вплел бы я в прекрасный венок Ваших друзей еще одну розу, которая здесь, в тихой долине, цветет никем не замечаемая, для одних только небес! Я не могу Вам растолковать яснее эту аллегорию; может быть, это случится в будущем».
Как относилась ко всему этому Фридерика, неизвестно. Из приведенной выше заметки Гёте, продиктованной неприязнью к Ленцу, ничего об этом вычитать нельзя.
Во всяком случае, Ленц тоже посвятил встрече с Фридерикой стихотворения, которые вместе с гётевскими были обнаружены в сборнике из одиннадцати стихотворений. Их обнаружил упомянутый уже студент Генрих Крузе, который списал в 1835 году у Софи Брион десять стихотворений из рукописи, впоследствии утерянной, а одиннадцатое она ему продиктовала: 1* «Проснись, о Фридерика». 2* «Теперь все ангелу известно». 3* «Да, рыцарь отдохнуть не прочь». 4 «Тебя здесь нет». 5 «Где ты теперь». 6* «Вернусь я, золотые детки». 7* «И цветочки, и листочки». 8* «Скоро встречу Рику снова». 9* «Рассвет седой, туманный». 10* «Душа в огне». 11* «Растет оно к лазури» 1. Имена поэтов не стояли против каждого стихотворения. А поскольку Гёте, издавая свои стихотворения, напечатал в них лишь два: «И цветочки, и листочки» и «Душа в огне», то разгорелся длительный спор об авторстве остальных девяти. Было твердо установлено, что стихотворения «Тебя здесь нет» и «Где ты теперь» принадлежат Ленцу; возможно, что в стихотворении «Проснись, о Фридерика» некоторые строфы (2, 4, 5) прибавлены тоже им. Остаются, таким образом, сомнения также и относительно стихотворения «Люблю ли тебя, того не знаю», появившегося в 1775 году анонимно в журнале «Ирис». «Майскую песнь» («Как все ликует…»), тоже опубликованную в 1775 году в журнале «Ирис», следует причислять к песням, посвященным Фридерике, и «Дикую розу» – тоже; стихотворение «Рассвет седой, туманный», имеющееся в списке Крузе, написано уже осенью и попало к Фридерике, вероятнее всего, через Зальцмана.
Закончим на этом рассмотрение специальных филологических вопросов, которых мы здесь коснулись,
1 Стихи, отмеченные звездочкой, есть в русских переводах, помещенных в первых томах 10–томного и 13–томного собрания сочинений Гёте. – Прим. перев.
149
лишь для того, чтобы не создалось ложного впечатления, будто столь знаменитая теперь лирика Гёте страсбургского и зезенгеймского периода уже в свое время нашла какой–либо отклик (не считая Фридерики и Ленца), оказала какое–либо влияние на современников. Ее совсем не знали. Так же обстоит дело и с большими гимнами периода «Бури и натиска» (Франкфурт – Вецлар, 1772—1774). Лишь увидев их в исторической перспективе, за этими стихотворениями признали их роль в развитии лирики. Немногие стихотворения были опубликованы в журнале Иоганна Георга Якоби «Ирис» и достигли более широкого круга читателей. Но это случилось уже в 1775 году, в год отъезда в Веймар. Стихотворения печатались без имени автора или подписывались лишь буквами. Ни сам автор их, ни издатель журнала не собирались представлять публике значительного молодого лирика. Стихи эти считались пригодными для читателей журнала, которые по своему усмотрению могли их использовать в литературно–общественной жизни.