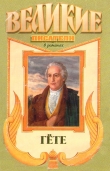Текст книги "Гёте. Жизнь и творчество. Т. I. Половина жизни"
Автор книги: Карл Отто Конради
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 35 (всего у книги 45 страниц)
И еще один вопрос: кто, собственно говоря, в тех исторических условиях, когда Гёте создал это стихотворение, способен был судить и рядить, награждать и карать? Где критерии, позволяющие распознавать «добро» и «зло»? Само абстрактное желание быть правым, милостивым и добрым, пусть даже это задумано идеально сверхгуманно, практически не избежит опасности сделаться пустой фразой, которой будет
456
пользоваться кто угодно – ничего не говоря о руководящих им критериях. Именно такого рода стихи легко набивают оскомину при безудержном употреблении их по всевозможным торжественным поводам.
Через Карлсбад в Италию
Летом 1785 года Гёте впервые отправился на лечение в Карлсбад. Этот богемский курорт уже с давних пор был известен своими грязевыми источниками и минеральными водами; его охотно посещали все, кто имел отношение к европейскому «высшему свету»; курорт быстро стал не только местом лечения, но и изысканным местом встреч знати, где повседневно велись остроумные беседы и устраивались веселые развлечения, где и других разглядывали и себя являли свету, где вдали от будничных забот люди искали интересных встреч – и находили их, в том числе и амурные приключения. Гёте был рад этой поездке. После девяти лет напряженных трудов требовалось наконец отдохнуть, тем более что состояние здоровья оставляло желать лучшего. Его беспокоили желудочные и ревматические боли, а для налаживания обмена веществ были крайне необходимы целебные воды и ванны. К тому же весной у него явно была сильная депрессия; тяжким грузом легли на его плечи бедственное состояние финансов и политическое убожество, он стал остро ощущать ничтожность собственных трудов, тщетность многих усилий. «Пытаюсь зачинить нищенское одеяние, которое все норовит сползти с моих плеч» (в письме фон Кнебелю от 5 мая 1785 г.). Как и прежде, его тревожило непостоянство устремлений герцога, сколь бы дружески ни был Гёте к нему расположен.
Во время поездки не должны были прерываться естественнонаучные занятия; вместе с ним в Карлсбад отправился и Карл Людвиг фон Кнебель; путь через горный кряж Фихтель позволил им продолжить изучение растений и минералов. По дороге им встретился юный житель Тюрингии, который, как оказалось, сведущ в этих вопросах, и они тут же пригласили его сопровождать их в качестве эксперта в области ботаники. «Передвигаясь в гористой местности всегда пешком, он (Фридрих Готлиб Дитрих) усердно, с присущим ему одному чутьем, приносил нам все цветущее, и, где только это было возможно, подавал свои трофеи
457
тут же мне в коляску, и тут же, подобно герольду, выкликал с радостной уверенностью, хотя порой и с неверным ударением, линнеевские названия, пол и род».
Всего сорок пять дней, с 4 июля по 17 августа 1785 года, пробыл тогда Гёте в Карлсбаде. Так началась многолетняя серия его поездок на богемские курорты. До 1823 года он побывал там шестнадцать раз. А поскольку статистики подсчитали почти все, имеющее отношение к жизни Гёте, известно, что на курортах Богемии он провел в общей сложности 1111 дней (а, например, в Италии – 683 дня). В 1785 году многие его веймарские знакомые также жили летом в Карлсбаде, в том числе Шарлотта фон Штейн, супруги Гердер и Фойгт. Но Гёте пробыл здесь дольше остальных – так, вероятно, понравилась ему жизнь на этом светском курорте, а также новые знакомства. Знакомых у него завелось там предостаточно, да и потом всякий раз бывало так, вплоть до 1823 года. Нам ни к чему упоминать всех, с кем познакомился Гёте в Богемии и в том году и впоследствии, у нас нет возможности описать все прогулки и встречи, все часы, проведенные в обществе тех, кто ему понравился или на кого произвел впечатление он сам. Повествование на тему «Гёте в Богемии» легко может занять отдельную, довольно солидную по объему книгу, как то доказывает, например, сочинение, изданное Иоганном Урцидилем.
Тайный советник из Веймара, которому тогда не исполнилось и тридцати шести лет, уверенно и непринужденно держался в обществе отдыхающих, съехавшихся на этот известный в Европе курорт, где всегда собиралось немало представителей знати. Возведенный еще три года назад в дворянское достоинство, Гёте, который вполне осознавал свои возможности и на административном поприще, и в сфере литературы, был подкован в политике не хуже, чем в натурфилософии, мог совершенно независимо чувствовать себя в любом обществе. Не нарушая формального чинопочитания, которое он, поселившись в Веймаре, принужден был всегда соблюдать в соответствии с существовавшей иерархической лестницей, поэт отличался всегда особым самосознанием, о чем он однажды, как свидетельствует Эккерман, сказал следующее (26 сентября 1827 г.): «Я не собираюсь похваляться этим случаем по прошествии столь долгого времени, но такова уж моя натура. Княжеское достоинство как таковое, если ему не сопутствуют высокие челове–458
ческие свойства, никогда не внушало мне уважения. Более того, я так хорошо чувствовал себя в своей шкуре, таким знатным ощущал себя, что, если бы мне и пожаловали княжеский титул, я бы ничуть не удивился. Когда меня почтили дворянской грамотой, многие полагали, что я должен чувствовать себя вознесенным на невесть какую высоту. Но, между нами говоря, я не придал ей ровно никакого значения. Мы, франкфуртские патриции, всегда почитали себя не ниже дворян, и, когда я взял в руки эту грамоту, мне казалось, что я давно уже ею обладаю».
Правда, семейство Гёте никогда и не принадлежало к «франкфуртским патрициям» в узком смысле этого слова, но поэту, обратившемуся мыслями к прошлому, так, вероятно, показалось, тем более что ему на своем веку вообще не пришлось бороться за материальную основу своего существования.
В Карлсбаде летом 1785 года Гёте поддерживал оживленное светское общение также и с графом Морицем Брюлем и его красавицей женой Тиной (или Кристиной, в девичестве Шляйервебер, дочерью некоего фельдфебеля Эльзаса). Гёте посвятил им несколько стихотворений. Он и тогда и позже не страшился, внося своей вклад в общение, сочинять стихотворения по самым различным поводам – это стихи «на случай» в истинном смысле слова, порой совершенно незначительные вещицы, в которых, правда, некая идея, тема, а не то одна лишь последовательность рифм выдают гений великого поэта. Он потому мог так безбоязненно позволить себе сочинять и пускать по рукам подобные стихи «на случай», что никогда не сковывал себя привязанностью к определенному жанру лирики. Так, он отнюдь не стеснял себя рамками «автобиографической лирики», стихотворений, исполненных непосредственной, подчеркнуто эмоциональной искренности и субъективности, с которыми последующие поколения связывали как раз его имя. Он охотно предавался размышлениям в связи с представившимся конкретным поводом, тут же создавая легкие, свободные стихи, расцвечивая какую–либо идею, тему, и при этом меж всевозможных безделушек то и дело возникали творения, способные утверждать ценность собственного существования независимо от повода, их породившего, – по крайней мере для любителей поэзии, которые знают или предполагают, что, помимо известных и постоянно цитируемых строк, среди таких безделушек можно найти кое–что занятное,
459
вплоть до благодарности за сорок восемь бутылок рейнвейна на праздновании его последнего дня рождения: «Многоуважаемым восемнадцати франкфуртцам, празднующим в день 28 августа 1831 года». Нередко то или иное стихотворение не связано непосредственно с конкретным случаем или определенным человеком, а лишь отражает личный процесс познания и движение мысли поэта, хотя одновременно оно относится и к тем, кому посвящено. Вот, например, строки, написанные карлсбадским летом 1785 года и посвященные Тине Брюль:
Мы в долах бродим. Так бездумно
Мы счастливы… Разлуки звук
Витает над холмом, и ветер
С заката, вдоль реки, обоим
Несет нам тихое «прощай».
Боль перехватывает грудь,
И мечется душа в смятеньи,
То воспарит, то камнем – вниз,
То вновь парит. А издалека
Уж встреча радостью манит.
Но так ли? Да! Не сомневайся.
(Перевод В. Болотникова)
Для графини Брюль, пользовавшейся успехом в свете и явно наслаждавшейся этим, Гёте писал и шутливые, легковесные гекзаметры. Вот пример безделушки, какую обходительный поэт был способен набросать на листке бумаги:
Отчего видишь Тину ты здесь, кто обрек ее пить эту воду?
Заслужила, видать: те, чье сердце она поразила,
Исцелить позабыв, – о, те ныне в истоках у Леты
За бокалом бокал осушают, желая любовные муки,
Что с подагрой сравнимы, из тела промыть и, коль это не выйдет,
Долечиться хотя бы до сей ревматической дружбы.
(Перевод В. Болотникова)
А по случаю дня рождения графа Брюля он на скорую руку насочинял предлинные куплеты – на манер тех, что пели в старину уличные певцы – «бэнкельзэнгеры»; их исполнили, как и полагалось, по–настоящему, одновременно показывая крупно намалеванные лубочные картинки («О, радости песня! / Вот шествует хор / Друзей, восхититься готовых […]»), Вот что сам
460
Гёте поведал Карлу Августу о своем первом пребывании на этом курорте (и что в итоге абсолютно справедливо относительно всех его поездок на богемские минеральные воды): «Воды весьма благотворно на меня действуют; также и необходимость быть на людях пошла мне на пользу. Некоторые пятна ржавчины, что появляются в нас из–за слишком упорного затворничества, лучше всего очищаются здесь. Начиная от гранита через все божественные творения – вплоть до женщин – все здесь способствовало тому, чтобы мое пребывание было приятным и интересным» (15 августа 1785 г.).
На следующий год поездка на воды опять привела его в Карлсбад. Вновь здесь были его веймарские друзья, герцог, Шарлотта фон Штейн, Гердеры. Но никто из них не знал и даже не предполагал, что Гёте намеревается тайно бежать отсюда. Он приехал в Карлсбад 27 июля, жил, как обычно, общаясь с приехавшими на курорт отдыхающими, Шарлотту фон Штейн, которая отправилась домой уже 14 августа, проводил до самого Шнееберга в Саксонии, но, впрочем, не посчитал нужным поведать ей ни что в скором времени он спешно, словно это бегство, отправится в Италию, ни почему он предполагает так поступить. Вернувшись в Карлсбад, он ограничился намеками в письме от 23 августа: «И тогда я буду жить в свободном мире вместе с тобой, в счастливом единении, без имени и сословия, приближусь к земле, из которой все мы произошли». Даже в письме от 1 сентября содержится лишь неясный намек на «одиночество мира».
Герцог уехал из Карлсбада 28 августа; его Гёте также не посвятил в точный план своего путешествия. Возможно, тот знал, что его друг и министр его правительства некоторое время будет отсутствовать – но не более. «Простите мне, что я при прощании заговорил лишь неопределенно о своем желании отправиться в путешествие и побыть вдали от веймарских дел, я и сам еще толком не знаю, как у меня все это получится» – так начал Гёте длинное письмо накануне своего таинственного исчезновения, в котором он намеками объяснял, почему желал бы затеряться «в такой стороне света», где он никому не известен. Он собрался отправиться совсем один, под чужим именем, и надеется «на лучшее в этой внешне несколько странной истории» (2 сентября 1786 г.). Затем, 8 сентября, отъезд со всеми признаками бегства: «В три часа поутру я украдкой выбрался из Карлсбада, иначе меня
461
бы не отпустили». В отточенной манере «Итальянского путешествия», завершенного через тридцать лет после этого, дальше говорится: «Общество, так дружески отпраздновавшее 28 августа день моего рождения, приобрело тем самым некоторое право меня задержать; но медлить далее было незачем. Я уселся в полном одиночестве в почтовую карету, захватив только чемодан и дорожную сумку, и в половине восьмого прибыл в Цводу, в прекрасное, тихое, туманное утро. Верхние облака были полосатые и волнистые, нижние нависали тяжело. Это мне показалось хорошим предзнаменованием. У меня явилась надежда после такого неудачного лета насладиться хорошей осенью. В двенадцать, при жарком солнце, я был в Эгере; я вспомнил, что это место лежит на одной широте с моим родным городом, и порадовался, что снова пообедаю при ясном небе под пятидесятым градусом» ([XI, 19], перевод Н. Холодковского).
462
ГОДЫ В ИТАЛИИ
Жизнь в южных краях – издалека и вблизи
Гёте двигался на юг довольно быстро. Шестого сентября он уже в Мюнхене, к вечеру восьмого на перевале Бреннер. «Отсюда воды текут и в Германию и в Италию – за последними я и надеюсь последовать поутру. Как странно, что уж дважды бывал я в таком же месте, останавливался передохнуть, а идти дальше не мог! И теперь поверю во все не раньше, чем спущусь с перевала». Да, и в 1775 и 1779 годах, во время обоих путешествий в Швейцарию, поэт с высоты Сен–Готарда видел простиравшуюся вдали землю Италии, но оба раза поворачивал домой – во Франкфурт, а потом в Веймар. А еще раз, осенью 1775 года, он прервал задуманное путешествие в Италию, когда уже по пути туда, в Гейдельберге, его застала весть: во Франкфурт прислана наконец карета из Веймара и она ожидает его возвращения…
Впечатления детства, вынесенные из родительского дома, и гуманистическое воспитание, полученное в отрочестве, в немалой степени объясняют, почему он пытался бежать от своего окружения именно в страну по ту сторону Альп. В отчем доме на стенах висели гравюры с итальянскими видами, стояла маленькая модель венецианской гондолы, о которой путешественник вспомнил, въезжая в Венецию 28 сентября: «Когда к нашему кораблю подошла первая гондола […], мне вспомнилась игрушка из моего раннего детства, о которой я уже лет двадцать не вспоминал. Отец привез из Венеции прекрасную модель гондолы; он очень ею дорожил, и мне лишь в виде особой милости позволялось играть ею».
463
От Бреннера он избрал путь через Триент и озеро Гарда в Верону, ненадолго там остановился, чтобы вкусить атмосферу этого города, древнего амфитеатра и нынешней жизни простого народа, потом несколько дней жил в Виченце и ее окрестностях, где «наслаждался творениями Палладио», а в Падуе, в ботаническом саду, вновь обрел «прекрасные подтверждения» своих «ботанических идей». Однако его неумолимо влекло в Рим, так что Северная Италия вскоре осталась позади. «До чего притягательна близость Рима, не могу и высказать. Если поддаться собственному нетерпению, ничего не надо бы осматривать по пути, а прямиком – туда. Еще две недели, и мечта последних тридцати лет исполнится! Хотя мне все кажется, будто так ничего и не выйдет». С дороги он все же написал в Веймар – и супругам Гердер, и Шарлотте фон Штейн, и герцогу, однако упорно скрывал, откуда именно. Лишь приехав в Рим 29 октября, он раскрыл тайну: «Наконец–то я вправе нарушить молчание и радостно приветствовать Вас. Да простится мне моя скрытность и мое словно бы подземное путешествие. Я едва отважился сам себе признаться, куда я направляюсь, даже в пути еще не решался в это поверить, и только под Порта–дель–Пополо уверился – я в Риме» (Карлу Августу, 3 ноября 1786 г.).
Гёте путешествовал один – и снова (как при первом путешествии на Гарц) под чужим именем. Он выдавал себя за некоего Иоганна Филиппа Мёллера и был крайне доволен, что это избавляло его от официальных церемоний. В Риме его никто не ждал. Беглец с севера, правда, знал, к кому может обратиться за помощью – к художнику Вильгельму Тишбейну, которому он незадолго до того выхлопотал субсидию у герцога Готского. Тишбейн прежде уже жил в Риме, в 1779– 1781 годах, а с 1783 года вновь поселился здесь, сняв квартиру у своих «старых добрых хозяев», семейства Коллины, о котором он с любовью вспоминал в автобиографии («Из моей жизни»). В доме Каса Москателли на улице Страда–дель–Корсо, номер 20, напротив палаццо Рондандини, образовалась настоящая колония художников–немцев: здесь жил и сам Тишбейн, и Георг Шютц из Франкфурта, и Фриц Бури, все – художники, к ним позже присоединился еще и музыкант Кристоф Кайзер. В первый же вечер, только приехав в Рим и устроившись на ночлег в старой гостинице «Альберго дель'Орсо», Гёте встретился с Тишбейном, который позже вспоминал об этом: «Ни разу не испы–464
тывал я большей радости, чем в тот миг, когда впервые увидел Вас […]. Вы сидели в зеленом сюртуке у камина, а потом, подойдя ко мне, сказали: «Я – Гёте!»» (14 мая 1821 г.). На следующее же утро он перебрался в дом к своему знакомому, где квартировали немецкие художники, которым он, разумеется, тоже открыл свое имя. Первое пребывание в Риме длилось четыре месяца. Затем 22 февраля 1787 года они вместе с Тишбейном отправились дальше, в Неаполь, а еще через месяц, 29 марта, – в Сицилию, на этот раз с пейзажистом Кристофом Генрихом Книпом, который сменил Тишбейна: теперь ему надлежало запечатлевать в рисунках путевые впечатления. Потом больше месяца пребывания в Сицилии; а вот на землю Греции он все же не ступил. В мае вновь через Неаполь в Рим, где 7 июня 1787 года началось его второе пребывание в «вечном городе», растянувшееся еще почти на год. Лишь 23 апреля 1788 года он вместе с Кристофом Кайзером отправился в обратный путь на север, в суровый край, о котором не раз вспоминал с сожалением, напоследок испытав сильнейшую боль при прощании с Римом, о чем спустя несколько месяцев он сам признался Гердеру: «С какой грустью я без конца повторяю строки Овидия [«Тристия» 1, 3], не могу тебе и передать: «Только возникнет в уме печальнейшей ночи той образ, / Той, что во Граде моей жизни пределом была» 1 (27 декабря 1788 г.). Он ощущал теперь свою близость к сосланному когда–то Овидию. Несколько дней потрачены на Флоренцию, потом – встреча с Барбарой Шультхес в Констанце, а там и возвращение в Веймар 18 июня 1788 года, когда подошел к концу этот странный, овеянный таинственностью отпуск, который позволил себе тайный советник фон Гёте, он же Филипп Меллер, – отпуск, длившийся чуть ли не два года.
Таковы основные вехи итальянского путешествия.
Однако что за причины побудили его обратиться в бегство? Какие результаты принесло пребывание в Италии? Хотя сохранилось немало документальных свидетельств, вопросы эти остаются открытыми. Гёте нигде так и не изложил связно решающие причины, побудившие его неожиданно, выбравшись украдкой, бежать из Карлсбада и, собственно, из Веймара 1786 года. Правда, в бумагах, относящихся к этому итальянскому периоду, встречаются многозначительные понятия: «кризис», «возрождение», «новая жизнь». Одна–1 Перевод С. Шервинского.
465
ко что именно имелось в виду под этим, не так–то просто понять. Лишь одно можно сказать с уверенностью: кризис этот был, должно быть, очень глубокий, кризис затронул самую его сущность, и почти достигший тридцатисемилетия поэт не нашел способа иначе с ним справиться, кроме как временно выключившись из той жизни, которую он пытался вести вот уже десять лет.
Документы, относящиеся к периоду его итальянского путешествия, нельзя признать в равной мере достоверными. Сохранились письма Гёте к оставшимся в Веймаре знакомым: это и сугубо личные, доверительные письма, и предназначенные всему «веймарскому кругу друзей». Порой путешественник называл свои сообщения «показными» страницами, то есть, другими словами, их можно и даже нужно было показывать друг другу для прочтения. Для Шарлотты фон Штейн, которой он ничего не сказал об отъезде, что ее поразило и расстроило, Гёте вел особый «Дневник путешествия» и частями пересылал ей из Италии с оказиями. Но ведь лишь через несколько недель покинутая подруга поэта получила от него первое известие, поняла наконец, что ее друг исчез надолго, и вообще узнала, где он. Это не могло не досадить ей. Его «Дневник путешествия», в котором записи, сделанные в различных местностях, содержат еще специальные разделы, например «Непогода», «Горы и их виды», «Люди», доведен лишь до Рима, где 29 октября летописец записывает: «Могу одно лишь поведать: я здесь и уже послал за Тишбейном». А через несколько недель краткая запись от 12 декабря: «С тех пор как я в Риме, ничего не записывал – кроме того, что время от времени посылал тебе. Рассказать что–либо невозможно, прежде нужно вдосталь насмотреться и наслушаться». Личный дневник Гёте, как известно, с июня 1782 года по январь 1790 года утрачен, за исключением небольшой тетрадки о его возвращении на родину в 1788 году. Его знаменитое повествование «Итальянское путешествие» написано лишь через тридцать лет после путешествия в Италию. Первое же издание 1816 и 1817 годов предоставлено читателям как еще одна часть автобиографии «Поэзия и правда», и название его гласило соответственно: «Из моей жизни. Часть первая, раздел второй (1816); часть вторая (1817)». Рассказ здесь доведен до пребывания в Сицилии, с последующим возвращением в Неаполь в июне 1787 года. Лишь в 1829 году, в последнем прижизненном издании Собрания сочинений Гёте, появилось название:
466
«Итальянское путешествие», и текст его расширен, так как добавилась обширная часть «Второе пребывание в Риме с июня 1787 по апрель 1788 года». Поскольку в автобиографии с 1775 по 1786 год, в столь трудное веймарское десятилетие, был пробел, который не удалось перекрыть, появилось самостоятельное название. «Итальянское путешествие» основывается, помимо «Дневника путешествия», написанного для госпожи фон Штейн, еще и на действительных письмах и путевых заметках итальянского периода, и, поскольку повествование ведется в настоящем времени и все перемежается отрывками из переписки тех лет, создается представление, будто перед читателем истинный текст дневника путешествия, который точно передает непосредственные впечатления и приобретенный тогда жизненный опыт. Это относится и к многочисленным местам, где изначальные документы воспроизведены слово в слово, впрочем, это теперь не везде можно проверить, так как Гёте, завершив работу над «Итальянским путешествием», уничтожил использованный материал. Однако поэт на пороге семидесятилетия намеревался предложить читателям отнюдь не дневниковые записи былого времени. Теперь давнишнее путешествие в Италию должно было предстать этапом в процессе его становления и развития как личности, – процессе, который якобы совершался, пусть и отягощенный тревогами, сомнениями и временным застоем, поступательно, подобно метаморфозе, как осуществлявшаяся по восходящей трансформация человека, постигавшего внутренней логичностью законы природы, искусства и человеческой сущности, причем якобы именно это – результат многомесячного пребывания в Италии. Путь к «классическим» воззрениям представал здесь как последовательное усовершенствование «живого чекана» – отчеканенной природой формы, которая развивается, пока живет.
Чтобы произвести такое впечатление, потребовалось отретушировать имевшийся документальный материал. Были смягчены все личные суждения, слишком открыто проливавшие свет на былой жизненный кризис. Если изначально вырисовывалось лишь постепенное восприятие новых идей и если в ранних материалах лишь неуверенно говорилось о впечатлениях в новых для поэта сферах жизни и искусства, то в «Итальянском путешествии» доминирует всеобщий контекст, из которого логично и убедительно вычленяются взаимосвязи, порожденные более поздними заключе–467
ниями – хотя в действительности то были робкие догадки. Вот кое–какие примеры: в «Дневнике путешествия» Гёте, посетив ботанический сад в Падуе, то есть в самом начале путешествия, 27 сентября 1786 года, мог написать лишь следующее: «Вновь обрел прекрасные подтверждения моих ботанических идей. Конечно, дело продвинется, и я проникну еще дальше. Странно лишь, и порой меня это даже пугает, что в меня так многое как бы вторгается, от чего я не в силах отделаться, и моя личность подобна снежному кому, и порой думаешь, что голова не в силах ни понять всего этого, ни вытерпеть, а все же идет какое–то развитие изнутри наружу, и я не могу жить без этого».
В «Итальянском путешествии», также под датой 27 сентября, высказана идея, которая в действительности созрела у Гёте лишь позже: «Ботанический сад тем милее и приятнее на вид (по сравнению со зданием университета) […]. Здесь, в окружающем меня многообразии, все больше пробуждается мысль, что, возможно, все растения развивались из одного, первоначального. Лишь исходя из этого принципа станет возможным действительно определить пол и вид растения, что, по моему разумению, сейчас делают весьма произвольно. На этом месте я, однако, застрял со своей ботанической философией и еще не понимаю, как мне распутаться в ней. Глубина и ширь этого предмета представляются мне абсолютно одинаковыми».
В «Итальянском путешествии» изъяты или же ослаблены свидетельства, позволяющие понять драматическую подоплеку того давнего бегства, всю глубину кризиса, нараставшую напряженность в отношениях с Шарлоттой фон Штейн. «Что ты болела, болела по моей вине, мне столь сжимает сердце – я и передать тебе не могу. Прости меня, я сам ведь боролся между жизнью и смертью, и ни один язык не повернется произнести, что во мне творилось, лишь это крушение вернуло меня назад, к себе самому» (23 декабря 1786 г.). «Какова была жизнь в последние годы, так я себе желал бы скорее смерти, и ведь сейчас, на расстоянии, я для тебя больше значу, нежели значил тогда» (8 июня 1787 г.). «У меня лишь одна жизнь, ее я теперь всю поставил на карту – и еще и сейчас играю ею. Если мои душа и тело будут спасены, если моя натура, дух, мое счастье одолеют этот кризис, я возмещу тебе тысячекратно все, что удастся еще возместить. А погибну я, так погибну, я и так ни на что уже не годился» (20 января 1787 г.).
468
Но что касается письменных свидетельств, относящихся к итальянскому путешествию и использованных в повествовании о нем, следует помнить, что они отнюдь не рассказывают о былом и о настоящем непосредственно и откровенно, отнюдь не стремятся к объективности и ясности. Все эти страницы написаны рукой Гёте, и, когда бы он ни передавал свои собственные слова, это превращается обязательно в интерпретацию его высказываний, не больше. Мы везде сталкиваемся с «перетолкованным» Гёте, который и пытался объяснить читателям свое положение, свои поступки, и добивался встречного понимания. Сюда же примешивались и сторонние соображения, иные интересы, мысли, пришедшие на ум дополнительно. От случая к случаю поэт считал уместным инсценировать, сочинять диалоги – а не то и умалчивал кое о чем преднамеренно. Тем труднее разобраться в истинных причинах его бегства и оценить итоги пребывания в Италии. Тут и самые убедительные суждения все равно остаются интерпретациями, основывающимися на документах, которые уже перетолковал сам автор, предлагая «авторскую интерпретацию» собственной личности. Правда, в принципе это замечание можно отнести ко всем автобиографическим свидетельствам. Однако в отношении итальянского путешествия Гёте все обстоит особенно сложно, поскольку готовился он к нему в полной тайне, а впоследствии сам же Гёте – главное действующее лицо побега – так и не смог дать связных, логичных объяснений о причинах своей поездки и о ее итогах.
Уже современники Гёте (причем не только в одном этом случае) постоянно испытывали затруднения, пытаясь понять его характер. Сколько ни писал он, в том числе и о себе самом, – он так и не поведал, что же за человек он на самом деле. Всю жизнь преследовало его ощущение, что по сути своей он одинок, и этим объясняется его постоянное желание искать одиночества. К старости он прямо–таки виртуозно овладел искусством оставаться нераспознанным, как бы скрываясь за непрестанно меняющимися масками. Всех, кто встречался с ним или жил бок о бок, не раз сбивало с толку это, и на сей счет есть свидетельства, подтверждающие такую его особенность – в любую пору его жизни. «Нрав его для меня загадка; и как разгадать его, не знаю», – писала Каролина Гердер мужу 14 ноября 1788 года; ей же не поддающийся расшифровке поэт казался «почти что хамелеоном» (18 августа
469
1788 г.). Сам Гёте еще за много лет до этого признавался: «Мой бог, кому я всегда хранил верность, щедро одарил меня умением таиться, ведь судьба моя совершенно неведома другим людям, они не способны ни увидеть ее, ни услышать» (Лафатеру, 8 октября 1779 г.). За несколько месяцев до его исчезновения из Карлсбада Шарлотта фон Штейн писала: «Гёте живет своими размышлениями, но он никогда ими не делится […]. Жаль мне бедного Гёте: кому хорошо на душе, тот говорит вслух» (письмо Кнебелю от 10 мая 1786 г.). Много же лет спустя, покинутая, разочарованная в своем некогда близком друге, она писала, выражая, впрочем, и мнение остальных: «Гёте появляется лишь изредка, и вокруг него всегда что–то – не то облако, не то туман, не то сияние, из–за чего невозможно проникнуть в его внутреннюю атмосферу» (в письме Кнебелю от 12 февраля 1814 г.).
Кризис 1786 года и исцеление беглеца с севера
Гёте выражался высокопарно, как только речь заходила о поездке в Италию. При этом он считал, что здесь лучше всего пользоваться такими понятиями, как «воскресение», «второе рождение». Не забудем, что Гёте всегда был склонен к преувеличениям, когда желал объяснить, что для него важнее всего. Кто говорил о втором рождении, кто вслед за пиетистами имел в виду под этим радикальное нравственное обновление, изменение, прозрение истины (хотя и в XVIII веке это понятие уже высмеивали – настолько оно стерлось от чрезмерного употребления), тот поступал так потому, что предшествовавший жизненный этап вызывал, должно быть, глубокие сомнения. Когда заговаривают о воскресении, значит, была смерть или хотя бы смертельный кризис. «Я сам боролся между жизнью и смертью», – признался беглец покинутой им Шарлотте (23 декабря 1786 г.) вскоре после того, как 20 декабря заявлял: «Второе рождение, преображающее меня изнутри, продолжает совершаться; я ведь и собирался здесь кое–чему научиться, но никак не ожидал, что понадобится уйти так далеко назад, к азам, к основам». Подобно пиетистам, связывавшим нравственное воскресение или исправление с определенной датой, путешествующий поэт считал днем своего «второго рождения» день приезда в Рим, куда он стремился, не решаясь о том писать в Веймар, пока все не удалось.
470
«Новая жизнь, пожалуй, начинается, как только в целом увидишь сам все то, что по частям знаешь как свои пять пальцев» (кругу друзей в Веймаре, 1 ноября 1786 г.). «Вторым днем рождения, истинным воскресением почитаю я тот день, когда ступил на землю Рима» (письмо Гердерам, 2—9 декабря 1786 г.).
Показательно, что в пору своего путешествия по Италии (но не позже, в «Итальянском путешествии») Гёте, намеренно принижая значение своей прежней жизни, говорил о «втором рождении» лишь в сугубо личных письмах Шарлотте фон Штейн, Гердерам и Кнебелю (за исключением, правда, одного письма герцогу Готскому от 6 февраля 1787 г.), тогда как в посланиях Карлу Августу и «кругу друзей» речь шла об «обновленной жизни», то есть основной упор делался на настоящем и будущем.