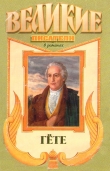Текст книги "Гёте. Жизнь и творчество. Т. I. Половина жизни"
Автор книги: Карл Отто Конради
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 23 (всего у книги 45 страниц)
Путевой дневник
Путешествия в Швейцарию Гёте предпринимал трижды: в 1775, 1779 и 1797 годах. Знатоки и поклонники поэта и страны давно уже тщательно все изучили и реконструировали. Прошли все пути, которыми ходил когда–то знаменитый путник, поднялись каждой горной тропинкой, которой поднимался он, каждую скалу, на которую когда–то, возможно, упал его взгляд, осмотрели со всех сторон, каждый дом или гостиницу, где он побывал, изучили и воспели в стихах. В общедоступных изданиях (карманные книги издательства «Инзель») заинтересованный читатель сможет день за днем восстановить жизнь Гёте в Швейцарии. А мы воздержимся от подробного описания. Уместно в данной ситуации лишь дать обзор путевых записей самого Гёте. Это специфические небольшие тексты, которые оказались в разных изданиях Гёте после многих запутанных приключений.
От первого путешествия 1775 года осталась тоненькая тетрадка записок в 15 рукописных страниц. Записи начинаются 15 июня, они весьма фрагментарны, кроме них, в тетрадке несколько известных стихотворений. Позднее Ример написал на обложке: «Дневник. Путешествие в Швейцарию, 1775 год». Сохранилось также 29 рисунков. Самый известный среди них «Граница. Взгляд в Италию с Готарда». «Поэзия и правда» рассказывает об этом первом путешествии в восемнадцатой и девятнадцатой книгах.
Для журнала «Оры», который издавал Шиллер, Гёте, использовав старые записи, написал в 1796 году серию «Писем из Швейцарии». Литературная фикция состояла в том, что письма обнаружены в наследии Вертера. Но потом напечатаны были не эти письма, а несколько
300
действительных, написанных во время второго путешествия. Фиктивные письма Вертера увидели свет лишь в 1808 году в собрании сочинений, изданном Коттой, и опять–таки под названием «Письма из Швейцарии».
Именно по этому признаку их было легко отличить от документальных сообщений о втором путешествии, которые раз и навсегда были названы «Письма из Швейцарии. 1779 год». В письмах, которые якобы обнаружились в наследии Вертера, есть, между прочим, фрагмент, полностью опровергающий идеализацию свободных швейцарцев: «Швейцарцы свободны? Свободны состоятельные бюргеры в закрытых городах? Свободны бедняки в своих ущельях и на скалах? И чего только не внушают людям! Особенно если эту старую сказку сохранять в спирту». Какое точное понимание того, как многое в жизни Швейцарии традиционно приукрашивают те, кто этой жизнью не живет и трудностей ее не знает. Путевые заметки о Швейцарии были модой в те времена, их охотно читали все. Софи фон Ларош в 1793 году опубликовала «Воспоминания о моем третьем путешествии в Швейцарию», Фридрих Леопольд цу Штольберг в своих «Путешествиях по Германии» 1794 года также вспомнил о швейцарских впечатлениях.
Во время третьей поездки в Швейцарию в 1797 году – длительное пребывание в Италии имело уже десятилетнюю давность – Гёте уже вел регулярные обстоятельные записи, в которые, по его собственным словам, все, что он узнал, и все, что он увидел, заносилось самым добросовестным образом. Из этих материалов Эккерман впервые сформировал и опубликовал в «Произведениях из рукописного наследия» (1833) объемистый текст, состоящий из фрагментов, подобных письмам и дневниковым записям. С тех пор он известен под названием «О путешествии в Швейцарию через Франкфурт, Гейдельберг, Штутгарт и Тюбинген в 1797 году».
До Сен–Готардского перевала Гёте поднимался тогда, в 1775 году, вместе с Пассавантом, теологом из Франкфурта, с которым он встретился вновь у Лафатера в Цюрихе. Поднимались в несколько этапов. Отправиться потом в Италию – этот план его вдохновлял, но был потом отброшен. Мысли о Лили и Франкфурте удерживали беглеца. Многодневное путешествие к Сен–Готарду было, без сомнения, самой впечатляющей встречей с природой во время этого первого путешествия. Впервые Гёте открылась спокойная мощь и величие горного ландшафта. Тогда он еще не
301
стремился открывать в явлениях природы ее закономерности. Как некая прелюдия воспринимается рукописная запись от 18 июня: «В облаках и в тумане дивно прекрасный мир». Это написано вблизи от Риги и предваряет желание, высказанное в письме к Шарлотте фон Штейн: «Чтобы я смог повести тебя, как я люблю, на вершину скалы и показать тебе оттуда мир во всем богатстве и красоте» (12 апреля 1782 г.). В «Анналах» короткой фразой подводится итог: «Первое путешествие в Швейцарию открыло мне широкую панораму мира». Стариком Гёте счел нужным высказываться о «бессмысленных поездках по Швейцарии» в насмешливом стиле: «Лазить по горам и удивляться пейзажам мы тогда считали бог весть каким подвигом» (письмо Неесу фон Езебеку от 31 октября 1823 г.).
Тоненькая тетрадка, на первой странице которой рукой Лафатера написана дата: «15 июня 1775 года, четверг, утро, на Цюрихском озере», ярко отражает настроение тех дней швейцарского путешествия. «Вечер, десять, в Швейцарии (Швиц). Уставшие и бодрые сбежали с горы, со смехом и испытывая жажду. Будоражились до полночи… Потом улеглись, ели прекрасный сыр. Блаженствовали, строили планы». Но особенно привлекательны в своей непосредственности самые первые страницы с описанием утра на Цюрихском озере. Весть от людей, искушенных в литературе, которые, как видно, хорошо знают Клопштока. Его «Вторая ода о поездке на Цюрихское озеро» была напечатана в Цюрихе в 1750 году. Под названием «Цюрихское озеро» она до сих пор остается одним из самых известных стихотворений знаменитого поэта, того самого Клопштока, который в конце марта вновь посетил Гёте во Франкфурте и которого так почитали братья Штольберги.
Прекрасны, Природа–мать, узоры твоих щедрот
На зеленых лугах, прекраснее радостный лик,
На котором отражена
Мысль о созданьях твоих…
(Перевод А. Гугнина)
Под стихами такого рода компания на Цюрихском озере могла бы подписаться без принуждения. Жен и подруг тогдашних посланцев Клопшток также цитировал, упомянул и вино в своей оде, оно так мило кивает ему, «подсказывая чувства, / Лучшие, благородные чувства и стремления». Друзья играли в этот день,
302
15 июня 1775 года, особую игру: кто–то предлагал две пары рифм, другой должен был написать с ними четверостишие. Может быть, Гёте хотел перебить чувствительные стихи Клопштока о женщинах и вине, может быть, у него были на памяти популярные песенки Вейсе: «Без любви и без вина / Что б наша жизнь была». Так или иначе, первой записи в тетрадке он предпослал веселые строчки стиха: «Без вина и без женских щедрот / Нас было б не больше трехсот / Без вина и без милых дам / Пусть идет все ко всем чертям». В «Фаусте» число возрастает («Раздолье и блаженство нам, / Как в луже свиньям пятистам!» – 2, 84).
Сразу после этих строк без заглавия начинается сконструированное на заданных рифмах стихотворение.
Посредством пуповины я
Теперь вкушаю вкус земной.
И яств земных вокруг меня
Неисчислимый рой.
Качает наш челнок волна,
В такт качке – взмах весла.
Наш путь далек, но цель видна —
Пусть тучам несть числа.
Взор мой взор – ты что в печали,
Золотые сны сбежали,
Прочь мечта, хоть ты красива,
В жизни есть любовь и диво.
На волнах блистают
Сонмы звезд золотистых,
И туманы съедают
Виденье далей чистых.
Утренний ветер резвится,
По заливу рябь несет,
В озеро не наглядится,
Как в зеркало, зреющий плод.
(Перевод А. Гугнина)
В позднейшей редакции отчетливая трехчастность получила в стихотворении и внешнее выражение: последние восемь строк составили третью строфу. Счастливое чувство безопасности на лоне природы, беспокоящие воспоминания, которые сейчас и здесь теряют свою власть, полное умиротворение и надежды, ощущение контакта с окружающим пейзажем – то же, что и в послании, – высказано теперь в стихотворении, прекрасно выстроенном, запись в тетрадке
303
не имеет ни одной корректуры. Однако вряд ли оно возникло спонтанно прямо на озере и было тут же записано, как бы привлекательна ни была эта мысль и как бы хорошо она ни подходила к стилю стиха, выдержанного в настоящем времени. Разные фазы стиха, отграниченные друг от друга переменой стихотворного размера, также не следует воспринимать как отражение временной последовательности сменяющихся впечатлений. Подобно тому как отдельные строчки объединяют противоречия в одном стихотворении, так и авторское «я» поэта являет собой объект переменчивых настроений.
Словечко «теперь» вначале разделяет счастливое пребывание в настоящем и то, что было до сих пор, о чем подробно не говорится. (В позднейшей редакции этот момент еще усилен «открытым» началом с «и», а также прилагательными «свежий», «новый», «свободный».) Мы знаем уже, что Гёте в это время был далеко от франкфуртских неурядиц, записывая эти рифмы в свой дневник, он был готов к восприятию нового и ощущал в себе прилив продуктивных сил, именно в этом смысле Гёте использовал смелый образ «пуповины», который наглядно показывает его связь с питающей природой. Впечатляюще концентрированно и в то же время широко показана природа во втором четверостишии: как соотнесены между собой разные виды движения, далекая и близкая перспектива, как все, что движется и создает движение, соответствует ритму гребца! Вспоминается «объятый, объемлю» Ганимеда. Однако эту ассоциацию перебивает счастливое сознание безопасности под защитой природы. Лишь энергичный отказ от «золотых снов» (образ, возникавший уже в стихотворении «Белинде») может вернуть юношу в жизнь сегодняшнего дня. И вот в следующих восьми строках снова возникает образ природы с близкой и отдаленной перспективой, высями и просторами, в легком, спокойном движении: ощущение покоя создается рядом фраз одинаковой длины, соединенных простыми рифмами; созревающий плод – это символ надежды на будущее, которое сулит благо. Так, как бы наблюдая самого себя и радуясь своему созреванию, плод дает собственное отражение. Для человека, который отброшен назад мыслью о перенесенных тревогах, эти образы природы превращаются в символ благополучного исхода.
С полным правом часто говорилось о том, что в этом стихотворении ярко проявилось умение Гёте пользоваться поэтическими символами: увидеть в
304
особом общее и воплотить его в поэтическом образе. Правда, не следовало бы забывать, что финал стихотворения, стремясь к разрешению личного и одновременно общественного конфликта, о котором говорится в стихотворении, предлагает лишь одно общее явление в природе – созревание плода. Это не означает никаких гарантий, а лишь некую надежду. Ведь человеческое развитие не есть простой процесс природы, где вся задача в том, чтобы дождаться созревания цветка и превращения его в плод.
В своем движении от внутренней жизни природы к спокойному созерцательному ее восприятию это стихотворение позволяет увидеть дальнейший жизненный путь Гёте, который он прошел, чтобы постигнуть природу и мир в их предметной взаимосвязанности. Так устанавливается связь между финалом стихотворения «На Цюрихском озере» 1775 года и столь интимным началом «Писем из Швейцарии» 1779 года: «Значительные явления погружают душу в прекрасное спокойствие, она наполняется ими, чувствует, сколь значительной может стать она сама, это чувство ее переполняет, не переливаясь через край. Мой глаз и моя душа охватывали явления, и поскольку я был чист и возникавшее чувство ни разу не оскорбил фальшью, то оно воздействовало на меня именно так, как и должно было воздействовать».
Первое путешествие в Швейцарию ничего не разъяснило и ничего не излечило. Гёте по–прежнему рвался между тоской по Лили и стремлением к независимости. В дневник он записал четверостишие, которое лаконично обобщило противоречие. Под заглавием «С горы в море» он сделал пометку, как бы отсылая будущего исследователя к реестру своих произведений: «См. частный архив поэта. Буква «Л»». Затем следует четверостишие:
Если б я тобой не грезил, Лили,
Как меня пленил бы горный путь!
Но когда бы я не грезил Лили,
Разве было б счастье в чем–нибудь?
(Перевод М. Лозинского [1, 114])
Возвращение. Разрыв с Лили
Обратный путь опять вел через Страсбург. Гёте поднялся на башню собора. В третий раз этот шедевр ар–305
хитектуры произвел на него сильнейшее впечатление: впервые – в студенческие годы 1770—1771–й, что отразилось потом в сочинении «О немецком зодчестве»; затем – по пути в Швейцарию в мае 1775 года; и теперь, вновь испытав восторг, он воплотил его в стихотворении в прозе «Третье паломничество ко гробу Эрвина в июле 1775 года». Его ранний гимн, посвященный собору Эрвина фон Штейнбаха, был «страничкой скрытой душевности», его «читали немногие, к тому же не понимая многих мест» […]. Это было странно – об архитектурном сооружении говорить таинственно, укутывать факты в загадки, поэтически лепетать о пропорциях здания! Теперь он смотрел с башни собора «в направлении отечества, в направлении любви», в те места, где жила Лили. И опять, вновь вдохновленный Страсбургским собором, он пел восторженный гимн творческой силе, которую не должны связывать внешние правила, подобно природе она должна творить в своей первозданной полноте: «Ты един, и ты жив, ты зачат и созрел, ты не собран из частей и заплат. Пред тобой, как пред вспенившимся водопадом могучего Рейна, как пред сияющей, вечно заснеженной вершиной горы, как пред зрелищем широко раскинувшегося, радостно–синего моря или скал, упершихся в облака, и твоих сумеречных долин, серый Сен–Готард, как пред великой мыслью мироздания, в душе оживают все творческие силы, в ней заложенные. В поэзии они что–то невнятно бормочут, на бумаге, в штрихах и в линиях, тщетно силятся воздать хвалу вседержителю за вечную жизнь, за всеобъемлющее, неугасимое чувство того, что есть, было и пребудет во веки веков» (10, 21).
Достойна упоминания в это пребывание Гёте в Страсбурге его встреча с врачом Иоганном Георгом Циммерманом. Когда он, сотрудник Лафатера в физиогномических исследованиях, разложил перед Гёте собранные им силуэты и портреты, он обратил внимание гостя на портрет дамы, с которой в течение некоторого времени состоял в переписке. Гёте прокомментировал силуэт, не подозревая, что очень скоро эти слова приобретут большое значение в его собственной жизни. «Было бы очень интересно увидеть, как мир отражается в этой душе. Она видит мир как он есть и все–таки через призму любви. Поэтому главное впечатление – мягкость». Это была не кто иная, как Шарлотта фон Штейн. Именно ее облику он дал такую интерпретацию. Сразу же по возвращении во Франкфурт он послал Лафатеру небольшие пояснения по поводу си–306
луэта, который его так заинтересовал (31 июля 1775 г.). Некоторые определения («твердость, довольство собой, доброжелательность, верность, побеждает, завлекая») воспринимаются сегодня как иронические предсказания той судьбы, которая ожидала его в Веймаре. Циммерман познакомился с госпожой фон Штейн на курорте в Пирмонте, потом писал ей об авторе «Вертера», который, судя по всему, очень ее интересовал, а теперь Циммерман привлек к ней внимание Гёте. Мужа Шарлотты фон Штейн, обер–шталмейстера, он также встречал в свите веймарского герцога во время путешествий. О яркой личности швейцарского врача и популярного философа, который позднее был принят в родительском доме во Франкфурте, Гёте подробно рассказал в «Поэзии и правде» (кн. 15). С 1768 года Циммерман служил лейб–медиком английского двора в Ганновере, в образованных слоях общества своего времени он приобрел известность трудами «О национальной гордости» (1758), «Об опыте в искусстве врачевания» (1763—1764), «Об одиночестве» (1773). Он считался тонким психологом, врачом, который понимает больного, при этом отчасти подозрительным ипохондриком, «частично сумасшедшим», как выражался Гёте.
22 июля «сбежавший медведь», «улизнувшая кошка» возвратилась во Франкфурт. Начался второй этап призрачной любви к Лили. «Напрасно разъезжал три месяца по белу свету, напрасно всеми чувствами впитывал тысячи новых впечатлений» [XII, 165], – сообщал он своей доброжелательной корреспондентке Августе цу Штольберг уже 3 августа. Он не мог без Лили. Все душевное смятение возвратилось вновь. Он проводил с ней много времени во Франкфурте, в Оффенбахе, у общих знакомых, его еще не отпускало чувство, которое, как говорил Гёте, его к Лили «приворожило» (14 сентября 1775 г.). Но уже стали появляться мучительные моменты напряжения и постепенного отчуждения. Тот, кто написал насмешливое стихотворение «Зверинец Лили», не мог всерьез поверить, что сможет чувствовать себя как дома в ее мире, в кругу ее семьи, который был обычным местом встреч богатой аристократии. Влюбленным, видимо, так и не удалось по–настоящему узнать друг друга. Осенью Гёте и сам это понял. Густхен Штольберг он писал в отчаянии: «Не чрезмерная ли это гордость требовать, чтобы девушка узнала меня до конца и, узнав, полюбила? Может, и я ее не понимаю, и если она другая, чем я, то не лучше ли она, чем я, Густхен?!»
307
(14 сентября 1775 г. [XII, 168]).
Родители в доме на улице Гросер–Хиршграбен со своей стороны не были в восторге от такого выбора. Им была бы милее невестка, обладавшая необходимыми домашними добродетелями, такая, как Сусанна Магдалена Мюнх, с которой его свели друзья, предложившие безобидную игру в «жениха и невесту». В конце пятнадцатой книги «Поэзии и правды» Гёте рассказал об этом с забавными подробностями. «Статс–дама» Лили ни в коей мере не импонировала старшему Гёте. Возможно, что отчасти здесь были замешаны также и религиозные мотивы. Жена его сына не должна была происходить из реформатских кругов: во всем лояльный императорский советник, Гёте, однако, не хотел согласиться с тем, что кальвинисты имели в центре города свой собор.
Гёте стоило немалого труда вновь привыкнуть к обстановке во Франкфурте и к своим адвокатским делам. Уже около 8 августа он жаловался другу Мерку, что опять «сидит в дерьме» и готов надавать себе пощечин, что не провалился в преисподнюю… «До конца этого года я должен отсюда уехать. Не знаю, как дожить до этого, а пока скольжу по этому бассейну, как в гондоле, и торжественно готовлюсь к охоте на лягушек и пауков». Ничтожность дел, которыми приходилось заниматься с соблюдением всей торжественной юридической процедуры, наполняла его отвращением. Как можно скорей покинуть Франкфурт было вопросом решенным.
А пока продолжались светские увеселения, на которых Лили и Иоганн Вольфганг появлялись, как пара, узы, соединявшие их, не были еще разорваны. Но 10 сентября, когда в Оффенбахе праздновали свадьбу кальвинистского священника Эвальда, в конце праздничного стихотворения («Песнь содружества, пропетая юной паре четверкой») Гёте намекнул, что разрыв близок.
Все дальше шагом смелым
Куда–то жизнь спешит
И от родных пределов
Все взоры ввысь стремит.
И вот уж долго–долго
Родной не видим круг.
И кто–то втихомолку
Слезу обронит вдруг.
Но пусть вас боль утраты,
Друзья, не удручит,
308
Когда судьба собрата
Навеки вас лишит:
Душою будет вечно
Ваш образ он хранить —
Ведь в памяти сердечной
Любовь не угасить.
(Перевод А. Гугнина)
Несколько дней спустя Гёте написал длинное письмо Густхен Штольберг, похожее на дневник, единственный документ кризиса, который ему предстояло преодолеть. Это письмо, датированное 14—19 сентября, напоминало послание – «неплохая заготовка для небольшой вещицы», – которое Гёте написал из Лейпцига Беришу 10 ноября 1767 года, также будучи в критическом состоянии. Опять свидетельство раздвоенности и душевной муки. В некоторых местах витает тень вертеровских настроений: «Я предоставляю волнам нести себя и только держу руль, чтобы меня не выбросило на берег. И все же я выброшен. Я не могу расстаться с этой девушкой […]. Я бедный, заблудший, потерянный […]. Какая жизнь! Продолжать ли мне ее? Или с этим навеки покончить?» И все–таки среди своих беспокойств и сомнений Гёте нашел спасение: он подумал о множестве людей, стремящихся к нему издалека, и еще о том, что этот тяжелый этап его жизни тоже обогащает его. Гёте всегда был уверен, что в его жизни заключен скрытый смысл, и это его поддерживало. Отсюда не следовало, что счастье и «приятность» были гарантированы раз и навсегда, уже в старости Гёте говорил, что за 75 лет, которые он прожил, наберется едва ли четыре недели такого счастливого состояния (письмо Эккерману от 27 января 1824 г.). Большим письмом к своей далекой корреспондентке он закончил 1775 год, как будто бы уже сейчас, в сентябре, решил подвести итог этого счастливого и трудного этапа: «И все же, дорогая, если я опять почувствовал среди этой пустоты, что мое сердце освобождается от множества оболочек, что конвульсивное напряжение моей маленькой нелепой души ослабевает, что мой взгляд на мир становится веселее, мое обхождение с людьми увереннее, тверже, проще, а мой внутренний мир остается – единственно и навеки – посвященным вечной любви, которая постепенно духом чистоты (а он и есть любовь) вытесняет все чужеродное и наконец становится прозрачной, как золотая ткань, тогда я даю всему идти своей чередой,
309
обманывая, быть может, самого себя, – и прославляю бога. Спокойной ночи! Адье, аминь! (14—19 сентября 1775 г. [XII, 173]).
Разрыв произошел во время осенней ярмарки. Вполне возможно, что в конце концов и мать Лили стала противницей этого союза. Для нее не могли остаться тайной «богемные» замашки молодого человека, крайняя переменчивость его настроений, полная неясность в смысле будущей профессиональной карьеры. Как бы там ни было, несомненным представляется одно: в ярком свете огней «с чуждою толпой» («Белинде») молодым людям не удалось по–настоящему понять друг друга, ясно и то, что Гёте опять испугался зависимости прочных уз. Лишь много позднее оба поняли, что они потеряли, когда решили расстаться.
Лили, которая в 1778 году вышла замуж за страсбургского банкира Бернгарда Фридриха фон Тюркгейма, познала в жизни много трудностей. Фирма Шёнеманов во Франкфурте в 1784 году потерпела крах. Все имущество продали с молотка. Лили фон Тюркгейм также коснулось это банкротство. Ликвидация фирмы была большой бедой, подрывавшей честь. «За мной стали внимательно и жестко наблюдать. В глазах моего свекра самым подходящим было для меня теперь место первой служанки в доме. А ведь я знала счастье, – писала она Лафатеру 23 марта 1785 года (прошло полгода после банкротства родительской фирмы и ровно десять лет после того 1775 года), – жизни в окружении друзей и тем острее теперь ощущала пустоту своего существования, чем сильнее была потребность любви в моем сердце». Ничего не осталось от беззаботности тех девических лет на Майне, от капризов, когда–то так смущавших Гёте, в этих и подобных высказываниях взрослой Лили Шёнеман. Последствия Французской революции принесли семейству Тюркгейма, который еще в 1792 году был избран мэром Страсбурга, заботы, беду и угрозу для жизни. Но бегство и возвращение удалось пережить, как–то можно было существовать дальше. Тюркгейм, роялист по убеждениям, стал при Бурбонах даже депутатом парламента в Париже. Лили – об этом говорят ее письма и сообщения о ней – проявила стойкость во всех перипетиях жизни, серьезность и чувство ответственности за свою семью, о которой она должна была заботиться. Она умерла в 1817 году. Воспоминания о 1775 годе остались ей дороги.
В старости Гёте говорил, что дни его любви к Лили были счастливейшим временем его жизни. После
310
расторжения помолвки в нем еще долго жило печальное и горькое чувство связи с ней вместе с болью разлуки. Об этом говорят полные скорби стихи, каких по того не бывало: «Осенью», «Тоска», «Блаженство печали», «Золотому сердечку, которое он носил на груди». В одном из экземпляров первого издания «Стеллы» 1776 года он написал посвящение:
В тени долин, на оснеженных кручах
Меня твой образ звал:
Вокруг меня он веял в светлых тучах,
В моей душе вставал.
Пойми и ты, как сердце к сердцу властно
Влечет огонь в крови
И что любовь напрасно
Бежит любви.
(Перевод М. Лозинского [1, 123])