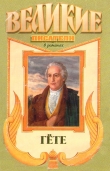Текст книги "Гёте. Жизнь и творчество. Т. I. Половина жизни"
Автор книги: Карл Отто Конради
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 25 (всего у книги 45 страниц)
Конец жизненного этапа
Гёте переехал в Веймар и вскоре после этого взял на себя целый ряд ответственных государственных обязанностей. Это означало конец определенного этапа жизни. Именно так он представлял себе его, оглядываясь назад. Последние страницы «Поэзии и правды» рассказывают о том, как, отправившись в Италию, он в Гейдельберге получил известие о том, что карета веймарского камергера наконец прибыла во Франкфурт, и тут же повернул назад. В тексте автобиографии, намекая задним числом на то, какое значение для него имел этот оборот дела, Гёте говорит о своем решении отправиться к Тюрингенскому двору словами Эгмонта, содержащими образ большой художественной силы: «Дитя! Дитя! Довольно! Словно бичуемые незримыми духами времени, мчат солнечные кони легкую колесницу судьбы, и нам остается лишь твердо и мужественно управлять ими, сворачивая то вправо, то влево, чтобы не дать колесам там натолкнуться на камень, здесь сорваться в пропасть. Куда мы несемся, кто знает? Ведь даже мало кто помнит, откуда он пришел» (3, 660).
Хотя на новом месте сначала мало изменился стиль жизни, подобной бурному гению, однако после 1776 года больше ничего не было создано такого, что безусловно можно было бы отнести к «Буре и натиску». (Разве что стихотворения «Морское плаванье», сентябрь 1776 года, и «Зимнее путешествие на Гарц»,
323
декабрь 1777 года, еще сохранили связь с этими настроениями.) Да и вообще в это веймарское десятилетие, от 1776 года до начала итальянского путешествия в 1786 году, поэзии почти не было места в жизни, до отказа заполненной работой, в этом мире деловых бумаг, заседаний и прочей административной прозы.
Поэтому сейчас надо попытаться ретроспективно обобщить то, чего Гёте достиг в тот период своей творческой деятельности, когда он был связан с «Бурей и натиском». То, что драма Максимилиана Клингера «Буря и натиск», давшая имя движению, появилась лишь в 1777 году (а была написана годом раньше), не имеет никакого значения. Очевидна ее связь с теми тенденциями, которые возникли уже в конце 60–х годов и просуществовали вплоть до 80–х. Как это бывает почти всегда в художественных «периодах» (и не только художественных), которые обычно провозглашают и оберегают потомки, стремящиеся упорядочить историю, часто совершенно разные явления существуют одновременно. В то время как «бурные гении» еще продолжали действовать, то, что относили к Просвещению, полностью сохраняло актуальность так или иначе до конца века. А когда Фридрих Шиллер заявил о себе драмой «Разбойники» (1781) и стихами «Антологии 1782 года», встав тем самым в ряд «бурных гениев», Гёте давно уже шел другими путями. «О полноте души» – так называется сочинение, опубликованное графом Фрицем цу Штольбергом в 1777 году. Именно это есть главное требование, слова «полнота души» могли бы послужить эпиграфом ко всему тому движению, которое началось в те месяцы 1770– 1771 годов, когда Гёте и Гердер были в Страсбурге, и достигло кульминации в пьесах Шиллера «Разбойники» и «Коварство и любовь». Это были произведения литераторов в возрасте от 20 до 30 лет – Гердера и Гёте, Клингера и Ленца, Вагнера и Лейзевица и т.д.
В истории литературы с некоторых пор установилось мнение, что «Бурю и натиск» не следует рассматривать как движение, противодействующее рациональной культуре Просвещения, а, скорее, как продолжение, развитие, расширение просветительских тенденций. Воплощая в словах и формулировках новые впечатления и новый опыт, непосредственно выражая чувства и страсти и утверждая их право на существование, штюрмеры разрушили границы, которые
324
ставило Просвещение, утверждавшие приоритет рационального и нормативного восприятия мира, природы и человека. Таким образом, Просвещение охватило новые области человеческого существования, до того не исследованные стороны человека и его опыта. Человек в целом, его интеллектуальные и эмоциональные возможности стали предметом изучения, ему должна была быть обеспечена возможность полностью реализовать себя. Призыв к свободе, в полный голос прозвучавший в драме, поэзии и прозе, был основой для самоосуществления. До сих пор она на каждом шагу встречала препятствия: политические, сословные, церковные, правовые, моральные. Вопрос о том, что такое свобода человека и как она может быть реализована, не ущемляя при этом прав отдельной личности, начиная с XVIII века продолжает оставаться объектом борьбы и предметом дискуссий. Осуждение придворного стиля, нормы и регламентации которого ставили преграды на пути всестороннего развития человека, было программой действий. «Отполированная нация» отвергалась, потому что, «как только нация будет отполирована […], она утратит характер. Масса индивидуальных ощущений, их сила, способ восприятия, действенность, которые связаны с этими отдельными восприятиями, – все это черты, характеризующие живые существа» («Франкфуртские ученые известия», 27 октября 1772 г.). О том, насколько сложными были процессы освобождения от придворных представлений, свидетельствует творчество и эстетические учения буржуазных писателей, таких, как Готшед и Геллерт.
«Бурные гении» решительно подчеркивали волю чувствующего и стремящегося к деятельности субъекта. Содержание его стремлений было, правда, весьма разнообразным: от выражения нового ощущения счастья, не выходящего, впрочем, за пределы частной сферы, до достаточно резкой общественно–политической критики; от чисто эмоциональной личной религиозности до осторожных реформ в общественной и частной сферах. Здесь многое перемешивалось. Во многих драмах словно эхом откликался призыв к свободе гётевского Гёца, его поза «прекрасного парня» произвела впечатление. Социально–критическая тема была подхвачена. Именно так, например, рассматривалась судьба детоубийцы, осмыслялись подлинные причины ее отчаяния. Обрушивались на привилегии дворянства, если его представители делали из них вывод
325
о своем безусловном праве распоряжаться судьбой других людей. Однако переворот не был провозглашен целью, так что и дворяне спокойно могли включиться в хор борцов за свободу или в произведениях добросовестных бюргеров выступить в роли борцов за лучшее будущее. Говоря о республике и республиканской конституции, совсем не обязательно имели в виду конституцию государственную так, как это делаем теперь мы. Имелась в виду свобода гражданина государства, не связанная с определенной формой правления. Никакой целостной политической концепции молодые люди того времени не имели. По большей части это были представители буржуазии, получившие образование часто ценой больших лишений. Главным препятствием к созданию такой концепции были особые условия существования Германской империи, раздробленной на мелкие и мельчайшие владения, сильно отличавшиеся друг от друга, со слабой, далекой от единства буржуазией.
Вклад Гёте уже нами очерчен. Было бы очень просто попытаться свести все созданное и намеченное им к одному общему знаменателю: стремление к творчеству в манере бурного гения; наслаждение прекрасным и сильным слогом; показанное в некоторых стихотворениях единство природы, любви и чувствующего «я»; восприятие природы как силы, «поглощающей силу», «прекрасное и безобразное, доброе и злое», где все существует рядом на равных правах («Прекрасное искусство Зульцера»); поиски истоков, поэтическая интерпретация двойственных мотивов человеческого поведения, неверности, колебаний; прославление динамической жизни на основе уверенности в своих силах: «вцепиться, схватить – вот в чем суть любого мастерства» (июль 1772 г.). Широта тематического охвата, разнообразие художественных средств, с которыми он экспериментировал, поразительны. Правда, счастье нашло себе место только в его стихах, да и там часто хрупкое, как будто оно начинается со слов «и все–таки».
Нельзя безусловно принять все, что было создано молодым Гёте. Мы наталкиваемся на проблемы и противоречия, которые не выражены в текстах непосредственно. То, о чем говорил Гёте, было – в этом никто не сомневается – великим проектом, рожденным в сомнениях и колебаниях, о чем свидетельствуют письма, и этот проект был мечтой об осуществлении человеческой жизни. Как будто бы существует автономная
326
творческая сила, независимость действия и самоосуществления в творчестве и в творении (отсюда подчеркнутое значение художника), как будто бы при обмене товаров не происходит отчуждения между создателем и продуктом, не возникает изолирующая ситуация конкуренции, разрыв между отупляющей работой и редкими моментами согласия с самим собой. Как будто бы блаженное чувство единства с природой можно сохранить сколько–нибудь надолго и наша связь с ней не является постоянно действующим конфликтом (в котором «природа» медленно, но верно приближается к своей возможной гибели). Как будто бы провозглашенная в «Майской песне» любовь к природе и наслаждение ею есть не фикция, а реальность и как будто бы эта любовь не наталкивается на каждом шагу на ограничения общественные, классовые, социальные и не разбивается до крови. Гёте и сам столкнулся с этим уже в 1775 году.
Но в проектах и произведениях молодого Гёте по–прежнему сохраняется то, что не было реализовано: не нашедшее удовлетворения требование прав для индивидуума, его объединения с природой, его стремления к самоосуществлению; неосуществленное заключает в себе требование общественного переустройства.
В дальнейшей жизни Гёте относился неодобрительно к делам своей молодости. Многое из юношеских устремлений и требований казалось ему неприемлемым. Прямо–таки безудержным было его желание уничтожить документы тех времен. То, что тогда происходило, представлялось впоследствии слишком запутанным и подозрительным, сила, бившая через край, стала опасной, так как мера и порядок, к которым он теперь стремился, могли оказаться под угрозой. В прозаическом гимне «О немецком зодчестве» он видел теперь только «пыльное облако выспренних слов и фраз» («Поэзия и правда», 3, 428), а идеи «Бури и натиска» подверглись критике целиком. Правда, более или менее приемлемое извинение он нашел для «той прославленной и ославленной литературной эпохи, когда множество молодых, богато одаренных людей со всей отвагой и дерзостью, возможными лишь в такое время, прорвались вперед и без оглядки и не Щадя своих сил создали много радостного и доброго, но – злоупотребив этими силами – также немало досадного и злого» (3, 438). Ему было трудно найти соотношение между частными подробностями тех времен и тем «самым главным и истинным», что
327
господствовало в его жизни и о чем он собирался рассказать в своей книге воспоминаний (письмо Цельтеру от 15 февраля 1830 г.).
В девятнадцатую книгу «Поэзии и правды» Гёте включил пассаж, посвященный идеям бурных гениев и выдержанный в тоне сдержанного отчуждения: «В ту пору гений проявлялся лишь в том, что, преступая существующие законы, опровергал установившиеся правила и объявлял себя безграничным. Быть гениальным на этот лад было нетрудно, а потому не диво, что такое злоупотребление словом и делом заставило всех добропорядочных людей восстать против подобного бесчинства» (3, 637).
Старый Гёте готов был отшатнуться от всего дикорастущего и бесформенного. Оно сулило лишь беспокойство, вожделенная подчиненность природы и жизни строгим законам не могла в нем проявиться. Ему вовсе не противно все то, что связано с Индией, так занимавшее Вильгельма фон Гумбольдта, но «я боюсь его, – писал Гёте 22 октября 1826 года, – оно вовлекает мое воображение в мир безобразный и безобразный, чего я теперь должен остерегаться более, чем когда–либо» [XIII, 503]. Итак, он прекрасно отдавал себе отчет в том, что соблазн бесформенности и разрушения формы все еще для него актуален.
Молодой энтузиазм борьбы за свободу теперь также вызывал только улыбку. «Потребность в независимости» возникает скорее в мирные времена, чем во время войны, когда властвует грубая сила. А тут никто ничего не хочет терпеть: «Мы не хотим терпеть никакого гнета, никто не должен быть угнетен, и это изнеженное, более того – болезненное чувство, присущее прекрасным душам, принимает форму стремления к справедливости. Такой дух и такие убеждения в то время проявлялись повсюду, а так как угнетены были лишь немногие, то их тем более тщились освободить от всякого гнета. Так возникла своего рода нравственная распря – вмешательство отдельных лиц в дела государственные; явившаяся результатом похвальных начинаний, она привела к самым печальным последствиям» (3, 450—451).
После тех, с точки зрения Гёте, непростительных, жестоких событий, которые произошли во время Французской революции, он не мог уже больше одобрять настроения юности. Ненависть к тиранам, провозглашенная когда–то во весь голос, представлялась теперь детской игрой. Ему было странно читать стихот–328
ворения того времени, «проникнутые единой тенденцией, стремлением ниспровергнуть любую власть – все равно монархическую или аристократическую» (3, 452).
У нас нет оснований просто присоединиться к критическим высказываниям Гёте в адрес «Бури и натиска», наоборот, его оценка этих ранних лет дает основания для вопросов. Может быть, это самозащита, стремление оттолкнуть от себя воспоминания о несбывшихся молодых мечтах? Может быть, он хочет заставить себя и других забыть, что переезд в Веймар и жизнь там ознаменовали перелом, невозможность продолжать существование художника и реализовать стремление к независимости? Может быть, смятение молодых лет он решил окончательно списать за ненадобностью? Он, должно быть, не хотел теперь вспоминать своих жалоб на то, что «злосчастная судьба» не хочет позволить ему «равновесия» и «на волнах воображения и возбужденной чувственности он то взмывает в небеса, то низвергается в ад».
Но осенью 1775 года, когда Гёте отправился в Веймар, «главная истина» его жизни была еще от него скрыта. То, что он туда отправился и там остался, несомненно, показывает одно: только художником и адвокатом по мелким делам он оставаться не мог. В этом смысле жизнь в Веймаре была, конечно, отходом от предшествующих лет. Но решению взять на себя в Веймаре административные обязанности, принятому не позднее чем весной 1776 года, нельзя отказать в последовательности. Можно предположить, что выполнение определенных государственных задач Гёте воспринимал как возможность хоть в какой–то мере реализовать в конкретных действиях ту жажду активности, о которой столько говорилось. Многие из его высказываний в письмах и дневниках первых веймарских лет содержат свидетельства этого намерения: воплотить в практической работе на общее благо то творческое начало, которое его вдохновляло и возбуждало. В этом–то и заключается последовательность такого решения.
329
ПЕРВОЕ ДЕСЯТИЛЕТИЕ В ВЕЙМАРЕ
В маленькой стране и в маленьком городе
Свой родной город Франкфурт молодой Гёте насмешливо называл гнездом. Как же надо было обозначить городок–резиденцию Веймар, куда он переехал теперь? Когда позднее он освоился в Веймаре – «какое–то недоразумение, а не город, то ли деревня, то ли резиденция», писал Кнебелю Гердер 28 августа 1785 года, – он уже спокойно сравнивал его со свободным имперским, на Майне, местом коронации курфюрстов и со своей прежней жизнью там. Обращает на себя внимание аргументация его решения туда не возвращаться: главная причина – отсутствие возможностей для реальной деятельности. Когда выбор Веймара стал окончательным, Гёте писал: «Я, верно, тоже останусь здесь и буду играть свою роль так хорошо, как только смогу, и так долго, как заблагорассудится мне и судьбе. Даже если это только на несколько лет, все лучше, чем бездеятельная жизнь дома, где я, при всем желании, ничем не мог заняться. Здесь передо мною как–никак два герцогства» (письмо И. Фальмер от 14 февраля 1776 г. [XII, 187]). Пять лет спустя он напоминал матери о последнем времени, проведенном им около нее: «Если бы все оставалось так, как было тогда, я пропал бы наверняка» (11 августа 1781 г.). Наряду с подобными высказываниями, где он, обращаясь к озабоченным родным и друзьям, как бы подводит позитивный итог, есть много и других, с иной интонацией – слова сомнения относительно выбранного пути, жалобы на перегруженность взятой на себя работой, постепенно появляются и признаки гложущего внутреннего беспокойства.
330
Почти одиннадцать лет, проведенные в Веймаре, с 7 ноября 1775 года вплоть до тайного отъезда в Италию 3 сентября 1786 года, – это период, который в жизни Гёте имеет особое значение. Для того чтобы это понять, необходимо всю государственную и административную деятельность новичка принимать всерьез точно так же, как он сам делал это тогда. В оценке первого десятилетия в Веймаре нельзя исходить из того, в какой мере Гёте удалось продолжить или завершить осуществление своих поэтических замыслов, потому что в Веймар он приехал не для того, чтобы творить, а для того, чтобы, используя представившуюся возможность, советом и делом принять участие в управлении и в организации жизни общества. Тот, кто видит в Гёте только «величайшего немецкого поэта» или «князя поэзии», будет говорить о понесенном ущербе: за 12 лет не опубликовано ни одного крупного произведения, лишь время от времени стихи в каком–нибудь журнале, «Вильгельм Мейстер» начат и не закончен. «Эгмонт», «Ифигения», «Тассо» все еще не завершены, «Фауст» по–прежнему оставался фрагментом. Однако ведь никто Гёте не принуждал если не вовсе забросить поэзию, то, во всяком случае, заниматься искусством только в часы, свободные от служебных обязанностей. И так целое десятилетие. До конца жизни он не отказывался от своих постов, постарался только сократить объем этой работы, чтобы от нее не страдали художественные и научные способности и интересы. Уже в последний год своей жизни он обращался к молодым поэтам: «Юноша, запомни время, / Что возвысит дух и мысль, / С музой ты разделишь бремя, / Ею управлять не тщись!» («Доброжелательное возражение») 1. На что решился двадцатишестилетний Гёте весной 1776 года, какой новый опыт он приобрел, какие пережил разочарования, какие последствия имела для него эта двойная жизнь в маленьком герцогстве Веймарском, жизнь государственного деятеля и художника одновременно, – об этом предстоит рассказать.
Герцогство Саксен–Веймар–Эйзенах было одним из маленьких владений, пятнышком в лоскутном одеяле Священной Римской империи германской нации, возникло оно в результате продолжавшихся веками разделов между наследниками династий. В 1485 году Веттинские земли были поделены между альбертинцами и эрнестинцами, к которым отошел Веймар. Но на этом
1 Перевод Н. Берновской.
331
процесс не приостановился. Поскольку еще не существовало закона о наследовании старшим из детей, то деление земли продолжалось. В Саксен–Веймаре, одном из многочисленных герцогств, возникших таким образом, введение нового порядка положило конец дальнейшему дроблению лишь в 1719 году. Таким образом, в середине XVIII века на территории Тюрингии правило большое количество князей, владевших мелкими и мельчайшими государствами. Тут можно было изучать значение завещаний, брачных контрактов и прочих способов приобретения земельных наделов с точки зрения раздробленности. И всюду содержали дворы с большим или меньшим штатом, в Саксен–Гота–Альтенбурге, в Саксен–Кобург–Заальфельде, в Саксен–Майнингене и других местах.
Веймарское герцогство не было единым, замкнутым государственным образованием. После того как вымерла эйзенахская линия, это княжество, находившееся далеко на западе Тюрингии, было присоединено к Веймару, так в 1741 году возникло герцогство Саксен–Веймар–Эйзенах. Самой большой единой территорией было герцогство Веймар с Йенской областью, которая когда–то (1662—1690) была самостоятельным княжеством, и районом Ильменау, имевшим собственное налоговое законодательство. Севернее, уже ближе к Гарцу, находился район Альштедт. В 1786 году на этой территории проживало не более 62300 человек, тогда как на западе на территории Эйзенаха вместе с франкским районом Остгейм было 46500 жителей.
Итак, в год вступления на трон Карла Августа и приезда в Веймар Гёте население герцогства Саксен–Веймар–Эйзенах не составляло и 110000 человек. Тем не менее существовал административный аппарат со всеми необходимыми подразделениями, правда, и высшим инстанциям в нем приходилось заниматься маленькими проблемами маленького государства. Вся полнота власти принадлежала герцогу, и он, не будучи ни перед кем ответственным, принимал окончательные решения, как в любом другом государстве абсолютистского толка. Если даже герцог видел себя во главе просвещенного абсолютизма и в соответствии с этим считал себя обязанным думать о благе подданных, то это отнюдь не означает, что он позволил бы кому–то усомниться в своих правах на господство или поднять руку на полноту своей власти. В царствующих домах считали, видимо, божественным предопределением или нерушимым законом природы, что подданные должны
332
платить налоги и подати на содержание двора и развлечения. Право на утверждение налогов, предоставленное представителям земель, так называемых земельных сословий, почти ничего не изменило в этом положении. Деспотическое осуществление всех требований господствующих слоев было хорошо известно также и в Веймаре. Правление герцога Эрнста Августа (1688—1748), деда Карла Августа, продолжавшееся с 1707 по 1748 год, беспощадного, самовлюбленного и расточительного деспота в миниатюре, осталось тяжелым воспоминанием. Его страсть к строительству – современники прозвали его «древесным червем» – поглощала огромные деньги. Им были воздвигнуты двадцать небольших дворцов с парками, охотничьих домиков и укреплений. Дворец Бельведер был оснащен по всем правилам новейшей моды: оранжереей, зверинцем, манежем, конюшней, дорогостоящим парком на французский манер. На все эти постройки, сады в Бельведере с 1724 по 1732 год было истрачено 250000 рейхсталеров. Разумеется, деспот, желая прославиться и на охоте, держал сотни собак и лошадей; разумеется, его влекла и военная слава – он тешил себя и содержанием армии. Деньги на такое расточительство поставляла страна. К 1748 году долги двора возросли до 360000 талеров.
Нередко абсолютистские монархи считали нужным поддерживать и развивать просвещение и искусство во имя собственного прославления. Так это было и в Веймаре. В начале XVIII века здесь начали создавать художественные коллекции, приобретая для этого значительные произведения – Кранаха, Дюрера, Рубенса. Музыкальная жизнь также была достойна внимания. В 1696 году во дворце была оборудована оперная сцена, там шли оперы также и на немецком языке. Эта сцена скоро утратила свое значение, однако придворная капелла еще в 1707 году насчитывала 25 музыкантов. Годом позже на службу веймарского двора в качестве придворного органиста был принят Иоганн Себастьян Бах. В то же самое время церковным органистом был другой крупнейший музыкант – Иоганн Готфрид Вальтер. Когда в 1717 году Бах решил оставить службу в Веймаре, деспотизм показал свою власть. После того как первое прошение было отклонено и он вторично подал заявление об отставке, герцог не долго думая распорядился арестовать музыканта «за упрямство». Лишь через несколько недель Бах вышел на свободу и смог отправиться к месту своей
333
новой службы – в Кётен. В 1735 году придворная капелла была распущена, другие увлечения герцога вынудили к этому шагу. Чего он ожидал от веймарской гимназии, стало понятно из новых правил школы 1733 года. Задачей гимназии вовсе не является наводнять университет «массой бесполезных людей, так называемых ученых», – она должна воспитывать таких людей, которые «будут служить богу и отечеству во всех политических службах, особенно в военных должностях […], а прежде всего как канторы и учителя в сельской местности». Критические высказывания подданным запрещаются. В марте распоряжение герцога объявляло: «Сим запрещаю лишние разговоры верноподданных под страхом тюремного заключения сроком на полгода, чиновники обязаны о таких разговорах доносить. Поскольку решения зависят от нас, а не от чиновников, а мы не желаем иметь своими подданными резонеров».
Как видим, было еще очень далеко до тех времен, когда в Веймаре существовало «царство муз» или «веймарская классика», когда Виланд издавал там своего «Тойчер Меркур», а Гёте, Гердер и Шиллер навсегда выбрали город–резиденцию местом своего пребывания. Конечно, традиционная структура власти сохранилась, но лица, которые теперь пользовались правом принимать окончательные решения, стояли на совершенно иных позициях. Может быть, Карл Август (особенно в молодые годы) в чем–то и напоминал деда – своими постоянными разъездами, страстью к охоте, эротическими эскападами, подчеркнутой властностью, деспотичностью, и все–таки внук отличался от предка самым решительным образом, недаром именно с его правлением связано лучшее время в истории Веймара. Когда в 1748 году умер Эрнст Август, было создано правительство регентов, управлявшее страной за малолетнего принца Эрнста Августа Константина (родился в 1737 году). Вскоре большое влияние получил воспитатель принца, граф Генрих фон Бюнау, сторонник идей Просвещения, правительство стало руководствоваться в своих действиях принципами разума. Предпринимались попытки улучшить финансовое положение страны, сократилось число солдат, лошади и собаки были проданы. 29 декабря 1755 года Эрнст Август стал совершеннолетним и вступил на престол, первым министром в правительстве остался фон Бюнау. Однако правление юного герцога закончилось уже 28 мая 1758 года его ранней смертью. За два года до смерти он женился на Анне Амалии, дочери брауншвейгского
334
герцога Карла и его жены Филлипины, сестры Фридриха Великого. 3 сентября 1757 года родился первый сын, Карл Август. Анне Амалии (она родилась 24 октября 1739 года) было восемнадцать с половиной лет, когда она осталась вдовой. Она ждала в тот момент рождения второго сына, принца Константина.
По ее собственным словам, она вышла замуж очень молодой, «как было принято выдавать замуж принцесс». Был ли это брак по любви, трудно сказать. До самой смерти (10 апреля 1807 года), полвека (!), герцогиня–мать прожила в Веймаре вдовой. У нее не было недостатка в деятельной энергии, она стремилась облегчить жизнь своих подданных, сохраняя все свои претензии, власть и достоинство. Анна Амалия была одарена и образована в художественном смысле, писала музыку (например, к «Эрвину и Эльмире» Гёте), рисовала, в поздние годы изучила греческий язык, охотно окружала себя художниками и поэтами, не соблюдая при этом сословных разграничений. Капризы и причуды были ей, видимо, не чужды. Это было и не удивительно, если представить себе жизнь одинокой женщины, предоставленной самой себе, в тисках придворного этикета. Ей стоило огромного напряжения справиться с проблемами, возникшими в столь ранние годы. Она сама рассказала об этом: «На восемнадцатом году началась великая эпоха моей жизни: во второй раз я стала матерью, я стала вдовой, опекуном и регентом. В годы, когда жизнь для человека расцветает, меня окружал лишь туман и мрак. Когда первая буря осталась позади, моим первым ощущением было то, что во мне просыпается тщеславие и самолюбие. Править страной, такой молодой уже иметь возможность делать все, что ты хочешь, – это, конечно, и породило такие чувства. Но самолюбие мое унижало ощущение несостоятельности. Я вдруг увидела большие задачи, которые мне предстояло решить, и почувствовала свою неподготовленность. Дела, о которых я не имела понятия, я доверила людям, накопившим за долгие годы опыт и знания. Какое–то время я жила в состоянии отупения, но потом во мне вдруг ожили страсти. Как будто бы пелена спала с глаз. Мне захотелось признания и славы. День и ночь я занималась, чтобы приобрести знания и подготовиться к тому, чтобы взять на себя ведение государственных дел».
После смерти юного герцога в 1758 году регентом был сначала назначен отец Анны Амалии герцог Брауншвейга–Вольфенбюттеля Карл. Затем, начиная с 1759
335
года, она сама правила в течение шестнадцати лет вместо сына Карла Августа. Когда она приняла на себя обязанности регента, ее дядя, Фридрих Прусский, вел Семилетнюю войну, в которую был втянут и Веймар. Армии обеих враждующих земель проходили по территории герцогства, брали все, в чем нуждались, герцогство было обязано также поставлять империи определенные контингенты войск. Тяжесть долгов, оставшихся еще от времен Эрнста Августа, при таких обстоятельствах не только не уменьшилась, но даже возросла. Вместе со своими советниками Анна Амалия в конце концов добилась того, что последствия войны были отчасти ликвидированы и финансовое положение несколько улучшилось.
Начало культурного расцвета Веймара связано с именем молодой герцогини–матери. «Ей нравилось общаться с людьми духовно одаренными, она всегда искала, берегла и использовала отношения такого рода; все сколько–нибудь значительные личности, имена которых связывают с Веймаром, так или иначе проявили активность в ее кругу» – так писал Гёте в 1807 году в прощальном слове, посвященном герцогине. Конечно, нельзя говорить о том, что «царство муз» при Веймарском дворе создавалось Анной Амалией по какому–то обдуманному плану. Удачный выбор некоторых воспитателей для двух ее сыновей создал то положение, которое так высоко оценил Гёте, а позднейшие поколения стали именовать «классическим Веймаром». Своих детей герцогиня хотела видеть основательно и всесторонне образованными людьми. Особенно тщательно она стремилась подготовить наследного принца Карла Августа к тому, чтобы управлять страной в духе просвещенного абсолютизма: думать о благе подданных, исходя из сознания полноты власти и обязанности выносить окончательные решения, которые должны быть самыми правильными и благотворными. Нам давно уже известно, что такая концепция воспитания наследника престола содержит принципиально неразрешимое противоречие, поскольку подчинение всех единоличному решению властителя ни при каких условиях не может гарантировать благополучия народа. Но в те времена имело широкое распространение убеждение, что властитель, который правит в духе патриархального человеколюбия, вносит необходимый порядок в разнобой индивидуальных требований и что толпа для ее же собственного блага должна подчиняться единому и сильному руководителю.
336
Руководителем воспитания обоих принцев в Веймаре был в 1762 году назначен граф фон Гёрц, который имел также опыт дипломатической службы. Ему помогали домашние учителя. Потом к воспитанию принцев были привлечены также профессора университета для чтения лекций по вопросам права. Образование, полученное принцами, было первоклассным даже для того времени. Они изучали языки, получили знания по литературе, особенно французской, им преподавались математика и история, экономика и философия, разумеется, также верховая езда, фехтование, танцы. Решающим для Веймара было то, что в 1772 году на должность воспитателя принцев удалось заполучить Кристофа Мартина Виланда с жалованьем 1000 гульденов в год и пенсией 600 гульденов, пока он оставался в Веймаре. До того он уже несколько раз приезжал в Веймар из Эрфурта, где преподавал философию в местном университете, так что мог дать обстоятельную и содержательную характеристику способностям Карла Августа и сложностям его характера. Будучи философом жизненной мудрости, он представлялся тем человеком, который сможет достойно завершить воспитание обоих принцев. В 1813 году в своей речи у гроба Виланда «Братское воспоминание о Виланде» Гёте говорил: «Преподавание самого широкого охвата, необходимое принцам, имела в виду любящая мать, сама очень образованная женщина, когда пригласила его сюда, где он мог своими литературными талантами и нравственными установками послужить на благо герцогского дома, на благо нас всех и страны […]. Его поэтическое и литературное творчество было связано с жизнью, и если он не всегда преследовал конкретную практическую цель, то в широком смысле, близкую или далекую, он имел в виду всегда. Поэтому мысли его были ясными, речь выразительной и доступной для всех».