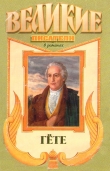Текст книги "Гёте. Жизнь и творчество. Т. I. Половина жизни"
Автор книги: Карл Отто Конради
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 45 страниц)
Зезенгеймская лирика
Образ юного Гёте как замечательного лирика нового типа – это образ уже позднейший. Как ни близок он нам, современникам его он был незнаком. Он нарисован яркими красками позднейшими исследователями и поклонниками. В лирике, посвященной Фридерике, прорвалась, дескать, юная сила и отвага молодого поэта, здесь юность обрела свой язык и немцам новейшего времени раскрылось, что значит быть молодым. Так об этом с воодушевлением говорится. Следует, однако, спросить, подчеркивалась бы в такой мере особенность этих стихотворений, если бы автором их не был Иоганн Вольфганг Гёте и если бы исследователи не знали о его увлечении Фридерикой. Во всяком случае, внешняя форма страсбургской лирики не является чем–то новым и словесное выражение лишь отдельными нюансами отличается от обычного стихотворного языка. Как и прежде, мысль выражается в остроумной форме; «зефир», «весенние божества», «розы», «разрисованная лента» – хорошо знакомый реквизит тогдашней светской лирики, так же как уменьшительные формы «малые веночки», «цветочки», «пучочки» (в стихотворении «Вернусь я, золотые детки…») и «Musen» (музы) рифмуются с «Busen» (грудь)
150
(«Проснись, о Фридерика…»). Стихотворение «на случай», обращенное к сестрам Брион («Вернусь я, золотые детки…»), мог бы написать – тогда, как и сейчас, – любой другой стихотворец. «Да, рыцарь отдохнуть не прочь…» – стихотворение в том же стиле, с юмором и малозначительное.
Художественный материал зезенгеймских стихов не дает оснований увидеть в них что–то новое и особенное. Но иногда нельзя не услышать, как прорываются ноты серьезного чувства. Стихотворение «И цветочки, и листочки…» написано в стиле светской лирики XVIII века, но в последних двух строфах появляется новый нюанс – серьезность выражения чувства.
С РАЗРИСОВАННОЙ ЛЕНТОЙ
И цветочки, и листочки
Сыплет легкою рукой,
С лентой рея в ветерочке,
Мне богов весенних рой.
Пусть, зефир, та лента мчится,
Ею душеньку обвей;
Вот уж в зеркало глядится
В милой резвости своей.
Видит: розы ей убором,
Всех юнее роз – она,
Жизнь моя! Обрадуй взором!
Наградишь меня сполна.
О судьба, пусть миг продлится,
Не гаси любовный жар,
Пусть из розы разгорится
Уж не розовый пожар.
Сердце чувства не избудет.
Дай же руку взять рукой,
Связь меж нами да не будет
Слабой лентою цветной! 1
(Перевод С. Шервинского [I, 73—74], 4–я строфа – А. Гугнина)
1 Первоначальный вариант стихотворения сохранился в рукописи у Фридерики Брион, был опубликован также в 1775 г. в журнале «Ирис». В 1789 г. Гёте при публикации своих сочинении убрал четвертую строфу.
151
Разрисованные ленты по тогдашней моде Гёте делал сам и послал одну вместе с этими стихами в Зезенгейм. За грациозным описанием ленты, которая должна послужить украшением для возлюбленной, и упоминанием ожидаемой награды следует и здесь заключительный вывод. Но здесь не остроумная словесная игра, а обыгрывание двойного значения слова «Band» – «лента» и «узы, связь» («Узы, что нас связывают» – и «лента с розами»). Клопшток написал в 1752 году стихотворение «Лента с розами» («Я нашел ее весной в тени и связал ее лентами с розами» – прозаический перевод). Стихи Гёте как бы продолжение этих стихов. Набор формул светской любовной лирики использовали оба, переключив их в серьезную «исповедальную» тональность; в обоих стихотворениях ключевыми словами стали слова «Band» (лента, узы) и «Leben» (жизнь). У Клопштока любовь захватывает целиком в момент счастья («Я посмотрел на нее, этот взгляд соединил ее жизнь с моей жизнью» – прозаический перевод); у Гёте слова «Band» и «Leben» получают дополнительную временную протяженность: любовь мыслится как длительная связь.
Если признать, что в некоторых строках зезенгеймских стихотворений звучит личное серьезное чувство, то тогда такие слова, как «Herz» (сердце) и «fuhlen» (чувствовать), обретают, несмотря на традиционную форму стихотворения, особое значение, а простота языка служит выражением душевности. Но это нюансы, не больше.
Следует выделить два стихотворения: «Свидание и разлука» и «Майский праздник». В них герой, возлюбленная, любовь и природа предстают с неслыханной до той поры силой выражения. «Свидание и разлука» существует в нескольких редакциях, как и многие другие стихотворения Гёте, – кстати, заголовок у этого стихотворения появился лишь в издании произведений Гёте 1789 года и окончательно определился лишь в 1810 (сначала «Willkomm und Abschied», затем «Willkommen und Abschied») 1.
В седло! Я зову сердца внемлю!
Лишь миг – и конь летел стрелой.
Уже баюкал вечер землю
1 Здесь стихотворение приводится в окончательной редакции.
152
И ночь повисла над горой.
В тумане дуб, гигантом в латах,
Там возвышался в этот час,
Где тьма, таясь в кустах косматых,
Смотрела сотней черных глаз.
Луна сквозь дымку, с гребня тучи,
Смотрела грустно в вышине,
Крылатых ветров рой летучий
Свистел свирепо в уши мне.
Ночные страхи мчались с нами,
Но был я весел, бодр мой конь:
В моей душе какое пламя!
В моей крови какой огонь!
Мы вместе. Счастья неземного
Исполнен взор желанный твой.
Я был с тобой всем сердцем снова,
Мой каждый вздох – тебе одной.
Твой милый облик, детски строгий,
Весны румянец озарил,
И этой нежности, о боги,
Я жаждал, но не заслужил.
Но – ах! – уже зари сиянье,
И сердце сжал разлуки страх.
Какой восторг в твоем лобзанье!
Какая боль в твоих очах!
Я уходил. Слезы участья
Ты не могла во взоре скрыть.
Но все ж любить – какое счастье!
И счастье все ж любимым быть!
(Перевод В. Морица [I, 71—72])
Внешняя форма стихотворения вполне традиционна. Это строфическая форма, которая между 1700 и 1770 годами применялась чаще всего: строфа из восьми строк, состоящая как бы из двух строф с перекрестной рифмой, последняя строка попеременно с мужским или женским окончанием, каждая строка – четырехстопный ямб. Эта строфа характерна для поэзии рококо. Гёте ее, естественно, хорошо знал – например, стихотворения «Истинное наслаждение» и «Свадебная песня» (в «Новых песнях»). Теперь же эта популярная форма должна была выразить совершенно иное содержание. Автор зезенгеймских стихотворений хотел и мог выразить в этих строфах свое переживание
153
любви и природы непосредственно, без привычных общих мест. Одновременно представляется, осмысляется и комментируется в этом стихотворении переживание, имевшее место в прошлом. Ретроспективно сообщается об одном эпизоде. Выхватываются как бы отдельные моменты и ситуации из него: вначале короткая фраза о взволнованном сердце, как будто начинающая некий рассказ, слово «сердце» (оно здесь употреблено четыре раза) служит сигналом эмоционального переживания – и таким остается до конца; затем в этой же стихотворной строчке обращенный к самому себе призыв отправиться в дорогу, верхом, в окружении ночной природы; совсем кратко – встреча: зрелище возлюбленной; расставание и заключительное многозначительное изречение: «Но все ж любить– какое счастье! / И счастье все ж любимым быть!»
Природа здесь, угрожая и препятствуя, противостоит человеку, охваченному страстью. Показательно, как статика, в которой пребывают в лирике рококо отдельные элементы природы, играющие роль декорации, превращается в динамику. Вечер, ночь, дуб, тьма, луна – все это как бы могучие индивидуальности, действующие и оказывающие сопротивление. Ощущается близость к Оссиану. Но «отвага» (Mut) и «огонь» (Feuer) скачущего побеждают. Может быть, в словах «Mut» и «Freude» (радость) появляется дополнительный смысл, известный Гёте по его занятиям герметизмом и подразумевающий оба полюса – «концентрацию» и «экспансию», а при словах «Feuer» и «Glut» (жар, пламя) во второй строфе нам вспоминается «жизненный огонь» размышляющего и рассуждающего в герметизме.
В начале третьей строфы – без всякого перехода – встреча любящих. Обращает на себя внимание простота языка. Простое называние оказывается достаточным; нет необходимости в поэтически преувеличенных образах; цветовое пятно появляется лишь с «румянцем весны» («das rosafarbene Fruhlingswetter»), но оно достаточно симптоматично. Такое словосочетание, как и близкие к нему слова «милый» (lieblich) и «нежность» (Zartlichkeit), как и восклицание «о, боги» (ihr, Gotter), тесно соприкасается с областью кокетливой лирики XVIII века. Слова эти «прикрепляют» девушку к той сфере, от которой далека страстность юноши. И хотя нельзя не обратить внимания, что девушка находится в гармонии с природой в отличие от юноши, противопоставленного ей, и хотя существует сердечная связь
154
между любящими (ее до этого можно обнаружить лишь в XVII веке в некоторых стихах Пауля Флеминга), не кокетливо–игривая, а искренняя и естественная, – все же нельзя еще говорить о самостоятельном и равноценном женском образе.
Изменения, которые Гёте произвел во второй редакции, уменьшают страстную взволнованность героя и почти устанавливают равновесие между любящими. Но полностью это не осуществлено, да и не могло быть осуществлено – это предполагало бы иное положение женщины в обществе.
Последняя строфа начинается сразу же с разлуки. Как протекало свидание – об этом ничего не сказано, не названа причина разлуки. Она свершилась – и к ней мысленно возвращается герой в конце, в последних двух строках, начинающихся словами «Und doch» (но все ж) и заставляющих задуматься. В конце – вывод, но как не похож он на остроумные выводы игривых стихотворений рококо! Это изречение, результат размышлений над любовной ситуацией, ставит ряд вопросов: это «но все ж» противопоставляется именно данной разлуке? Противопоставляется ли «но все ж» разлуке, которая неизбежна в любом случае, потому что этого страстного возлюбленного вообще нельзя удержать? Или за этим «но все ж» скрывается примиренность и предчувствие того, что порывы чувств бессильны перед реальностью?
В стихотворении «Майский праздник», которое стало с издания произведений Гёте 1789 года называться «Майской песнью», природа не противостоит человеку, пытающемуся преодолеть ее, – в неслыханном чувстве счастья природа, «я» и возлюбленная сливаются в абсолютное единство. Это стихотворение–выкрик, стихотворение–порыв. Но в языковом отношении «Майская песнь», если взглянуть на нее непредвзято, едва ли представляет собой что–то исключительное. Лишь сильный акцент на «я» с самых первых строк («Как мне природа / Блестит вокруг…») и выражения, подобные «Blutendampf» (цветочные пары) или «Morgenblumen» (утренние цветы), обращают на себя внимание.
Как мне природа
Блестит вокруг,
Как рдеет солнце,
Смеется луг!
Из каждой ветки
Спешат цветы,
155
От тысяч песен
Звенят кусты!
Веселье, радость
В груди у всех!
О мир, о солнце,
О свет, о смех!
Любви, любови
О блеск златой,
Как зорний облак
Над высью той!
Благословляешь
Ты все поля.
Паров цветочных
Полна земля.
О дева, дева!
Как я томим!
Как взор твой блещет!
Как я любим!
Как любит птичка
Напев и взлет
И утром цветик —
Небесный мед,
Так жаркой кровью
И я люблю.
Ты юность, бодрость
И мощь мою
Мчишь к новым песням
И пляскам вновь.
Так пей же счастье,
Как пьешь любовь!
(Перевод С. Заяицкого [I, 69—70])
В этих стихах не делается попыток познать природу, здесь не нужно преодолевать никаких противоречий, здесь человек полностью отдается чувству счастья, не в силах сдержать радостных восклицаний. Любовь здесь не частное чувство, опутанное общественными условностями, а космическая стихийная сила природы, захватывающая человека целиком.
Мы должны видеть это стихотворение в историче–156
ском контексте, не забывая при этом, что ее создатель писал одновременно Зальцману письма, полные сомнений. Вероятно, найдутся современные читатели, которые это стихотворение – приевшееся к тому же от частого цитирования – сочтут достаточно наивным и сентиментальным, с исторической точки зрения весьма почтенным, но в высшей степени несовременным.
За стихами этого рода установилось обозначение «исповедальная лирика». Этот термин крайне сомнителен, что нетрудно доказать. Термин «исповедальная лирика» подразумевает, что стихи подобного рода насколько возможно непосредственно выражают неповторимо–личное переживание поэта. Этим гарантируется подлинность, аутентичность поэзии. Критики часто ждут от «настоящей» лирики «выражения лично пережитого» и считают высшей точкой в развитии немецкой поэзии так называемую «исповедальную лирику». Неискаженное, непосредственное самовыражение субъекта – вот чего ждут некоторые критики. Германист Эрих Шмидт (1853—1913) однажды сказал: «Со времен Гёте мы требуем от лирика полного, переполненного чувствами сердца».
Но как же можно узнать и проверить, действительно ли в основе того или иного стихотворения лежит «переживание»? Можно ли, должно ли разгадывать, каковы были биографические, психологические поводы у поэта? Делается ли стихотворение ценнее от того, насколько оно насыщено переживанием? Вряд ли. Когда юный Гёте писал свои стихотворения, о которых только что шла речь, он не придерживался существующих образцов. «Я», которое выступало в стихотворении, больше не было героем пасторальной поэзии или другим персонажем светской лирики. Оно несло в себе индивидуальные черты. Это выдвигало в поле зрения в качестве искомой основы стихотворения биографические и психологические факты жизни поэта – и считалось, что необходимо их исследовать, чтобы понять стихотворение и воспринять его как выражение некоего реального «я». Художественный материал, с которым работал Гёте, был таков, что слова и образы имели широкое поле значений и это открывало много новых возможностей. Но Гёте не последовал слепо ни за одним из образцов прежней лирики. Удивляет, впрочем, как ограниченно число словесных гнезд и образов в зезенгеймских стихах и насколько обобщенным остается в них стиль: природа, солнце, луг, цветы, ветки, кусты, счастье, желанье, любовь, аромат, ночь, сердце,
157
светить, сиять, благословлять, любить и т.д. За подобными словами и образами читатель мог и может сейчас, поскольку больше не существует традиционной системы лирического выражения, предположить существование реального субъекта и дополнительно разрисовать его по желанию в своем воображении, равно как и вжиться в стихотворение с собственными чувствами и настроениями. Отсюда и любовь к так называемой «исповедальной лирике».
В это понятие немало путаницы внесло высказывание Гёте в седьмой книге «Поэзии и правды» о том, что на протяжении всей жизни он придерживался одного принципа: превращать все, что его радовало или мучило, в образ, в стихотворение – и поэтому все им опубликованное – это только «отрывки единой большой исповеди» (3, 239). Мы выше ссылались на эти слова, ибо они относились еще к лейпцигской лирике, а не к страсбургской. Когда называют примеры «исповедальной лирики», имеют в виду стихотворения, в которых господствуют настроение и чувство, выражаются переживания и душевные состояния чувствующего и чувствительного субъекта. Но разве не может стать переживанием нечто совсем иное? Например, интеллектуальное размышление, впечатление от произведений искусства, литературы, определение своей политической позиции и т.д.? Короче говоря, понятие «исповедальная лирика», «лирика переживаний» легко можно довести до абсурда, и оно должно быть изъято из дискуссий. Гёте на протяжении своей жизни постоянно писал и иные стихотворения, чем те, которые подходят под этот термин, и они–то особенно ценятся некоторыми читателями.
Завершение учебы и затруднения
Гёте приехал в Страсбург, чтобы завершить свое юридическое образование, сдав соответствующий экзамен. Получение им степени доктора (Dr. Jur.) было горячим желанием отца; сын же со всей серьезностью работал для достижения этой цели. Хотя он в старости и говорил о «разбросанности и раздробленности» своих занятий в Страсбурге, потому что он слишком многим занимался и в университете, и вне университета и, кроме того, его занимала и литературная и светская жизнь, тем не менее юридическое образование не потерпело урона. Правда, он встретился с осложне–158
ниями: диссертация его была отклонена юридическим факультетом.
Остановимся кратко на внешних событиях последнего этапа его занятий. 22 сентября 1770 года Гёте был внесен в матрикул в качестве кандидата и освобожден от написания «dissertatio praeliminaris» (работы, на основании которой допускают к защите), что разрешалось только по отношению к хорошим студентам. 25 и 27 сентября Гёте сдал успешно два предварительных экзамена и получил разрешение самостоятельно («sine Praeside») написать диссертацию. Он принялся за работу, выбрав странным образом – как это кажется на первый взгляд – тему из области церковного права; закончил ее, представил факультету и узнал, что она отклонена. Но это еще не означало полного провала. Формальная сторона дела выглядела так: можно было получить степень лиценциата и доктора. Степень доктора можно было получить только при условии оплаты дорогостоящей церемонии. Но при этом нужно было уже обладать степенью лиценциата, для получения которой следовало представить и защитить диссертацию. Таким образом, диссертация давала на первых порах лишь степень лиценциата. Многие кандидаты удовлетворялись этим и отказывались от дополнительного, дорогостоящего получения степени доктора, ибо было принято и лиценциатов причислять к «doctores». В Германии, как писал Гёте Зальцману в декабре 1771 года, обе степени ценились одинаково. После отклонения диссертации, то есть связного изложения, Гёте не мог получить степень лиценциата. Но в Страсбурге, как и в других французских университетах, можно было представить вместо обстоятельного и связного сочинения лишь тезисы, на основании которых перед факультетом проводился диспут. Эта возможность предоставлялась и Гёте, и он написал свои 56 тезисов, «Positiones Juris» 1, которые он и защищал 6 августа 1771 года, причем одним из оппонентов был его друг Лерзе. Он защитил их, как указывается в университетских актах, «cum applausu» – с успехом – такого рода определения давались не часто. Тем самым Гёте получил «testimonum Licentiae 2». По–видимому, вскоре после этого педель университета предложил юному лиценциату от имени факультета подвергнуть себя еще и церемонии получения докторской степени. Но Гёте, которому по возвращении во
1 Юридические тезисы (лат.).
2 Свидетельство об ученой степени лиценциата (лат.).
159
Франкфурт уже успела наскучить адвокатская практика, ответил лаконично и резко (в письме к Зальцману от декабря 1771 г.): «Педель уже получил ответ: нет! Письмо пришло несколько не вовремя, и, даже не считая церемонии, у меня пропала охота быть доктором. Я до такой степени сыт лиценциатством, так сыт всякой практикой, что лишь для виду выполняю свои обязанности, а в Германии обе степени имеют одну цену».
56 тезисов «Positiones Juris», написанные по–латыни, должны были служить основой диспута, в процессе которого кандидат обязывался показать, что он осведомлен в различных областях юриспруденции, может веско и юридически грамотно аргументировать. Научной оригинальности от него не требовалось. «Positiones» дают возможность кое–что узнать о юридических спорах того времени и о позиции юного Гёте в этих спорах. Обсуждались проблемы из четырех областей: из общего права, из гражданского права, из процессуального права и уголовного права. В первых сорока тезисах Гёте касается чисто технических юридических проблем, в остальных шестнадцати – более общих и политических вопросов. Лишь один–единственный тезис затрагивает церковное право, которое явно играло второстепенную роль на протестантском факультете Страсбургского университета (тезис 42: «Все, что совершается открыто, подсудно светскому судье, скрытое – церкви»). Позиция, занимаемая самим Гёте, не всегда ясна. Ведь все эти положения всего лишь цитаты, от которых отталкивалась дискуссия. Но некоторые пункты заслуживают внимания.
«Omnis legislatio ad Principem pertinet» («Вся законодательная власть исходит от князя») – гласит тезис 43. Тем самым принципиально оправдывается абсолютистское государство, в то время как такие мыслители, как Монтескье, Руссо и другие, задумывались о том, как мог бы быть ограничен произвол абсолютного монарха. То, что и князь чем–то связан, звучит, правда, в тезисе 46: благо государства является высшим законом. Толкование законов («legum interpretatio», тезис 44) – право одного лишь государя. Правда, все эти толкования государя должны быть обновлены при каждом государе или при приходе к власти нового (тезисы 51, 52). Судье же оставалось только применять законы («Judici sola applicatio legum ad casus competit», тезис 48). Как сильно колебался Гёте между консервативным пониманием права и идеями реформаторов —
160
об этом говорят тезисы к проблемам уголовного права. Вопрос о допустимости пыток и о праве государства выносить смертный приговор вызывал горячие споры на протяжении всего века Просвещения. Тезис 53, однако, звучит однозначно: «Poenae capitales non abrogandae» («Смертные приговоры не должны быть отменены»). Это еще далеко до убеждений, скажем, Теодора Шторма (в его «Культурно–исторических этюдах»), который считал, что потомки будут пытаться найти ответ на непостижимое для них: «Каким образом государство могло навязывать в качестве служебного долга одному человеку убийство другого; ибо не только с точки зрения преступника, но и с точки зрения палача в наше время смертный приговор нравственно невозможен». Уже Беккариа в 1764 году («Dei delitti e delle pene») 1 отрицал за государством право выносить смертный приговор. Гёте до этого не дошел. В тезисе 55 он говорит о «effectu crudelissima» (о в высшей степени страшном воздействии); этим, правда, косвенно подвергались критике пытки. Там, где шла речь о наказании за детоубийство, вопрос в тезисе 55 оставался открытым, как будто Гёте еще не мог решить его, хотя вопрос этот волновал людей в ту пору и часто становился темой драматических произведений писателей «Бури и натиска». «Должна ли женщина, убивающая только что родившегося ребенка, наказываться смертью – этот вопрос является среди докторов спорным». Еще не была казнена детоубийца в январе 1772 года во Франкфурте; еще не была создана трагедия о Гретхен.
Тот, кто видит в Гёте прежде всего «короля поэтов», пройдет мимо этих бумаг с его юридическими штудиями. Тот же, кто считает его позднейшую государственную службу, его политическую деятельность, его общественное служение не чем–то более или менее случайным, а сознательным жизненным делом, для того – независимо от собственной позиции Гёте в этих тезисах – достаточно показательно и поучительно, что ряд «Positiones» были посвящены актуальным и кардинальным проблемам всеобщего права и права уголовного. В любом случае не подлежит сомнению, что Гёте отнюдь не был неподготовленным, когда он решился в конце 1775 года в маленьком государстве Саксен–Веймар–Эйзенах взять на себя ответственные государственные дела и войти в детали административного управления.
1 «О преступлении и наказании» (итал.).
161
Интереснее, чем эти тезисы, конечно, представленная Гёте диссертация. В ней развиваются мысли, которые не соответствовали господствовавшим взглядам и не могли быть терпимы даже (или именно) в студенческой работе. Но мы не можем познакомиться с этой диссертацией: она пропала. Правда, существуют свидетельства, позволяющие догадаться о взрывчатом характере рассуждений автора. Студент Иоганн Ульрих Метцгер (внесенный в списки студентов 11 января 1771 года) сообщает в письме от 7 августа 1771 года Фридриху Доминикусу Рингу о студенте по имени Гёте из Франкфурта–на–Майне, который в диссертации под заголовком «Jesus autor et judex sacrorum» («Иисус создатель и священный судья») среди прочего утверждает, «что Иисус Христос не был основоположником нашей религии, что какие–то другие ученые создали ее под его именем. Христианская религия не что иное, как здравая политика, и т.д. Однако тут были настолько добры, что запретили печатать его образцовое произведение…» (подлинник письма по–французски. – С. Г.). Профессор Элиас Штёбер приводит другой заголовок диссертации – «De Legislatoribus» («О законодателях») – в письме к Ф. Д. Рингу от 4—5 июля 1772 года. И его замечания говорят о том, какой шум наделали тогда эта работа и ее отклонение: господин Гёте играл в Страсбурге такую роль, «которая делала его не только подозрительным в качестве дерзкого недоучки и сумасбродного отрицателя религии, но и достаточно известным». У него «в котелке не хватает винтиков». Штёбер ссылается на сведения, полученные от прежнего декана факультета, что работа отклонена: «Ее бы не разрешила печатать никакая хорошая полиция». К. А. Бёттигер сообщает («Литературные дела и современники», Лейпциг, 1838): «Гёте стремился доказать в своей диссертации, что десять заповедей не являются на самом деле законами Израиля, а, согласно пятой книге Моисея, десять церемоний в действительности заменяют десять заповедей». Собственные слова Гёте в «Поэзии и правде» (кн. 11) не позволяют судить о том шуме, который был поднят вокруг него. Он «давно уже интересовался тем двойным конфликтом, в котором пребывает и всегда будет пребывать церковь как официально признанное служение богу. Ибо, с одной стороны, она находится в вечном споре с государством, выше которого хочет стать, а с другой – с частными лицами, которых хочет объединить вокруг себя… По молодости лет я и решил, что государство, за–162
конодатель, вправе устанавливать определенный культ, в соответствии с которым должно действовать и поучать духовенство, миряне же обязаны внешне и в местах общественных точно следовать этому культу, причем не следует допытываться, что каждый в отдельности думает, чувствует и полагает» (3, 398—399).
В русле подобных размышлений лежат и два маленьких сочинения, опубликованных весной 1773 года, тематика которых – лишь на первый взгляд – может удивить: «Письмо пастора в *** к новому пастору в ***" и «Два важных, до сих пор не обсуждавшихся библейских вопроса, впервые получивших основательный ответ у сельского пастора из Швабии».
В чем заключалась взрывная сила отклоненной диссертации, можно сказать с достаточной уверенностью. Всю свою аргументацию автор ее сосредоточил на том, чтобы обеспечить известную свободу личности в вопросах веры и ограничить притязания господствующей церкви с ее догматами. Для этой цели Гёте привлекает как теологические и церковно–исторические, так и церковно–правовые соображения. Так, он пытается доказать, что на скрижалях Моисея находились не десять заповедей, как утверждается в катехизисе, а лишь законы союза с богом, обязательные только для еврейского народа. Таким образом, теолого–христианское значение десяти заповедей было ограничено, а также и официальная церковная точка зрения, что каждое слово в Библии, как в Ветхом, так и в Новом завете, имеет всеобщее значение. Гёте же утверждает, что в обеих частях Библии содержатся как частные, так и универсальные истины. Об этом и идет речь в первом из «Двух библейских вопросов». Второй в некоторых своих частях недвусмысленно направлен против закрепления божественного духа в правилах и догмах; говорится о «наших теологических камералистах», которые вокруг всего, орошаемого духом, строят дамбы, проводят дороги и хотели бы устроить здесь гуляния. «Что значит говорить? Будучи исполненным духа, языком духа вещать тайны духа». Подобное наитие не может и не должно быть втиснуто в догмы и ограничено догмами.
Если, как утверждает Гёте, десять заповедей, «это первое положение нашего катехизиса», имеют всеобщий нравственный характер и не являются чем–то специфически религиозным (как заповеди на скрижалях завета Моисея), то христианская церковь как некий институт не имеет основания считать, что только
163
она обладает правом притязать на них. Но она так поступает, указывает Гёте в заключение первого из «Двух библейских вопросов»: церковь свято охраняет эту ошибку (относительно десяти заповедей) и сделала из нее множество роковых выводов.
Мы не можем решить, действительно ли в диссертации развивалась эта теория, Бёттигер, возможно, путает диссертацию с «Двумя библейскими вопросами». Гёте в «Поэзии и правде», во всяком случае, не упоминает об этих идеях, а говорит лишь о центральном юридическом тезисе своей работы: государство–законодатель имеет право устанавливать общеобязательный религиозный культ, в согласии с которым должны учить духовные лица и вести себя миряне; что же «каждый думает, чувствует и полагает» – этот вопрос вообще не должен ставиться. Эти идеи действительно были взрывчатыми. Христианство – не что иное, как политический институт (как передает Метцгер), учреждаемый государственной властью, подобно официальным религиям? Устанавливается лишь официальный культ, а каждый в отдельности имеет право «думать, чувствовать и полагать» все, что ему угодно? Тем самым отрицалось абсолютное значение христианской религии, независимо от разных вероисповеданий, да и всякой религии. Диссертация, содержащая подобные еретические идеи, не могла быть защищена при ортодоксальном протестантском университете.
В «Письме пастора в ***" широко и убедительно развиваются идеи веротерпимости и подтверждается сомнительность догматических установлений: «Как могу я негодовать, если другой чувствует иначе, чем я», «Если подробно рассмотреть дело, то у каждого своя религия», «Навязывать кому–нибудь свое мнение уже жестоко, но требовать от кого–нибудь, чтобы он чувствовал так, как он не может, – это тираническая бессмыслица», «Иерархия целиком и полностью противоречит понятию истинной церкви», «Свести христианскую религию к одному символу веры – о вы, добрые люди!», «Тот, кто называет Иисуса своим господином, нам желанен, пусть другие здравствуют на свой лад, желаем им благополучия!».
Здесь сочетаются идеи веротерпимости века Просвещения, к которым не хотели прислушиваться правоверные христиане, с личным опытом Гёте. Если внимательно присмотреться, то ни диссертация, ни оба теологических сочинения не покажутся отклонением, уходом в чуждую область. Герметические умозрения,
164
всегда подразумевающие божественную всеобщую связь, но протекавшие вне рамок церковной догматики, привели Гёте во время и после франкфуртского кризиса к убеждению, что каждая отдельная личность причастна к божественному и не связана с догматизированными истинами, претендующими на абсолютность. Она имеет право искать собственные истины. С этой точки зрения в диссертации была предпринята преждевременная и поэтому заранее обреченная попытка юридически отграничить область «личной религии» и обеспечить ей право на существование как некоего «института». Тем самым выбор такой государственно–правовой и церковно–правовой темы перестает казаться странным.