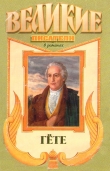Текст книги "Гёте. Жизнь и творчество. Т. I. Половина жизни"
Автор книги: Карл Отто Конради
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 17 (всего у книги 45 страниц)
222
была существо, высоконравственная, без тени чувственности. Мысль отдаться мужчине была ей отвратительна, и надо думать, что в браке эта ее особенность доставляла немало тяжелых часов им обоим […]. Потому–то я никогда не мог представить себе сестру замужней, настоятельница монастыря – вот было ее истинное призвание».
Во многих местах «Поэзии и правды» Гёте стремился описать Корнелию, как, например, в шестой, восьмой и восемнадцатой книгах. Каждый раз он вновь говорил о глубокой взаимной привязанности, которая связывала брата и сестру, и все–таки многое в ней оставалось для него загадкой, особенно в старости, когда он вспоминал юные годы. И больше ничего не оставалось, кроме как «вызвать тень сего блаженного духа как бы с помощью магического зеркала разве лишь на краткий миг» (3, 193).
Маленькие драмы и фарсы
Вызывает изумление количество и многообразие поэтических замыслов, осуществленных Гёте до начала лета 1774 года. Возникает впечатление, как будто бы именно на этом этапе поисков он стремился проверить все свои возможности рассказчика и творца языковой образности; сила его воображения и выразительности казалась прямо–таки неисчерпаемой. Весной появились две комедии, которые, казалось, были просто шутками на случай, продуктом минутного настроения: «Ярмарка в Плюндерсвейлерне» и «Фастнахтшпиль о патере Брее»: в июне драма о Гёце была уже опубликована в переработанном виде; видимо, между маем и сентябрем возникла пятиактная пьеса «Сатир, или Обоготворенный леший», сцены из «Прафауста» и драма «Прометей» написаны, по–видимому, в это же время; из предполагавшейся пьесы о Магомете был создан только диалог Али и Фатемы (известный нам как «Песнь Магомета»); о фарсе «Боги, герои и Виланд» уже говорилось; две небольшие сцены из «Земной жизни художника» были посланы Бетти Якоби в ноябре; с января 1774 года осуществлялась запись «Вертера»; уже в мае он читал отрывки из «Клавиго», а в июле, во время путешествия по Рейну, согласно дневниковой записи Лафатера, Гёте исполнял фрагменты из «своей оперетты «Эльмира»»; еще один сюжет занимал его в то время – это был Вечный жид.
223
Во «Франкфуртских ученых известиях» за 1772 год публиковались главным образом анонимные рецензии, это было коллективным предприятием группы энергичных молодых людей, которым, впрочем, не удалось завоевать публику так, как они этого хотели. «Непременное стремление смести все препятствия на своем пути» – так Гёте удостоверил эти намерения («Анналы»). Когда прошел июнь 1773 года, прогремел «Гёц» и стало известно, кто его написал, Гёте считался представителем нового стиля в поэзии, и заинтересованные люди искали контактов с ним. С тех пор он стал известностью: его превозносили и ругали. Где пройдет водораздел, должно быть, хорошо понимал Готфрид Август Бюргер, стремясь узнать у Бойе имя поэта: «Я буквально вне себя от восторга. Как мне выразить автору свое восхищение? Его можно было бы назвать немецким Шекспиром, если стоит кого–нибудь так называть… Благородно и свободно, как его герой, он растоптал все жалкие кодексы правил… И пусть целая свора рецензентов, пусть толпы читающих обывателей, которые морщили носы на штучки Орсины, теперь совсем скривятся, увидев… (знаменитое ругательство из «Гёца». – Н. Б.). Такую сволочь этот автор может только послать в … . О Бойе, знаете ли Вы его имя?»
Фридрих Эрнст Шёнборн, принадлежавший к кругу друзей Клопштока и Герстенберга, считал для себя обязательным познакомиться с Гёте, когда осенью 1773 года он по дороге в Алжир в качестве секретаря датского консульства был проездом во Франкфурте. Характеристика, данная им Гёте в сообщении Герстенбергу и в его последующих высказываниях, мало менялась, приобретая лишь дополнительные оттенки. Шёнборн в полной мере оценил необычную способность Гёте вбирать в себя впечатления, перерабатывать их и претворять в художественные образы. Здесь можно говорить о «созерцающем» воображении. Оно и составляет основу того реализма, который не без оснований находили в творчестве Гёте и который до самых поздних лет сохранил свою силу во всех его символических образах. Уже тогда Шёнборн сказал о Гёте: «Он прекрасно говорит и переполнен блестящими идеями. В самом деле, насколько я могу судить, он обладает необычайной, созерцающей поэтической силой, проникающей в суть предметов до самой глубины, так что все в его душе приобретает колорит и индивидуальную характерность».
224
Гёте тотчас же воспользовался случаем и сделал попытку установить столь необходимые ему контакты: через посредника он обратился к Герстенбергу. И вновь послышались интонации «путника, попавшего в беду»: «Я знаю Вас уже давно, и Ваш друг Шёнборн, с которым мы недавно познакомились, хочет помочь нам вступить в переписку. Как важно, сидя в одном углу, иметь общение с людьми, Вы, вероятно, знаете по себе, находясь в другом. Моим самым горячим желанием было всегда жить в контакте с лучшими людьми эпохи, однако часто это связано с такими неприятностями, что лучше отказаться и спрятаться в своей скорлупе».
Едва ли ответ Герстенберга оставил Гёте равнодушным. Он прозвучал как ободряющий призыв (и это произошло в начале года «Вертера»!): «Письмо немецкого Шекспира произвело на меня сильное впечатление […]. Вы – явление среди немцев, продолжайте, как Вы начали» (5 января 1774 г.).
В эти поразительно продуктивные 1773—1774 годы были написаны пьесы, которые обычно фигурируют как «Маленькие драмы и фарсы». К ним относился фарс «Боги, герои и Виланд», созданный в традициях литературной сатиры (в форме разговора мертвых, как «Демокрит» Иоганна Элиаса Шлегеля), а также короткие пьески, написанные в стиле шванков Ганса Сакса («Ярмарка в Плюндерсвейлерне», «Патер Брей») и короткая драма «Сатир». Было бы ошибкой считать эти произведения малозначительными и несущественными. Именно в это время в сценах «Прафауста» поэтический язык Гёте оказался так сильно, как нигде больше, насыщен народными элементами. При этом в своих пьесках, похожих на шванки, пользуясь приемами сатиры и пародии, он обнаружил определенные позиции и взгляды, включая и такие, которые особенно ценились в период увлечения идеей «бурных гениев».
Уже студентом в Страсбурге Гёте обладал острым и точным ощущением народности и того, что он воспринимал как некую исконность. Драма о Гёце очень на этом выиграла. Мир Ганса Сакса, по–видимому, захватил Гёте, который вырос в городе, чем–то напоминавшем Нюрнберг, когда в апреле 1773 года он стал читать его сочинения (вероятно, в издании Кемптена, ин–кварто, 1612 г.). Как это ни поразительно, для ученичества не потребовалось никакого времени. Как будто бы это разумелось само собой, как будто бы
225
Гёте всегда владел искусством Сакса – создавать короткие игровые сцены, где комизму ситуаций сопутствует словесная игра, и вот уже он сам создает необходимые сюжетные комбинации и дает свободно разгуляться изобретательности и фантазии в поэтическом языке. Гёте смастерил для себя особый вид книттельферза (ломаного стиха), в котором, не очень заботясь об изяществе слога, употреблял простонародные выражения. В отличие от Ганса Сакса, у которого строго соблюдалось количество слогов в стихотворной строке – восемь или девять, не больше, – здесь между ударными помещалось любое количество безударных слогов:
Бакалейщик (у себя в лавке)
Мальчик! Достань–ка мне эту банку.
Чертов поп вывернул все наизнанку!
Была у меня лавка, сказать по чести,
В полном порядке, все на месте:
Знаешь всегда, где товар какой,
То, что нужней, лежит под рукой,
Табак и кофей – последний сброд
Нынче без кофею не проживет.
И вот к нам пожаловал чертов поп,
Стал всюду соваться, все перегреб,
Заявил, что порядка нет ни в чем,
Что мы точь–в–точь как студенты живем,
Что наше хозяйство – стыд и срам
И мы задом вперед угодим к чертям,
Если не вверим себя навеки
Его водительству и опеке.
(Перевод М. Лозинского [II, 166])
Так, священник Брей вводится в действие первыми словами фастнахтшпиля, «также уместного и после пасхи», что является намеком на свадьбу Гердеров (2 мая), так как пьеса была написана для них. В лице священника Брея, лжепророка, был высмеян Лойхсенринг; Гердер и его Каролина могли без труда узнать себя в других персонажах, что, естественно, не доставляло им удовольствия. Однако эта пьеса не является лишь сатирой на определенное лицо, Лойхсенринга, болтливого любителя вмешиваться в чужие личные дела. «Чертов поп» в пьесе – это усердствующий всезнайка, который весь мир готов переделать на свой манер и в чьих речах невозможно отличить правду от лжи. В его «духовных» речах возникает
226
очень соблазнительная, но труднопереносимая смесь благочестия и чувственного сластолюбия. Это увидел и услышал торговец пряностями, его описание отличается типичной для Гёте словесной изобретательностью: «Стоял я в садике у забора, / вдруг вижу – попик и Леонора. Туда–сюда гуляют кругом, / Ходят, обнявшись этак друг с другом, / Дружка на дружку глазенки пучат, / На ухо что–то друг другу мяучат, / Словно вот–вот сейчас норовят / Не то в постель, не то в райский сад» [II, 169]. (Вполне понятно, что Гердер не был в восторге.) В конце концов священник оказывается в дураках, его заманили «туда, где свиньи пасутся в поле. / Пусть проповедует им на воле!» [II, 177]. Несмотря на все это, жених и невеста после долгой разлуки находят друг друга.
Использовать ярмарку как символ пестрого многообразия человеческой жизни – это давняя традиция. «Ярмарка в Плюндерсвейлерне» показывает пеструю толчею легко и непринужденно, с огромным количеством разных намеков, смысл которых мы теперь не всегда понимаем. Попутно или более детализированно, в виде вставного сюжета, пьесы в пьесе (здесь это история Эстер), возникает возможность для актуальной критики или сатирических выпадов. (Современный драматург Петер Хакс использовал это в своей новой редакции.) Видно, что над этой пьесой Гёте работал с удовольствием. Первая редакция 1773 года составляла всего 350 стихотворных строк и не была еще полноценной театральной пьесой. Только в 1778 году в Веймаре она была дополнена, так что роли ярмарочного зазывалы, Гамана и самого Мардохая можно было играть.
Пятиактная маленькая драма «Сатир, или Обоготворенный леший» ставит перед нами много вопросов. Не без оснований ее считают одним из крупнейших творений молодого Гёте в смысле мастерства. Но кто он, что он должен означать, этот Сатир, который, будучи раненным, нашел приют у отшельника, потом его обманул, который соблазняет девушек и проповедует народу учение о естественной жизни? Оставим в покое детективные розыски прототипов, хотя Гёте сам вызвал их к жизни замечанием о том, что и здесь (пьеса была напечатана только в 1817 г.), как в «Патере Брее», он изобразил одного из своих сотоварищей «если и не с буквальным сходством, то, во всяком случае, с добрым юмором». Дерзко и нагло сатир разговаривает с отшельником, мечтательно и нежно – с мо–227
лодыми девушками, он страстно зовет назад к природе» онемевшую от изумления толпу; ошеломленный народ, не раздумывая, признает его своим вождем. Народ лепечет вслед за ним его слова, не замечая того что прославления переходят в цинизм.
Сатир
Трижды блажен, кто б мог
Молвить: «Я есмь бог!»
Жил – ни в чем не плошал,
Кто б донага поскидал
Нарядов чуждый гнет,
Веков бремя – и вот,
Не льстясь на побрякушек вздор,
Как облак свеж, впивал простор.
Встал – с пути не сбился,
Землей усладился,
Не мучился б – словом,
Не жил на готовом.
Шатром будут дубы,
С коврами из трав.
Обедом – каштаны,
Сырьем, без приправ!
Народ
Рвите каштаны! О, к делу от слов!
Сатир
Иль кто–нибудь вправе
Лишить этой яви
Достойных сынов?
Народ
Рвите каштаны! Отпрыск богов!
Сатир
Судари чтимы,
В путь за моими
Зовами вслед !
Народ
Рвите каштаны! Радостен свет!
(Перевод Н. Вильмонта – 5, 99—100)
Можно ли себе представить более беспощадную автопародию для автора, который сам восторженно звал к природе и к безыскусственности? Можно ли себе представить более остроумную и язвительную насмешку над призывом Руссо «назад к природе»? Вождь, стремящийся одурманить, одурманенный народ – в этой сцене (3–й акт) с ужасающей ясностью показано то, что реальная история подтверждает все
228
снова и снова. И когда в следующем акте Сатир изрекает максимы, полные значения и явно имеющие связь с усвоенным Гёте философски–оккультным взглядом на мир, мы задаем себе вопрос, можно ли их еще принять всерьез.
Как правещь прорвала свалку туч,
Ночь взрыв, пробежал луч […].
Как Любовь с Враждой пришли,
Все и всех в Одно сплели,
и Одно поет —
Мерно звучен его полет!
И сила в силе возникает,
И сила силу пожирает,
И гулко катится Оно
Везде, во всем, во всех – одно,
Все обновляясь, все сохраняясь.
(Перевод Н. Вильмонта – 5, 101)
Так рассуждает о творении господа и о законах космоса тот, кто – и это весьма примечательно – лишил отшельника «образа божьего»! В конце концов он разоблачен как шарлатан.
Тот самый Гёте, который в своих стихах (и только там) прославлял наслаждение природой, радость самоотдачи и мужественную уверенность в своих силах, создавал одновременно такие сцены, где сама пророческая миссия ставится под сомнение. Так же как позднее он многому придавал какую–то ироническую относительность, он уже здесь пародировал то, что было ему дорого. Может быть, его беспокойный ум занимали уже и такие вопросы: если естественная свободная жизнь должна была существовать любой ценой, если добро и зло есть две стороны одной медали, где же искать незыблемые нормы? А может быть, в любой попытке провозглашения принципов заключена опасность односторонности и преувеличения? Если прекрасные и сильные призывы действуют как наркоз, то не превращаются ли они в свою противоположность? Оба «теологических» сочинения («Письмо пастора» и «Два вопроса Библии»), размышляющие о терпимости и глоссолалии 1, не так далеко отстоят и по времени, и по тематике.
В мире этих пьес, который нельзя себе представить
1 Глоссолалия – от греч. glossa – непонятное слово + laleo – говорю.
229
без шванков Ганса Сакса, пробивается яркое жизнелюбие. Там никто не морализирует. Если в сатире на Виланда сила и своеобразие противопоставлены нежной приятности, то и в других случаях простое и элементарное часто является главным козырем, который подчеркнут с наивной уверенностью, вызывающей улыбку. Исконно витальное, природное начало осталось близким Гёте вплоть до мира искусства в «Римских элегиях». В «Свадьбе Гансвурста» он на нескольких страницах написал списки имен лиц, предполагавшихся для участия в свадьбе, имен, которые демонстрируют интерес к неприличию и непристойностям всякого рода, также имеющим определенную литературную традицию (например, Рабле или Фишарт). Это был 1775 год, когда Гёте близко познакомился с надменным миром денежной аристократии, частью которого была Лили Шёнеман.
«Закрой, Зевс, небеса свои завесой туч!»
В то необычно продуктивное время, в 1773 году, Гёте работал и над драмой о Прометее. Она осталась фрагментом. Несмотря на это, а может быть, именно поэтому исследователи неустанно стремились найти истолкование немногих написанных сцен и ответ на вопрос, почему эта драма так и не вышла за пределы фрагмента. Здесь мы ограничимся несколькими соображениями, которые касаются отдельных аспектов фрагмента. Прометей, герой драматического фрагмента, существенно отличается от героя известного гимна («Ты можешь, Зевс, громадой тяжких туч…»). Бунт Прометея начинается с первых слов пьесы: «Я не хочу – так передай богам! Ты понял – не хочу! / Столкнулись наши воли, сошлись в единоборстве» (5, 72). Это сопротивление родителям Зевсу и Гере. Судьба, которая пока еще управляет всеми богами, одарила творческой силой и его, Прометея, и вот он стремится встать на собственные ноги, чтобы со всей решительностью отстоять свое право творческой личности. Он отходит в сторону, разрывает те узы, которые связывают его с божественными родителями и всем их миропорядком, хочет оказаться в изоляции, чтобы быть только самим собой, происходит самоутверждение. Однако примечательно: созданные Прометеем существа, «которые рассеяны повсюду в роще», неживые. В своей изоляции, гордой и необхо–230
димой для утверждения индивидуальности, он не в состоянии вдохнуть в них жизнь. На это оказывается способной только Минерва, которая все–таки видит у богов «любовь и мудрость». Она говорит: «Отца я почитаю, тебя ж люблю, о Прометей!» (5, 75). Она еще связана с тем целым, от которого оторвался Прометей, только через нее, «открывшей ему источник жизни», его творения получают жизнь. Когда он говорит об ощущении собственной силы, Минерва замечает: «Так мыслит мощь». Он продолжает: «Богиня, я мыслю так же. И чую мощь» (5, 76). Он так думает, именно поэтому Прометей, который (подобно Люциферу) осуществляет свой бунт в одиночку, постоянно самоутверждаясь, именно поэтому он не может обойтись без помощи Минервы. Эта мысль должна, по–видимому, подтвердить, что для творчества, продуктивного в жизни, необходим отказ от эгоистического самоутверждения. Во всяком случае, Прометей из драматического фрагмента – это не тот герой гимна, который мог воскликнуть:
Вот я – гляди! Я создаю людей,
Леплю их
По своему подобью,
(Перевод В. Левика – 1, 90)
В то время фрагмент был, можно сказать, совершенно неизвестен. Когда Гёте писал «Поэзию и правду», он считал его потерянным. Но Якоб Михаэль Рейнхольд Ленц, друг юности Гёте, сохранил его, переписав для себя два акта; из его наследия они и вернулись к автору в 1818 году. Ода, теперь это уже полностью установлено, была написана после драматического фрагмента; с самого начала она существовала как отдельное произведение. Из формулировок соответствующих пассажей в пятнадцатой книге «Поэзии и правды» видно, что Гёте не сохранил ясных воспоминаний о том, каким многозначным, сложным и трудно поддающимся расшифровке был текст его драматического фрагмента; вспоминая, он говорит лишь об упорном обособлении Прометея. «Мне вспомнилась древняя мифологическая фигура Прометея, который, отъединившись и отпав от богов, населил весь мир людским племенем, сотворенным его руками. Я теперь ясно чувствовал, что создать нечто значительное можно только вдали от общества» (3, 541). И когда потом, в 1818 году, он держал в руках список Ленца,
231
его заинтересовало в раннем мифологическом персонаже только бунтарское начало. Оно показалось ему сомнительным, так что Гёте, который к тому времени давно уже расстался со своими революционными идеями, написал в Берлин Цельтеру некое предостережение: «Не давайте рукописи слишком большого распространения, как бы ее не напечатали. Она могла бы явиться вожделенным евангелием для нашей революционной молодежи, и высокие комиссии в Берлине и Майнце, верно, состроят весьма недовольную мину по поводу моих юношеских причуд» (11 мая 1820 г. [XIII, 451]). Он также утверждал, что стихотворение должно было открывать 3–й акт, но в этом было немного смысла. Тем не менее десять лет спустя, в последнем прижизненном издании, ода была представлена как монолог, открывающий 3–й акт, и оказалась таким образом концовкой всего фрагмента. С полной уверенностью можно сказать, что она попала не на свое место.
Прометей молодого Гёте – это очень странная фигура, если вспомнить древнегреческую мифологию, из которой он вышел. Здесь Прометей сын титана Иапета, у Гёте он сын Зевса, который в свою очередь происходил от титана Кроноса, затем поборол его и остальных титанов и начал господствовать сам. То, чего Гёте достиг, превратив Прометея из сына титана в сына Зевса, совершенно очевидно – конфликт между отцом и сыном. Теперь соотношение Зевс—Прометей стало косвенным намеком на христианскую проблему бога–отца и бога–сына. Или, во всяком случае, стихотворение можно было так толковать.
Античные легенды о Прометее в большом количестве вариантов, как все в греческой мифологии, сообщают самые разные эпизоды. После того как Зевс утаил от людей огонь, Прометей украл его на Олимпе и принес на землю, за что был жестоко наказан. Зевс приказал приковать его к скале, и день за днем прилетал орел, чтобы склевать его печень, которая за ночь вырастала вновь. Позднее он был освобожден Гераклом. Согласно другим преданиям, Прометей создал человека, но эта версия, судя по всему, не является классическим вариантом мифа: ни Гесиод, ни Эсхил ее не знали. Она появилась в более позднее время. «Основательный мифологический лексикон» Беньямина Хедериха, которым пользовался Гёте, так начинает раздел о судьбе и делах Прометея: «Сначала он сделал людей из земли и воды, понемногу подбавляя к этому от каждого из животных». Впрочем, об этих делах
232
Прометея Гёте мог знать также из Овидия («Метаморфозы») и Горация, с обоими он был знаком уже в школьное время.
То, что для Гёте Прометей был символом творца, осознавшего себя, объясняется еще и тем, что, в сущности, он давно уже был признанным воплощением активного творческого начала. В своем произведении «Монолог, или Совет автору» Шефтсбери дал точную формулировку: «Воистину такой поэт есть второй творец, достойный Прометей в царстве Юпитера». Эта мысль приобрела большую популярность, когда начали прославлять гениев.
Может быть, именно эта сентенция Шефтсбери подсказала Гёте его оригинальную концепцию конфликта отца и сына (Зевс – Прометей) ? Так или иначе, его гимн «Прометей» являет собой вершину в том восприятии образа Прометея, который возник в XVIII веке.
Вот я – гляди! Я создаю людей.
Леплю их
По своему подобью,
Чтобы они, как я, умели
Страдать и плакать,
И радоваться, наслаждаясь жизнью,
И презирать ничтожество твое,
Подобно мне!
(Перевод В. Левика – 1, 90)
Эта ода (или гимн) считается образцом стихотворения «Бури и натиска», так как в нем воспевается подчеркнутое самосознание творческой силы, а свободный размер строфы ярко демонстрирует «внутреннюю форму», точно рассчитанную в смысле риторическом: в последовательности восклицаний; в отрицании богов и насмешливом упоминании «налога на жертвы», «молитвенного вздоха», «величия»; в вопросах, полных возмущения, которые в действительности есть боевые утверждения; во властной интонации признания в конце. Но в эпоху «Бури и натиска» это стихотворение осталось неизвестным; когда и как оно стало достоянием публики, об этом разговор еще впереди.
Царство Зевса с самого начала резкой чертой отделено от мира Прометея: «Ты можешь, Зевс…» и «Но ни земли моей ты не разрушишь…» Здесь нет переходов, нет посредничества и общности, все – противостояние
233
и упорное самоутверждение. В следующих строфах перечисление аргументов, почему Прометей настаивает на том, что пропасть непреодолима, и с таким упорством утверждает себя; при этом третья строфа описывает ситуацию человека, который обращает свой взор в небо с напрасной надеждой на помощь всемогущего бога. В конце этой строфы подчеркнуто акцентом главное слово языка христианской религии – «милосердие».
Без всякой натяжки в этом стихотворении можно усмотреть протест против всемогущего персонифицированного бога и, следовательно, предположить в нем антихристианскую тенденцию. Однако Прометей ни в коей мере не отказывает в признании тем высшим силам, которые стоят над Зевсом: «А из меня не вечная ль судьба, не всемогущее ли время…» Таким образом, он борется не против божественного вообще, а против одного определенного бога, который превышает свои полномочия, превращается в деспота и ограничивает сферу деятельности Прометея. Божественное начало выше произвола одного бога. С этим началом Прометей сохраняет связь.
В этом стихотворении Гёте восстает против деспотических претензий и деспотической власти. Если принять во внимание известную традицию, которая воспринимала Зевса–Юпитера и его определения (громовержец, молниеносный) как адекватный символ деспотизма земных властителей, то это стихотворение Гете можно рассматривать как выражение протеста против произвола государственной власти. Уже Гораций поставил Юпитера–громовержца ниже императора Августа Октавиана: «В небесах Громовержец, так мы считаем, Юпитер царит / Здесь, на земле / Август наш признанный бог». Такое использование мифологического образа Зевса при изображении реальной жизни часто встречалось и потом. Художники нередко показывали правителей в образе Зевса–Юпитера. Сам Гёте процитировал в «Поэзии и правде» слова своего отца–бюргера, который был приверженцем империи: «Procul a Jove, procul a fulmine» в смысле «Чем дальше от правителя, тем дальше от молний». Впрочем, надо сказать, что, хотя гимн о Прометее может быть истолкован в этом смысле, такое толкование не обязательно. Вместе с тем в свои поздние годы Гёте, конечно, ясно видел радикальность той политической позиции, которая ощущается в стихотворении.
Однако вскоре, видимо в феврале 1774 года, за
234
этим гимном с его подчеркнутой односторонностью последовало другое стихотворение; вместо наводящей ужас замкнутости в себе оно воспевало счастливое согласие с весенней природой, воспринятой как прекрасное божественное творение. Это был «Ганимед».
К вершине, к небу!
И вот облака мне
Навстречу плывут, облака
Спускаются к страстной,
Зовущей любви.
Ко мне, ко мне!
И в лоне вашем —
Туда, в вышину!
Объятый, объемлю!
Все выше, к твоей груди,
Отец Вседержитель!
(Перевод В. Левика – 1, 91)
Если «Прометей» – это гимн, целиком обращенный на себя, то Ганимед» знаменует собой страстное самоотречение. В конце восьмой книги «Поэзии и правды», как известно, говорится о том, что «мы находимся в состоянии, которое… то заставляет нас уходить в свою сущность, то – через равномерные промежутки времени, – напротив, отрекаться от своей обособленности» (3, 298). Когда Гёте в 1789 году опубликовал гимн о Прометее, он поставил «Ганимеда» сразу вслед за ним. Это говорит само за себя. То, что нам сейчас очень трудно или вовсе невозможно понять восторженное ощущение природы Ганимедом – «Объятый, объемлю!», – еще придется объяснять.
Первое появление гимна о Прометее произвело сенсацию. Первоначально стихотворение знали только несколько друзей, да и то лишь с весны 1775 года. В их числе экземпляр гимна получил Фридрих Генрих Якоби и опубликовал стихотворение в 1785 году в своей работе «Об учении Спинозы. Письма господину Мозесу Мендельсону». Из осторожности он напечатал гимн, не называя имени автора, на двух непронумерованных страницах, так что его легко было изъять. Впрочем, в самом начале «Писем» было опубликовано еще одно стихотворение Гёте с указанием имени автора. Так что нетрудно было догадаться, кто автор оды о Прометее.
В своем трактате Якоби рассказал о разговоре с Лессингом в 1780 году, во время которого он дал Лес–235
сингу прочитать гимн о Прометее. Против ожидания стихотворение понравилось Лессингу. Вот что он сказал дословно: «Позиция, с которой написано это стихотворение, – это моя собственная позиция […]. Ортодоксальные представления о божестве теперь уже не для меня. Я не могу ими довольствоваться. Одно и всё. По–иному я не мыслю. То же имеется в виду и тут. Должен сказать, стихотворение мне очень нравится. Я: Значит, Вы более или менее согласны со Спинозой? Лессинг: Если надо быть согласным с кем–то, то я не мог бы назвать никого другого».
«Письма» Якоби стали поводом для страстных споров. Ведь в конце концов Лессинг без обиняков заявил, что является сторонником пантеизма Спинозы. Между тем спинозианство, которое в своем объяснении мира обходилось без личности бога за пределами природы, оказалось в то время на подозрении как разновидность атеизма. Споры о Спинозе разгорались все сильнее. Самого Гёте появление «Прометея» вовсе не радовало. «Гердера очень развлекает мысль, что я по этому случаю пойду вместе с Лессингом на костер» (письмо к Ф. Якоби от 11 сентября 1785 г.). В своем ответе на труд Якоби Мендельсон подверг стихотворение уничтожающей критике и отверг его полностью. В ответ на это из самолюбия и упорства Гёте включил его в 1789 году в издание своих произведений, правда рядом с ним поставил «Ганимеда». Если внимательно разобраться, то именно это стихотворение было пантеистическим и не оставляло никаких сомнений относительно позиции Гёте в этом вопросе. Как случилось, что в этом смысле Лессинг истолковал «Прометея», трудно понять. Стихотворение о Прометее такой трактовке не поддается. Возможно, что поводом для такого прочтения Лессингом этого гимна стало то, что Прометей упорно противостоит деспотическому богу и настаивает на признании божественного начала в своей собственной творческой личности.