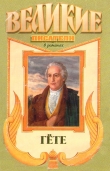Текст книги "Гёте. Жизнь и творчество. Т. I. Половина жизни"
Автор книги: Карл Отто Конради
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 45 страниц)
В зеркале писем
Письма Гёте из Лейпцига… Сохранилось 38 писем тех лет, из них 12 к сестре Корнелии, 20 – к Беришу, остальные – к франкфуртским друзьям. Это немного, но здесь можно обнаружить черты своеобразной писательской манеры, услышать отзвуки личных пристрастий и взволнованных чувств, которые не попали в его произведения тех лет. Конечно, не следует забывать, что и в письмах, насколько бы личными они ни казались, пережитое в действительности могло подвергнуться языковой переработке, что в них создается собственный языковой стиль, не менее «литературный»,
98
чем в литературном произведении, и что пишущий может полностью приспособиться к своему адресату. Интерпретировать письмо не легче, чем художественное произведение. Приводя в письме к Корнелии стихи, написанные в подражание Кристиану Феликсу Вейсе:
Холодным хором окруженный,
О жаркой я любви пою,
Вино я славлю возбужденно,
Но чаще все же воду пью,
(Перевод А. Гугнина)
он хотел бы помешать ей делать заключение о его действительной жизни на основании его легких и чересчур свободных стихов. Не относится ли это уже к хвастовству в его первом письме от 12 октября 1765 года? «Вот и все о девицах. Но вот еще что: здесь я не имею чести знать ни одной, слава небесам».
Хвастаться и позировать – это бойкий автор писем из Лейпцига умел исключительно хорошо. Точно на подмостках выступает он в своих письмах и при этом всматривается в себя. В отношении сцен ревности и вспышек страсти в некоторых письмах к Беришу невольно возникает вопрос: насколько здесь замешано искусство молодого писателя, если даже речь идет о самой Кетхен Шёнкопф? С другой стороны, нет никакого основания сомневаться и в том, что пишущего занимает и волнует то, о чем он говорит; только не следует отожествлять языковое выражение с действительно пережитым.
Умению писать письма юный Гёте учился у Геллерта. Его руководства по этой части были широко известны. В 1742 году в небольшом сочинении Геллерт поделился своими «Размышлениями о хорошем немецком письме» (в «Забавах ума и остроумия»), а в 1751 году опубликовал книгу в триста страниц: «Письма с приложением практического сочинения о хорошем вкусе в письмах». Здесь подвергались теоретическому обсуждению принципы писания писем и было приложено собрание образцовых писем. «О чем мы можем беседовать, о том же можем мы и писать», – говорилось в статье, а в книге утверждалось с самого начала: письмо заменяет беседу, оно «свободное подражание доброй беседе». Критика Геллерта была направлена против неестественности, канцелярского стиля, неупотребительных выражений в письмах. Это не значи–99
ло, что просто следует писать, как говоришь в обыденной жизни: «Когда пишешь, то имеешь больше времени, чем когда говоришь. Следовательно, не опасаясь быть неестественным, можно более заботиться о выборе мыслей и слов, выражений и словосочетаний». Следует держаться подальше «как от старомодного, так и новомодного в языке». Изящная естественность речи в письме, «благопристойная и разумная манера письма» – вот к чему стремился Геллерт; подобные же требования выдвигались и другими. «Пиши, как ты говоришь, и это будет красиво», – обращался четырнадцатилетний Лессинг в 1743 году к сестре.
Правда, уже во времена античности было общепризнано, что письмо должно ориентироваться на беседу и устную речь. Подобные общие положения, однако, могут, как известно, означать разное: и беседа и речь в разные времена могут строиться неодинаково. В эпоху барокко беседа и речь должны были удовлетворять церемониалу, определенному придворным этикетом. Теперь, когда бюргеры осознали свое место в обществе и стремились овладеть нужным им литературным образованием, подобные притязания утрачивали свое значение. Однако образцовые письма Геллерта – эта самая естественность и непосредственность, которые он теоретически провозгласил, – были введены в определенные рамки правилами приличия и сдержанности, благопристойности и уравновешенности. Как раз эти границы благопристойной сдержанности нарушал юный Гёте некоторыми пассажами своих писем, где восклицания вырываются вперед, спокойное течение фразы нарушено и пишущий ведет себя совсем не как образцовая личность Геллерта, «которая полностью овладела прекрасной речью». Гёте же вполне серьезно относится к принципу: следует писать, как говоришь. «Мое – ха! Видишь? Оно снова здесь! Ежели б мне привести себя в порядок или порядок привести в себя! Дорогой, дорогой… И что же! За ее стулом господин Риден в весьма нежной позе. Ха! Представь себе меня! Представь себе меня! На галерке! Со зрительным стеклом – и видящим это! Проклятие! О, Бериш, я думал у меня голова лопнет от ярости» (10 ноября 1767 г.). Здесь оказывается возможным выразить страсть, отказавшись от нежности рококо. Гёте в состоянии воплотить в письме роль беснующегося и отчаявшегося человека; показательно следующее его замечание в том же длинном письме от 10 ноября 1767 года: «В моем письме содержится неплохой на–100
бросок для сочиненьица, я его заново перечитал и испугался самого себя». Следовательно, письмо может играть ту же роль, которую приписывал Гёте художественному произведению в приведенном выше отрывке из «Поэзии и правды»: «…все, что радовало, мучило или хотя бы занимало меня, я тотчас же спешил превратить в образ, в стихотворение; тем самым я сводил счеты с самим собою…» А в литературе того времени жанр эпистолярного романа неопровержимо доказал возможности прозы такого рода.
Выразительностью, чувствами и страстностью лейпцигские письма Гёте превосходят его произведения того же периода. Для этого даже не было необходимости в напряженных отношениях с Кетхен Шёнкопф. И к сестре Корнелии шли письма, в которых неуравновешенность пишущего не была скрыта за общими местами, а получала прямое выражение. Тут он действительно писал, как говорил, и о чем он мог говорить, о том он считал возможным и писать. Но, конечно, не во всех письмах царит этот личный тон.
Как послушный ученик Геллерта, Гёте пишет: «Мне нынче хочется побеседовать с тобою; и это побуждает меня писать тебе» (6 декабря 1765 г.). Он хочет передать науку Геллерта сестре, выступая учителем, и в некоторых местах своих поучительных писем впадает в наставительный тон. В особом разделе «Критика твоего письма» он обсуждает слова и обороты, которые он считал нужным исправить. «Я должен обучить тебя и чтению», – писал он 7 декабря 1765 года и давал указания, как она должна читать пьесы. Романы он запрещал ей читать полностью, «за исключением лишь Грандисона, коего ты можешь еще несколько раз прочесть, но не кое–как, а рассудительно». Роман пользовался в XVIII веке – до тех пор, пока Виланд и Гёте своими произведениями благоприятно не повлияли на суждения критиков, – плохой славой. Запутанные приключения, эротические хитросплетения, элементы чудесного– все это не внушало критикам уважения к романам. «Кто читает романы, тот питается ложью», – заявил в 1698 году цюрихский теолог Готхард Хайдеггер, и многие были с ним согласны.
Любопытно, для кого же делал исключение Гёте, заботящийся о чтении сестры: для морализирующих, чувствительных, эпистолярных романов Сэмюэла Ричардсона: «Памела, или Вознагражденная добродетель» (1740), «Кларисса» (1748), «История сэра Чарлза Грандисона» (1754). «Но заметь себе, ты не должна
101
читать больше романов, кроме разрешенных мною… Но не пугайся, для Гранд., Кла. и Па. можно, вероятно, сделать исключение» (6 декабря 1765 г.). Для читающей публики, как свидетельствует это предостережение, романы давно уже стали любимым чтением.
Юный Гёте свободно ориентировался в немецком, английском и французском, а стихи у него возникали как бы сами собой. Из писем мы можем извлечь конкретные сведения: как он поначалу находился под влиянием французских теорий хорошего вкуса и классицистических взглядов Буало и тем самым был близок к идеям Готшеда; какие пьесы он ценил или, во всяком случае, считал заслуживающими внимания («Лондонский купец» Лилло, «Мисс Сара Сампсон» Лессинга, «Модные поэты» Вейсе, «Заира» Вольтера, «Тартюф» Мольера); какая литература его занимала (например, Джон Мильтон и Эдвард Юнг, Ариосто и Тассо) и как то, что стало позднее называться всемирной литературой, было знакомо ему с юности и не должно было после осваиваться с трудом; как он познакомился с Шекспиром (вероятно, благодаря сборнику Вильяма Додда «Красоты Шекспира», 1752), он не должен был, следовательно, узнавать о нем лишь в Страсбурге от Гердера, как об этом нередко приходится читать. Уже 30 марта 1766 года Шекспир назван «un grand Poete» 1, и, объявляя в письме от 7 декабря 1765 года о V акте «Вальтазара», написанного пятистопным ямбом, Гёте ссылался на Шекспира: «Это, сестра, стихотворный размер, которым пользуется бритт, становясь на трагические котурны». Здесь впервые упоминается Шекспир, книги которого на английском и в переводе на немецкий Виланда стояли на полках отцовской библиотеки.
Лейпцигские письма свидетельствуют о самоощущении пишущего. К свободному самоанализу и самоуверенной жажде познания рано стали примешиваться высказывания иного рода. Самоуверенность была лишь чем–то внешним; все время существовала опасность, что сомнения и различного рода потрясения могут ее поколебать. «Я только из каприза весел, подобно апрельскому дню; и всегда могу поставить 10 против одного, что завтра дурацкий вечерний ветер нанесет дождевые облака» (Корнелии, 14 октября 1767 г.). Образ «флюгера, который все вертится да вертится», говорит сам за себя; он снова появится в письмах из
1 Великий поэт (франц.).
102
Зезенгейма. Беспокойный, непостоянный Гёте, осложнявший жизнь и себе и другим и уже стариком признававшийся Эккерману 21 января 1824 года, что он всю жизнь «вечно ворочал камень, который так и не лег на место»; ищущий, которого никогда не удовлетворяло достигнутое, – таким он был с самого начала и таким остался. «И я с каждым днем опускаюсь все ниже, еще 3 месяца, Бериш, и конец. Спокойной ночи, я ничего не желаю знать» – таковы последние строчки лейпцигских писем (Беришу, май 1768 г.). В таком состоянии все, что можно было бы назвать одним слово «Лейпциг», становилось слишком тесным, и способность словесного выражения, присущая Гёте, переливалась через поставленные ему границы – в некоторых стихах, в некоторых пассажах его писем.
103
ФРАНКФУРТСКОЕ ИНТЕРМЕЦЦО
Месяцы болезни и кризиса
Гёте в старости не любил вспоминать о сомнительных годах, проведенных в Лейпциге. Уже упоминалось о том, что не сохранилось писем ни от матери, ни от отца; не существует ни одной строки писем Корнелии к брату. Гёте безжалостно устранял все, что представлялось ему ненужным шлаком. Когда в 1827 году в его руки попали его письма к другу юности Иоганну Адаму Хорну, он их, как известно, уничтожил.
Семестры, проведенные в Лейпцигском университете, действительно мало дали ему такого, чем бы можно было гордиться, в особенности если иметь в виду ожидания отца, который надеялся увидеть образованного, подготовленного для получения ученой степени юриста. Какова была действительная цена приобретенным познаниям, опыту и не особенно обширным попыткам в области литературы и искусства? И правда ли, что связь с Кетхен Шёнкопф перешла в дружбу? Вопросов, способных вызвать беспокойство, достаточно. В июне 1768 года Гёте тяжело заболел. В «Поэзии и правде» названо несколько причин. Склонность к «ипохондрии» он привез уже из родного города, в Лейпциге она лишь возросла; усилились боли в груди, причина которых то ли падение с лошади, то ли перевернувшаяся у Ауэрштедта дорожная карета по пути в Лейпциг, поднятая с таким трудом; неразумный образ жизни с купанием в холодной воде и сном в холодном помещении – по причине неверно понятого Руссо – и нерациональное питание – все это привело к безнадежному состоянию. В результате – кровотечение. Теперь уже невозможно решить, какую роль в этом
104
сыграло психическое состояние и не свидетельствовало ли физическое недомогание о кризисе, наступившем в результате трех лет пребывания в Лейпциге. Во всяком случае, это был больной девятнадцатилетний юноша, отправившийся в день своего рождения 28 августа 1768 года из Лейпцига и прибывший в первых числах сентября в родной Франкфурт. Несколько месяцев во Франкфурте болезнь не оставляла Гёте. Нарыв на шее пришлось вскрыть; его сильно беспокоил желудок; Гёте был предписан постельный режим; юноше было то лучше, то хуже, пока наконец зимой 1769 года он не почувствовал себя выздоровевшим. Если здоровье и «стало улучшаться» (9 ноября 1768 г.), то, согласно дневнику Корнелии, между 7 и 10 декабря больному было особенно плохо; за периодом улучшения в январе наступило снова ухудшение, и 14 февраля больной сообщил Эзеру в Лейпциг, что он еще «в плену у болезни, хотя и питает надежду вскоре от нее избавиться».
Об этой болезни высказывался ряд предположений. Намеки, разбросанные в письмах и стихах, побудили некоторых медиков предположить возможность венерического заболевания. Но их аргументы весьма шатки. Прежде всего неясно, почему больной стремился обратить внимание на свою болезнь. Симптомы болезни и ее течение, скорее, позволяют говорить о туберкулезе легких и лимфатических желез шеи, к которым присоединились недомогания в области пищеварительного тракта.
Месяцы, проведенные дома до поездки в Страсбург, были важным этапом в жизни Гёте. Они показывают, в какой мере вернувшийся из Лейпцига больной находился в состоянии поисков. Он «не был здоров ни телом, ни душой», твердого ориентира не было, и он знал, что Франкфурт может быть лишь промежуточной станцией, так как учение не было еще закончено. В этом состоянии Гёте был расположен прислушаться к различного рода идеям и предложениям, обещавшим ему не только частичные, но и всеобъемлющие ответы на вопрос о смысле жизни – и тем самым сулившим некоторую устойчивость.
В поиске
В Лейпциге Гёте был весьма далек, как видно, от христианства и от церкви. Нет оснований считать, что
105
эти вопросы как–то затрагивали его. Во всяком случае, Эрнст Теодор Лангер познакомил его с философско–мировоззренческими и религиозными проблемами. Об этом говорит замечание в письме к Лангеру от 24 ноября 1768 года: «Я, конечно, знаю, как на меня подействовала Ваша проповедь. Любовь и уступчивость в отношении к религии, дружественность к Евангелию, святое почитание Слова. Достаточно того, сколько Вы сделали. Конечно ж, при всем при этом я не христианин, но в возможностях ли человека сделать меня таковым?» К Лангеру, ставшему в 1767 году преемником Бериша в качестве воспитателя графа фон Линденау, Гёте лишь постепенно стал относиться с доверием, и как раз в некоторых письмах к нему (ставшему в 1781 году вместо Лессинга библиотекарем в Вольфенбютеле) можно обнаружить прямые и скрытые следы тех философских и религиозных размышлений, которым Гёте предавался во время болезни во Франкфурте.
Мать Гёте завязала отношения с кружком благочестивых людей, которые в своих верованиях были близки к общине гернгутеров 1. Сузанна фон Клеттенберг, «чьи беседы и письма и послужили основой для «Исповеди прекрасной души», включенной в «Вильгельма Мейстера» (3, 286), пользовалась в этом кружке особым уважением и в то же время была связана с домом Гёте узами родства. Поиски спасения в личном благочестии, в отречении от собственной греховности и в открытости души навстречу богу, дабы отдаться ему целиком, – вот что двигало этим кружком. Лишь в сосредоточенной тишине и покаянии, считалось в этом кружке, можно найти путь к богу. «Радостное спокойствие духа никогда не покидало ее (Клеттенберг. – С. Г.). Свою болезнь она рассматривала как необходимую составную часть бренного земного существования, с величайшим терпением переносила свои страдания, а в часы, когда они отпускали ее, была оживленна и разговорчива. Занятие, которому она предпочтительно, если не исключительно, предавалась, было приобретение нравственного опыта, который дается только человеку, способному наблюдать над собою; в не меньшей степени занимали ее и религиозные предметы, каковые она метко и остроумно подразделяла на естественные
1 Гернгутеры (от названия местечка Гернгут в Саксонии) – последователи религиозной секты Богемских братьев (XV в.) в Германии XVIII века. – Прим. ред.
106
и сверхъестественные… Во мне она нашла то, что ей было нужно, – юношу с живым умом, в свою очередь стремившегося к неведомому благу, который, хотя и не зная за собою особых прегрешений, отнюдь не чувствовал себя счастливым и не был здоров ни душою, ни телом» (3, 286—287).
Несколько опережая события, Гёте отмечал 30 января 1769 года, что вот уже полгода, как он дома, «и полгода болен», но и «в эти полгода я многому научился» (к Кетхен Шёнкопф). Однако совсем не легко точно перечислить, чему именно он научился в эти месяцы. Документов сохранилось очень мало, они в основном сводятся к отдельным намекам. То, о чем сообщается в восьмой книге «Поэзии и правды», требует также объяснений отдельных мест и интерпретации всего в целом, как и соответствующие места в письмах; затем следует обратить внимание на замечания, которые лишь позднее были включены в «Эфемериды» – дневник с конспектами прочитанного, указаниями на книги и с собственными замечаниями, который был начат с 1770 года.
Письмо, которое Гёте написал 17 января 1769 года Эрнсту Теодору Лангеру, особенно охотно цитируют со времени опубликования этих писем в 1922 году, потому что оно некоторыми своими формулировками доказывает обретенную наконец близость к христианской вере, несмотря на отдельные признаки колебаний и нерешительности. Это письмо отнюдь не связный отчет в том, что произошло с его автором, но оно содержит весьма важные места: «Со мною многое случилось: я страдал, я снова свободен, моей душе кальцинация пошла только на пользу, мои обстоятельства тоже улучшились, и если тело мое, как утверждают ныне, получит надежду на выздоровление, ибо открылась важнейшая причина моей болезни, то не было более счастливого события в моей жизни, чем это ужасное… Лангер, я рассуждаю иногда, ведь это ужасно! Я молод и стою на пути, каковой обязательно выведет из лабиринта, и кто может пообещать, что свет мне будет всегда сиять, как сейчас, и мне более не угрожают заблуждения. Но беспокойство! Беспокойство! Всегдашняя слабость в вере. Петр тоже был в нашем роде, праводушный человек, но боязливый. Ведал бы он, что у Иисуса власть над небом, землей и морем, он пошел бы по морю как по суху, его сомнение – причина, что он стал тонуть. Видите, дорогой Лангер, как смешно обстоит с нами; меня Спаситель таки
107
уловил – я слишком долго и слишком быстро от него бегал, и он меня схватил за вихор. И за Вами он, конечно, тоже гонится, и я надеюсь дождаться, когда он Вас догонит, только каким образом – за это я не поручусь. Иногда я совсем об этом не беспокоюсь, иногда, когда я смирный, совсем смирный, и чувствую, что из вечного источника на меня изливается все добро. Если мы даже так долго и блуждаем, мы оба, то в конце концов это совершится».
Здесь встречаются места, плохо сочетающиеся с христианскими представлениями и верованиями. Вначале говорится о пользе «кальцинации»; то, что говорится о Петре и Иисусе, не свидетельствует о нерушимой вере в Иисуса. И что подразумевается под Спасителем, который его «уловил», и «вечным источником», остается открытым.
Кропотливому труду новейших исследователей мы обязаны тем, что намеки и как бы случайно оброненные замечания Гёте о том, чему он научился во время своей болезни во Франкфурте, расшифрованы и поняты в их широком значении. Теперь не вызывает сомнения, что увлечения Гёте так называемыми «герметическими» идеями были более интенсивными и имели более серьезные последствия, чем считалось до сих пор. Герметизм подразумевает тайное учение, прокламирующее истинное знание бога, мира и человека и утверждающее нерасторжимую связь от высшего и до низшего, между целым и отдельным. В герметических сочинениях разнообразного рода, начиная с поздней античности, некая мудрость, восходящая к первичному откровению, веками передавалась, разрабатывалась, модифицировалась и приспосабливалась к различным областям: к мистике, к натурфилософии, алхимии, к герметической медицине, которая диагнозировала болезнь на основании подразумеваемой и философски развиваемой взаимосвязи бога, мира и человека и пыталась лечить ее средствами, заключающими в себе силы универсума. Герметические сочинения, первоначально существовавшие как «Corpus Hermeticum» в эпоху поздней античности, выдавались за откровения Гермеса Трисмегиста (отсюда и само название герметический), под которым подразумевался египетский бог Тот. Здесь своеобразно сочетались религиозное откровение и философская мудрость платоновского толка – и эти герметические представления передавались из века в век и принимали различные направления. Считалось, что в этих герметических традициях
108
сохранилась первичная мудрость.
Привлекательность герметизма для тех, кто к нему обращался как в прошлые века, так и в XVIII веке, заключалась в его притязании дать тайное целостное знание, существующее наряду с официальной церковной верой и «материалистическим» естествознанием, – знание, которому доступны наиболее сокровенные связи. Кто предался этому знанию, мог думать, что приобщился к созерцанию и познанию всепроникающего единства во множестве. Все было связано со всем, одно как бы отсылало к другому: открывались аналогии, которые вновь делали наглядной тайную божественную всеобщую связь. Analogia entis, сущностное согласие всего существующего, явилась предпосылкой поисков в единичном повсюду действующих сил.
В XVIII веке герметические учения оставались живыми, хотя и не для многих; они требовали философских размышлений, чтобы быть в состоянии, размышляя, созерцая и веруя, охватить царящие в универсуме связи и аналогии вместе с их воздействиями, чтобы, к примеру, понять и принять, что первичное единство бога, излившись по ступеням, преумножилось во множестве «миров» и что отдельные ступени суть лишь превращения божественного бытия, что на всех ступенях дают себя знать концентрация и расширение и существуют основные силы (как свет и огонь), которые выражают себя во всем, что возникло и живет; может быть, найден философский камень, некое универсальное средство, в котором были бы сконцентрированы действенные силы всей божественной природы. Герметические учения могли не порывать с христианской догмой, давая собственное тайное истолкование Библии. Но они могли также далеко отходить от христианской догмы, хотя признание «божественности» действующих в целом и в единичном сил оставалось незыблемой основой.
Во время болезни во Франкфурте Гёте получил доступ к герметическим книгам. Его врач, доктор Иоганн Фридрих Метц, как кажется, имел при этом значительное влияние, тем более что ему удалось с помощью своего «универсального средства» привести в порядок «по временам вовсе отказывающееся работать пищеварение» (3, 289). «Поэзия и правда» – единственный источник, объясняющий, насколько важным было для юного Гёте занятие герметизмом. Но в свой рассказ писатель теперь вставляет замечания, указывающие на известную дистанцию к тому, о чем повествуется. «И
109
врач и хирург… принадлежали к секте «благочестивцев»… Врач, непонятный мне человек, с хитрецой во взгляде, велеречивый, при этом довольно бестолковый, в своем благочестивом кругу пользовался незаурядным доверием. Будучи энергичным и внимательным, он благотворно влиял на больных, но пациенты стекались к нему главным образом оттого, что он потчевал их таинственными, им самим приготовленными лекарствами, говорить о которых они не имели права, так как лечение самодельными лекарствами у нас было строжайше воспрещено. Из некоторых порошков, видимо способствовавших пищеварению, он особого секрета не делал, но о его чудодейственной соли, применяемой лишь в крайне опасных случаях, много говорили в самом тесном кругу верующих, хотя никто ее в глаза не видел и никто не испытывал на себе ее действия. Дабы пробудить и укрепить веру в возможность существования чудодейственного лекарства, он рекомендовал некоторые мистические и химико–алхимические книги всем своим пациентам, мало–мальски склонным к такого рода чтению, и заодно давал им понять, что, проникнув в эти тайны, каждый сам сумеет скомпоновать его, а это тем более важно, что рецепт приготовления, по причинам физического и нравственного порядка, не может быть никому сообщен; для того чтобы постигнуть это снадобье, сотворить и применить его, необходимо познать тайны природы во всех их взаимосвязях, так как сия панацея существует не обособленно, а является универсальной и даже изготовляться может в самых различных формах и видах»(3, 287—288).
У фрейлейн Клеттенберг интерес к подобным учениям был уже пробужден. Она по секрету изучила «Opus mago–cabbalisticum» 1 Веллинга, и «не требовалось много, чтобы и мне привить эту болезнь. Я раздобыл книгу… Автор книги с величайшим почтением отзывается о своих предшественниках – обстоятельство, побудившее меня и мою подругу обратиться к этим первоисточникам. Итак, мы принялись штудировать Теофраста Парацельса, Базилия Валентина, не пренебрегая также Гельмонтом, Старкеем и другими, чтобы, вникнув в их учения и предписания, применять таковые на деле. Мне больше всего пришлась по душе «Aurea catena Ноmeri» 2, где природа, хоть и на несколько фантастический лад, изображена в прекрасном
1 «Трактат по маго–кабалистике» (лат.).
2 «Золотая цепь Гомера» (лат.).
110
взаимодействии и единстве. Так мы, то в одиночку, то вместе, немало времени тратили на эти диковинные сочинения…» (3, 289).
В «Илиаде» Гомера (песнь 8–я) отец богов Зевс говорит о золотой цепи, спускающейся с неба, и для герметиков эта золотая цепь Гомера стала символом нерасторжимой взаимосвязи всех существ, от самых высших до самых низших, а также непрерывной преемственности идей всех мудрецов на протяжении веков. «Aurea catena Homeri, или Описание происхождения природы и природных вещей», книга, вышедшая анонимно в 1723 году, является кладезем подобной мудрости; Гёте вспоминает о ней с особым чувством. Все взаимосвязано со всем – такова натурфилософская идея этого произведения, которое в отличие от «Opus» Веллинга не имеет теософского направления. Из праматерии возникли четыре стихии; взаимопереходы возможны; все сущее состоит из основных элементов, и тем самым минералы, растения и животные сродни друг другу.
В «Поэзии и правде» подчеркивается сильное влияние, оказанное на Гёте другим произведением: «История церкви и еретиков» Готфрида Арнольда. В ней уделено внимание именно тем мыслителям, теологам, группам и сектам, которые стояли вне признанных вероисповеданий, так что, как пишет Гёте, читатель этого обширного двухтомного произведения (отец Гёте обладал изданием 1729 года) узнавал правду о тех еретиках, которых до сих пор представляли безумцами или безбожниками. И затем Гёте подводит итог: «Во всех нас заложен дух противоречия и любви к парадоксам. Я старательно изучал различные мнения, и так как мне не раз приходилось слышать: каждый человек в конце концов имеет, мол, свою собственную религию, то мне показалось вполне естественным сочинить таковую и для себя, что я и сделал с превеликим увлечением. В основе ее лежал неоплатонизм, к которому примешались элементы герметизма, мистицизма и кабалистики. Так я построил для себя мир довольно причудливый и странный» (3, 295—296).
Следующий затем набросок «личной» религиозной космогонии примечательным образом завершает восьмую книгу.
Если надлежащим образом рассмотреть результаты, очевидно, серьезных занятий юного Гёте герметической философией, то его письмо к Лангеру от 17 января 1769 года, в котором он говорит: «Спаситель уловил
111
меня», читается не как приятие христианского вероучения с Иисусом во главе. «Кальцинация» означает в алхимии первую ступень очищения; на вере в божественность воскресшего Иисуса Гёте никогда не настаивает; и слово «Спаситель» не обязательно должно относиться к Иисусу, оно может, как в Ветхом завете, обозначать бога, а здесь, может быть, бога в герметическом смысле – в значении дух и жизнь. Христиане–герметики не колеблясь обозначали философский камень как «природного Спасителя». И слова «вечный источник» не обязательно должны относиться к Христу, а просто могут указывать на божественное. (В таком понимании слова «Спаситель» можно быть, однако, уверенным лишь в том случае, если Гёте, изъясняющийся намеками, уже раньше, возможно в декабре, действительно испытал действие универсального средства и уже познакомился с герметизмом. Указание на это есть, но бесспорных доказательств нет.)
Мир юного Гёте, каким он предстает на последних страницах восьмой книги «Поэзии и правды», действительно «довольно причудливый и странный». Это не позднейшая «конструкция» писателя – множество доказательств, относящихся к ранним годам, подтверждают это; скорее, взгляды, сложившиеся в юности, сохранились в основном до старости. «Я тщился вообразить себе божество, извечно само себя воспроизводящее, но так как воспроизведение немыслимо без многообразия, то это божество неизбежно должно было предстать перед собою как нечто второе, нам ведомое под именем сына божия. Отныне они оба были призваны, продолжая акт воспроизведения, предстать перед собою уже в качестве третьего, столь же неизменного, живого и вечного, каким является целое» (3, 296).
Тем самым круг божества замкнулся. Но потребность в воспроизведении не иссякла, и потому было создано четвертое: Люцифер, которому «отныне была передана вся созидательная сила, и от него впредь должно было исходить все остальное бытие». Но он захотел полной самостоятельности, стал следовать только принципу концентрации, «сладостное восхождение к первоисточнику» иссякло у его творений. Из этой концентрации «произошло то, что мы понимаем под материей, все, что представляем себе тяжелым, твердым и мрачным. Но и материя, если не непосредственно, то все же по прямой линии происходящая от божества, так же безусловна, всесильна и извечна, как ее родители и прародители». Этому сотворенному не
112
хватало «лучшей половины, ибо в нем было все, что может дать концентрация, сплоченность, и не было ничего, что дает экспансия, распространение». Некоторое время Элохимы (то есть три названные вначале существа) наблюдали это положение, но затем «они одарили бесконечное бытие способностью распространяться и восходить к первоистоку; необходимый пульс жизни был восстановлен, и сам Люцифер не мог уже избегнуть его воздействия. В эту эпоху появилось то, что мы называем светом, и началось то, что мы привыкли обозначать словом «творение». Но как ни разнообразилось час от часу творение благодаря неиссякающей жизненной силе Элохимов, все еще не было сотворено существо, призванное восстановить изначальную связь с всевышним. И вот был создан человек, во всем сходствующий с божеством, более того – ему подобный, который, однако, именно поэтому вновь оказался в положении Люцифера, то есть был одновременно и безусловен и ограничен…» (3, 297).