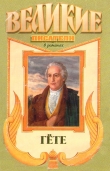Текст книги "Гёте. Жизнь и творчество. Т. I. Половина жизни"
Автор книги: Карл Отто Конради
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 45 страниц)
Хотя следует соблюдать осторожность и не отождествлять автора письма в «Письме пастора в***" с Гёте, однако «Письмо» дает возможность судить в общих чертах о религиозных взглядах Гёте, характерных не только для этого периода: неприятие догматизированной религии, мнящей себя единственной, и вместе с тем религиозная потребность в познании, в созерцании, в поиске всеобъемлющего смысла жизни, которому нельзя отказать в эпитете «божественный»; отрицательное отношение к опеке со стороны церковных органов – и открытость многообразию религиозных переживаний; признание Библии в качестве «вечной книги» – и дистанция в отношении ее толкователей, считающих каждое слово в ней универсально значимым и убежденных, что «весь свет причастен к каждой сентенции». То, что Гёте писал 29 июля 1782 года Лафатеру, определилось для него уже рано и сохраняло свою значимость на всех этапах в большей или меньшей степени: он «хотя не антихристианин, не нехристь, однако решительно не христианин».
165
ФРАНКФУРТСКИЙ АДВОКАТ И МОЛОДОЙ ПИСАТЕЛЬ
Двойная жизнь адвоката
Вскоре после успешного заключительного экзамена Гёте вернулся в родной Франкфурт, и уже 28 августа 1771 года, в день своего рождения, он подал формальное прошение о допущении к адвокатской практике. Он великолепно владел витиеватым церемонным стилем, принятым в таких случаях:
«Высокородные и высокоблагородные, ученейшие и заботливейшие правительствующие высокоуважаемые господа судебный шультгейс и шеффены.
Имею честь обратиться к Вашим высокородиям и высокоблагородиям впервые с наипокорнейшей просьбой, на удовлетворение каковой я позволяю себе питать лестную надежду, основанную на свойственной Вашим милостям доброжелательности.
Поелику после многих лет учения, каковые я посвятил со всем доступным мне прилежанием юриспруденции, высокочтимый юридический факультет Страсбурга после надлежащего диспута удостоил меня степени Licentiati Juris, то ничего не может быть для меня более важного и желательного, как только употребить полученные до сей поры знания и сведения на пользу моему отечеству, а именно прежде всего в качестве адвоката послужить своим согражданам в их правовых заботах, дабы тем самым подготовиться к более важным делам, каковые почтенные власти мне затем могут милостиво поручить…»
В течение трех дней прошение было удовлетворено. 3 сентября молодой адвокат принес присягу и как адвокат, и как гражданин Франкфурта. Перед ним открывалась карьера, которая могла бы привести его к пред–166
ставительным официальным должностям. Отец был бы доволен, если бы сын встал на этот путь и, может быть, пошел бы по стопам незадолго до этого скончавшегося деда Текстора, городского шультгейса. Но очень скоро выяснилось, что соответствующие намеки в вышеприведенном прошении оказались слишком поспешными. Возможно, они говорят о том, что Гёте когда–нибудь и послужил бы родному городу, заняв какой–нибудь официальный пост, но, может быть, это были ни к чему не обязывающие общие слова. Юный адвокат действительно открыл в отцовском доме на Гросер–Хиршграбен адвокатскую контору, вел процессы и пользовался помощью отца, который, будучи императорским советником, не имел права вести дела. Но деятельность адвоката составляла лишь часть его жизни. «Впрочем, я весьма усерден, чтобы не сказать – прилежен, адвокатствую старательно и сочиняю к тому же нечто душевное и умственное», – сообщал он весной 1774 года (Лангеру, 6 мая или 6 марта).
Адвокатские представления, которые Гёте составлял в эти франкфуртские годы, сохранились. Там, где речь идет об обычных формальностях, они написаны в том церемониальном тоне, которым Гёте всегда владел виртуозно. Когда же речь идет о самом деле, то создается впечатление, что фразы эти продиктованы красноречивым поэтом. Чересчур щепетильным при выборе своих выражений молодой юрист не был, так же как и юристы противной стороны, среди которых были друзья его молодости. В апреле 1772 года суд вынес порицание адвокатам Гёте и Моорсу за «употребление неблагопристойных выражений, ведущих лишь к ожесточению и без того раздраженных умов». Вплоть до осени 1775 года, то есть до отъезда в Веймар, адвокат Гёте занимался практикой и провел всего 28 процессов. Лишь пребывание в Вецларе (май—сентябрь 1772 г.), поездка по Рейну (июль—август 1774 г.) и первая поездка в Швейцарию (май—июль 1775 г.) прерывали его профессиональную деятельность. Но его главным занятием в эти годы она не стала. Его счастьем было то, что он не должен был существовать на доходы от своей юридической практики; он мог особенно не стараться. Сын состоятельного императорского советника dr. jur. Каспара Гёте мог не мучиться вопросами материального положения. Его занимали другие идеи. Он вернулся из Страсбурга в двадцать два года с законченным юридическим образованием, а также с новыми представлениями об искусстве, чуждый всему тому,
167
что было им создано под знаком лейпцигских лет. Когда знакомишься с письмами и теоретико–литературными работами Гёте после возвращения из Страсбурга, видишь, как во всех них решается один центральный вопрос: что такое творческая продуктивность и как надо творить, созидать. Произведения этого времени были опытами поэтического созидания, протекавшими под знаком испытания собственных творческих сил. В письме к Иоганну Готфриду Рёдереру он, думая о строителе Страсбургского собора, набрасывает характеристику произведения, создаваемого «великим духом», гением, в отличие от невеликого духа: «Его произведение самостоятельно, оно, оставляя без внимания совершенное другими, как бы предназначено существовать вечно, тогда как невеликие головы своим неуклюжим подражанием обнаруживают свою скудность и ограниченность» (21 сентября 1771 г.). В этом Гёте был убежден, уверенности же относительно самого себя юный Гёте еще не обрел. Колебания, сомнения, поиски дают себя знать все снова и снова в письмах к близким людям. Казалось, это не только проблема поэтического творчества, а самого существования: как и зачем жить. Постоянные самонаблюдения и поиски самого себя, вопрошающие сомнения, размышления над притязаниями и стремлениями личности в их соотнесенности с требованиями «мира», непрекращающееся конструирование жизни человека в особых условиях – все это делает чтение огромной массы гётевских писем захватывающим занятием. Гёте никогда ничего не облегчал себе, хотя и был избавлен от забот о насущных потребностях.
Он ни в чем еще не обрел уверенности в отношении самого себя, хотя с такой уверенностью писал о гении и его создании. Зальцману он признавался 28 ноября 1771 года: «Мой nisus [стремление, натиск] вперед столь силен, что я редко могу принудить себя перевести дыхание и оглянуться назад». Во Франкфурте ему было тесно. Умея сочинить столь витиеватое прошение и подчиниться правилам соответствующего поведения, он при этом чувствовал опасность закоснения. В том же самом письме, в котором он сообщал Зальцману о работе над «Готфридом фон Берлихингеном», он писал: «Франкфурт – это гнездо. Nidus, если хотите. Годится, чтобы выводить птенцов, а в остальном иносказательно spelunca, несносная дыра. Помоги, господи, выбраться из этой дряни. Аминь. И раньше: «Грустно жить там, где приходится вариться в
168
собственном соку». Молодой лиценциат жил «двойной» жизнью: как адвокат, подчиняющийся требованиям и нормам общественной жизни, и как творческая личность, живущая по собственным законам, говорящим о силе гения.
Шекспировское празднество
14 октября 1771 года, день именин Шекспира, Гёте выбрал для шекспировского празднества. В Стратфорде–на–Эйвоне подобное празднество уже было однажды устроено Гарриком 6—8 сентября 1769 года, и сообщение об этом, написанное Клауэром, было вложено в книгу с переводами Виланда из Шекспира, находившуюся в библиотеке отца Гёте. Гёте сам под ним написал: «Tire du Mercure de France du mois Decembre, 1769» 1. A теперь состоялось празднество в доме на Гросер–Хиршграбен; отец оплатил расходы, что отмечено в приходно–расходной книге. Был приглашен Гердер, но не смог приехать из Бюкебурга. Не прибыла и его работа, которую хотел заполучить Гёте, «дабы она составила часть нашей литургии» (сентябрь 1771 г.). Она была опубликована впервые спустя два года в сборнике «О немецком характере и искусстве». Возможно, что Гёте прочел во время франкфуртского празднества и свою речь «Ко дню Шекспира»; может быть, она написана для того же празднества 14 октября в Страсбурге, где выступал Лерзе. Речь Гёте выражает безмерное восхищение английским драматургом; одновременно она явилась выражением собственных убеждений. Шекспир был известен Гёте–студенту в Лейпциге и почитался им; Гердер глубже раскрыл ему значение великого англичанина, и он стал для Гёте и его единомышленников примером могучего, стихийно творящего гения.
Шекспир уже давно был известен в Германии. Начиная с конца XVI и в особенности в XVII веке его пьесы игрались странствующими театральными труппами, сначала английскими комедиантами, затем и немецкими, – пусть даже поначалу игрались лишь отдельные сцены или фабула пьес воспроизводилась в облегченном виде. Эти пьесы пытались переводить даже строгим александрийским стихом (например, пе–1 Вырезка из «Меркюр де Франс» от декабря 1769 года (франц.).
169
ревод «Юлия Цезаря» Каспаром Вильгельмом фон Борком, 1741); из всех этих переводов прозаическое переложение двадцати двух пьес Виландом, где, конечно, были приглушены слишком резкие места, имело для «бурных гениев» наибольшее значение. Перевод размером подлинника, сохранявший долгое время значение образца, впервые удался Августу Вильгельму Шлегелю (1797—1810) и другим переводчикам под руководством Людвига Тика. Как часто на Шекспира ссылались в эстетических дискуссиях XVIII века и в борьбе за современную в данную эпоху драму! Готшед, стремившийся к усвоению строгих форм придворной французской драмы, не желал о нем ничего знать. Удивительно, как Иоганн Элиас Шлегель в 1741 году в рецензии на перевод Борком «Юлия Цезаря» отважился на сравнение Шекспира с Андреасом Грифиусом, хваля при этом искусное построение характеров и знание людей у английского драматурга. На Шекспира ориентировалась каждая попытка отойти от французского театра с его нормами. Лессинг написал свое 17–е «Письмо о новейшей немецкой литературе» (под датой 16 февраля 1759 года), жестоко критикуя Готшеда и провозглашая Шекспира истинным образцом для немецкой сцены. «Если бы лучшие пьесы Шекспира, с некоторыми осторожными изменениями, перевели для наших немцев, я уверен в том, что это имело бы более благоприятные последствия, чем то, что их познакомили с Корнелем и Расином». Лессинг наградил Шекспира почетным титулом гения, «который, кажется, всем обязан одной природе», и считал, что он своими особыми путями почти всегда достигает цели трагедии (если даже «судить по образцам древних»). Показательно, что Лессинг здесь, как и в «Гамбургской драматургии», рассматривает гения в союзе с правилами, в данном случае с правилами трагедии, образцы которой раз и навсегда создали греки и осмыслил Аристотель. Гений не должен думать о правилах потому, что он несет их в себе и с бессознательной уверенностью следует им. Беспощадные и во многом несправедливые атаки Лессинга против французской классической трагедии можно понять, если учесть, что в строгости и закостенелости этой трагедии он видел выражение духа придворно–абсолютистского общества, не отвечавшего больше чувствам и ощущениям буржуазного духа, ищущего своего выражения. В произведениях же Шекспира, казалось, выражена универсальная природа, а «великое, ужасное, меланхолическое» (17–е «Пись–170
мо о новейшей немецкой литературе») не подавлено «благопристойностью», этикетом, правилами. В речи Гёте проведена та же линия фронта, когда он, напоминая страсбургской публике о помпезном проезде Марии Антуанетты, пишет: «Вид даже одного такого следа (оставленного великим Шекспиром. – С. Г.) делает нашу душу пламенней и возвышенней, чем глазение на тысяченогий королевский поезд» (10, 261).
Быть приверженцем драматического искусства Шекспира значило выступать против закостенелого учения о трех единствах (времени, места, действия). И Гёте пишет: «Единство места казалось мне устрашающим, как подземелье, единство действия и времени – тяжкими цепями, сковывающими воображение» (10, 262). С точки зрения свободного творческого духа, творящего как природа, они не имеют значения. «Природа, природа! Что может быть большей природой, чем люди Шекспира?!» – восклицал юный энтузиаст, хватаясь за слово, с помощью которого другие тоже старались определить особенность английского драматурга, например Гаррик и Поп (в предисловии к Шекспиру, которое Виланд предпослал своему переводу): «Его характеры в такой мере сама природа, что было бы почти что оскорблением называть их таким словом, как копии». Гердер тоже рассматривал Шекспира в качестве «переводчика природы». Повсюду утверждалось, что Шекспир не образцовый мастер, подражающий природе (мимесис!), а воплощение творческих сил природы. Устами Шекспира вещает природа, утверждал Гёте, и это потрясает, поскольку они в свой век с детских лет ощущали на себе корсет и пудреный парик» (10, 264). Никто теперь больше не искал, достигнуто ли согласие с какими–либо правилами искусства. Творить, подобно природе, означало, однако, творить не произвольно, а в согласии с внутренней необходимостью. В другом юношеском манифесте нового художественного мировоззрения, в статье Гёте «О немецком зодчестве», посвященной Эрвину фон Штейнбаху и его Страсбургскому собору, несколько позднее (1772) были найдены нужные слова: «вплоть до мельчайших частей целесообразно–прекрасное, как древа господни», «необходимо и истинно», «просто и величаво», «живое целое» и «это характерное искусство и есть единственно подлинное» (10, 7—15). Здесь не оправдывается бесформенность: несущественными объявляются лишь суждения о правильности внешней формы, ибо имеет значение только «чувство внутрен–171
ней формы» («Из записной книжки Гёте», опубл. в 1776 г.).
Шекспир, почитаемый и прославляемый, превратился почти что в мифическую фигуру. Гёте в своей речи поставил его рядом с Прометеем; известно было, что Шефтсбери в «Soliloque» говорил о нем как о «а second maker, a just Prometheus» 1. Эти идеи о художнике и поэте как о божественном творце были не новы, но теперь они обрели новую убедительность и актуальность. В красноречивые блестящие формулировки, которыми Гёте старался выразить своеобразие Шекспира и его театра, Гёте вносит кое–что из своих собственных тогдашних представлений о мире. Он указывает на «скрытую точку (ее, увы, не увидел и не определил еще ни один философ)», как будто он и есть тот философ, который увидел ее, а эта скрытая точка есть та самая, вокруг которой вращаются произведения Шекспира, «где вся своеобычность нашего «я» и дерзновенная свобода нашей воли сталкиваются с неизбежным ходом целого» (10, 263). Это был тот основной конфликт, который юный Гёте, согласно мифу, изложенному в конце восьмой книги «Поэзии и правды», раскрыл как закон творения на образах Люцифера и человека: быть «одновременно и безусловным и ограниченным» (3, 297). И ему не доставляло труда увидеть у Шекспира: «Все, что мы зовем злом, есть лишь обратная сторона добра» (10, 264), ибо полярные противоположности в жизни универсума не снимаются, а определяют жизнь, подобно концентрации и экспансии.
Если сравнить с этой речью «Шекспира» Гердера, опубликованного в сборнике «О немецком характере и искусстве» (1773), то бросается в глаза примечательное отличие. Гердер вел себя как исследователь, для которого важно уяснить своеобразие Шекспира и определить исходные точки, необходимые для рассмотрения и верной оценки драматурга нового времени. Так, эта статья стала непреходящим документом начавшегося исторического подхода к явлениям духовной жизни и искусства, рассматривающего их не с точки зрения вечных норм, а с точки зрения их своеобычности в определенных исторических условиях. Греческая драма и театр Шекспира возникли в различных условиях, поэтому было бы ошибочно делать греческую драму единственным мерилом. «В Греции драма возникла
1 Втором творце, подлинном Прометее (англ.).
172
таким путем, какого не могло быть на Севере. В Греции она была тем, чем не может быть на Севере. Значит, и на Севере она не то и не может быть тем, чем была в Греции. Значит, драма Софокла и драма Шекспира в каком–то смысле не имеют ничего общего, кроме названия» 1. Гердеру–исследователю Шекспир представлялся совершенно своеобразным творцом, родившимся в особых исторических условиях «Севера»; он «создал одно великолепное целое из всех этих людей и сословий, народов и наречий, королей и шутов, шутов и королей и силой своего творческого гения соединил самые различные вещи в одно чудесное целое» 2. Гёте использовал образ «чудесного ящика редкостей»: «Здесь мировая история, как бы по невидимой нити времени, шествует перед нашими глазами» (10, 263). В то время как Гердер оставался исследователем и теоретиком исторического метода, речь Гёте определялась его стремлением творчески следовать за английским драматургом: «В нас есть ростки тех заслуг, ценить которые мы умеем» (10, 262). Может быть, было бы правильнее сказать: мы, знакомые с дальнейшим путем Гёте и с непосредственно следующим за его речью шекспиризующим «Гёцем фон Берлихингеном», читаем его речь о Шекспире как манифест молодого писателя, стремящегося творчески следовать за английским драматургом.
«Готфрид фон Берлихинген с железной рукой»
Три четверти года Гёте оставался во Франкфурте до того, как в мае 1772 года по желанию отца он продолжил свое юридическое образование при имперском суде в Вецларе. В эти месяцы его беспокоил вопрос – если нас только не обманывают его письма: насколько велики его собственные творческие возможности? Они должны были соответствовать тому, что он прославлял у Шекспира, в противном случае они были бы никчемными. И наконец, существовал Гердер, строгий, безжалостный критик, которому нелегко было угодить. Он написал Гёте, вероятно в октябре, «чихательное письмо», то есть письмо, подобное сильному средству, вызывающему чихание, и Гёте почувствовал себя уязвленным: «Все мое Я потрясено, Вам это
1 Гердер И. Г. Избранные сочинения. М.—Л., 1959, с. 4.
2 Там же, с. 11—12.
173
нетрудно представить! И все во мне еще дрожит настолько, что мне трудно удержать перо. Аполлон Бельведерский, зачем ты предстал нам в своей наготе, дабы мы устыдились собственной… Гердер, Гердер. Оставайтесь для меня тем, что Вы есть». Одновременно писалось Зальцману не очень радостное письмо: «Все, что делаю, ничего не стоит. Тем хуже! Как обычно, больше задумано, чем сделано, по сей причине из меня и мало что выйдет. Если что сотворю, Вы узнаете».
Прошел месяц, и его целиком поглотила работа над первой редакцией «Гёца фон Берлихингена» – «История Готфрида фон Берлихингена с железной рукой в драматической форме». Это «страсть, совсем неожиданная страсть»: «Весь мой гений поглощен предприятием, ради которого забыты Гомер и Шекспир и все остальное. Я перелагаю в драматическую форму историю одного из благороднейших немцев, спасаю память о честном человеке, и тот труд, который я трачу, служит мне истинным развлечением, в каковом я здесь весьма нуждаюсь, ибо грустно жить там, где приходится вариться в собственном соку» (28 ноября 1771 г.). Закончив пьесу и переслав ее, он обрел уверенность в себе: «Тем временем Вы увидели из драмы, что стремления души моей становятся более постоянными, и я надеюсь, что она будет все более укрепляться» (Зальцману, 3 февраля 1772 г.).
Возможно, еще в Страсбурге Гёте думал над драмой о Гёце. С определенностью можно сказать, что поздней осенью 1771 года было на едином дыхании написано 59 сцен. В одно прекрасное утро, согласно его собственным воспоминаниям («Поэзия и правда», кн. 13), он начал писать без предварительных набросков или плана, и за шесть недель произведение было закончено. Никто не может доказать, что этому предшествовал этап подготовки, как это бывало обычно, согласно той же «Поэзии и правде» (кн. 14). Письмо к Зальцману говорит о другом. Мать Гёте рассказывала, что ее сын нашел какие–то следы «этого замечательного человека» Гёца фон Берлихингена «в одной юридической книге», выписал затем собственное его жизнеописание, «включил в него несколько эпизодов и пустил его в мир» (Гроссману, 4 февраля 1781 г.). Из книги Пюттера «Очерки государственных изменений Германской империи» Гёте кое–что выписал в свой дневник, «Эфемериды», а в этих «Очерках» указывалось на автобиографию Гёца. Это «Жизнеописание господина Гёца фон Берлихингена» вышло в 1731 году в Нюрнберге с
174
комментариями издателя Франка фон Штейгервальда (Георга Тобиаса Писториуса). Юный Гёте внимательно проштудировал и то и другое и кое–что весьма точно заимствовал из этого «Жизнеописания». Но он внес и важные изменения, как и полагается драматургу, избирающему в качестве сюжета исторический материал.
Указание на источники, из которых черпал Гёте, не отвечает на гораздо более важный вопрос: почему же он написал пьесу, в центре которой образ рыцаря Гёца фон Берлихингена, далекого от времени Гёте и, казалось бы, не предназначенного стать героем актуальной пьесы, поскольку он был обыкновенным рыцарем–разбойником. Гёте в «Поэзии и правде» так это объяснил: «этот суровый, добрый и самоуправный человек, живший в дикие, анархические времена», возбудил в нем живейшее участие (3, 348). «Честный человек», «один из благороднейших немцев», «суровый, добрый и самоуправный человек» – таким видел молодой и старый Гёте рыцаря Гёца фон Берлихингена. Он привлек Гёте как значительная индивидуальность. Этот образ давал возможность показать конфликт, о котором Гёте говорил в своей шекспировской речи: противоречие между свободой значительной индивидуальности и необходимым ходом целого. Подобная индивидуальность была одновременно и безусловной, и ограниченной. Тем самым поражение «честного человека» изначально было запрограммировано. Тем, кого удивляет, что драма с сильной, стремящейся к свободе индивидуальностью оказывается драмой поражения героя, следует указать на неизбежный с точки зрения Гёте конфликт, который он видел воплощенным в драмах Шекспира. Тогда становятся понятными те радикальные изменения, которые Гёте внес в образ исторического Гёца. Этот последний жил еще долго после Крестьянской войны 1525 года, принимал участие в турецком походе императора и умер восьмидесяти двух лет от роду в 1562 году отцом семи сыновей и трех дочерей: не потерпевший поражения герой, а имперский рыцарь, проживший как пришлось свою жизнь и ничем не примечательный, кроме своей искусственной руки и своей автобиографии. Междоусобицы, в которых он принимал участие, и тюремные заключения, которые он пережил, не были чем–то особенным в его эпоху. Густав Фрейтаг с известным основанием охарактеризовал его следующим образом: «дворянин–разбойник, выросший в безнравственных
175
традициях своего ремесла, столь же вредный для благополучия, образования и благосостояния своих современников, столь же бесполезный для высших интересов своего времени, как и любой другой дворянчик, подкарауливающий у Майна или в горах Шпессарта купцов с товарами и прибивающий к воротам Нюрнберга письменное объявление войны».
Насколько иным предстает Готфрид фон Берлихинген у Гёте! Брат Мартин восхваляет его как благородного рыцаря, «которого ненавидят князья и к которому прибегают угнетенные». Гёц считает себя зависимым лишь от бога, императора и от самого себя, чувствует себя правым в своих действиях и считает, что сражается за ценности, заслуживающие сохранения. «Свобода! Свобода!» – таковы последние слова Гёца, и они должны объяснить, что двигало им в его поступках. Он умирает не в борьбе, его не убивают, он затухает в плену, подобно факелу, которому не хватает воздуха, чтобы гореть и светить. «Благородный муж! Благородный муж! Горе веку, отверзшему тебя! Горе потомству, если оно тебя не оценит!» – восклицают над умершим его сестра и верный Лерзе.
Пьеса Гёте сконцентрирована на трех сюжетных линиях: на борьбе Готфрида с епископом Бамбергским (сюда относится и драма Вейслингена); на борьбе с Нюрнбергом, с последующей карательной экспедицией против Гёца и с императорским судом в Хайльбронне; на участии Гёца в Крестьянской войне. Вскоре после этой войны гётевский Гёц умирает, и здесь Гёте так же свободно обращается с историческими фактами, как и при создании образов враждебной стороны – епископа Бамбергского, Вейслингена, Адельгейды и других персонажей: Элизабеты и Марии, Олеариуса и Либетраута, обязанных своим существованием фантазии драматурга.
Юный «шекспиризующий» драматург не заботился больше о том, чтобы действие развивалось с железной последовательностью, сцена за сценой; сцены быстро меняются, некоторые доведены до обрывков разговора в несколько строк, различные линии действия пересекаются друг с другом. Гёте, восхищавшийся шекспировским театром как «чудесным ящиком редкостей», где «мировая история, как бы по невидимой нити времени, шествует пред нашими глазами» (10, 263), хотел, чтобы и в каждой пьесе в пестроте и многообразии перед зрителем проходили люди и события. Эта пьеса отвергает пресловутые единства
176
времени, места и действия. Поэтому краткий пересказ того, что происходит в пьесе, едва ли может помочь уяснить ход быстро сменяющихся сцен, относящихся ко всем трем комплексам действия.
Вначале Готфриду удается взять в плен своего прежнего друга юности Вейслингена, находящего удовольствие в жизни Бамбергского двора, и привезти в свой замок Якстхаузен. Он великодушно обращается с ним как с другом: все, что их разделяло, забыто, происходит примирение, Вейслинген собирается отказаться от придворной жизни и даже обручается с сестрой Готфрида Марией по всей форме. Но бамбержцам, обеспокоенным похищением Вейслингена, удается снова приманить его; перед «ангелом в женском обличье», Адельгейдой фон Вальдорф, о которой неверному сообщают нечто весьма соблазнительное, он не может устоять: он возвращается в Бамберг, попадает целиком под власть Адельгейды и становится даже ее супругом. Движение сюжета определяется тем, что происходит между Готфридом и Вейслингеном, между Вейслингеном и Бамбергом; что же касается Берлихингена, то он с самого начала, и прежде всего благодаря суждениям разных лиц, предстает в желаемом свете: «Лицезреть великого мужа – душе отрада», – говорит брат Мартин уже во 2–й сцене I акта, а разговор между Марией и Элизабетой, женой Готфрида, дает возможность оправдать его действия, то есть нападения, даже когда при этом страдают невиновные: «Купцы из Кёльна были ни в чем не виновны! Хорошо! но тем, что с ними случилось, они обязаны властям. Кто плохо обращается с чужими гражданами, нарушает свой долг по отношению к собственным подданным, ибо на них обрушится возмездие». Не показано, правда, что же делает этого человека великим, об этом только говорится.
Готфрид объявляет войну нюрнбержцам за то, что они обидели одного из верных ему людей. Он хочет снова пустить в ход «кулачное право» и собирается напасть на купцов из Бамберга и Нюрнберга, возвращающихся с Франкфуртской ярмарки. Вмешивается император: Вейслинген уговаривает его принять суровые меры, и император объявляет Готфрида вне закона; против последнего выступают императорские отряды, стремящиеся захватить его в плен. Готфрид и его люди мужественно сражаются и некоторое время удерживают Якстхаузен. Мрачные предчувствия осаждают Готфрида: «Мое счастье становится капризным.
177
Я это чувствую». «Быть может, я близок к своему падению». Но когда ему предлагают сдаться, он отклоняет это, произнося известные крепкие слова: «Мне сдаться? На гнев и милость? Ты с кем говоришь? Что я – разбойник? Скажи твоему начальнику, что к императорскому величеству я, как всегда, чувствую должное уважение. А он, скажи ему, он может поцеловать меня в ж…» (в издании «Гёца фон Берлихингена» 1773 года, то есть во второй редакции, эти слова напечатаны полностью, как и во втором издании 1774 года, затем они в некоторых изданиях исчезают, а начиная с первого собрания сочинений Гёте 1787 года у Гёшена стыдливо заменяются точками).
В конце концов рыцарь принимает предложение свободно выйти из замка. Но его подстерегают, нарушая данное слово, и в Хайльбронне он должен поклясться в «вечном мире», это означает, что он должен отказаться от всех военных действий. Его освобождает Зиккинген, Готфрид снова отправляется в Якстхаузен. Он дает уговорить себя помочь восставшим крестьянам в качестве военачальника, неохотно, после упорного сопротивления. Берлихинген снова попадает в плен, посажен в тюрьму, и здесь он умирает, одинокий, покинутый, узнавший о смерти нескольких верных ему людей; Мария и Лерзе произносят последние слова: слова обвинения веку и предупреждения потомкам. Но свершилась и судьба Вейслингена. Адельгейде он опротивел; она поручает отравить его, своего супруга, и сама осуждена на смерть тайным судилищем.
Пересказ событий этой драмы не позволяет судить о насыщенности, плотности отдельных сцен, о силе поэтического языка, способного немногими словами и фразами передать своеобразие каждого персонажа. Император и крестьянин, слуга и епископ, юрист и придворный шут, нерешительный и неверный Вейслинген и соблазнительная и коварная Адельгейда, любящие и заботливые Мария и Элизабета и, наконец, Готфрид фон Берлихинген – в языке каждого из них выражена его индивидуальность, так что возникает живая панорама бурного времени, чего не было ранее ни в одной немецкой драме. У юного писателя, умеющего психологически вчувствоваться и живо сочинять, некоторые сцены благодаря творческому переизбытку получились слишком красочными и резкими. В своей автобиографии Гёте признавался, что влюбился в Адельгейду: его перо непроизвольно писало только о ней, и интерес к ее судьбе взял верх над всем осталь–178
ным (3, 482). Она под его пером приобрела демоническое величие и одержимость, сумела пленить не только Вейслингена, но и Франца фон Зиккингена и погубить своего слугу. Во второй редакции все это смягчено и сглажено.
В начале 1772 года Гёте послал свою драму на суд Гердеру, называя ее весьма сдержанно наброском, хотя и нарисованным кистью на полотне и в некоторых местах даже и выписанным, но все же остающимся только наброском». Гердер в ответ не поскупился на критику. Его письма мы, правда, не знаем, но Гёте цитирует в собственном письме от июля 1772 года самое главное: «Окончательное суждение, «что Вас Шекспир совсем испортил и т. д.», я признал сразу во всей его силе». В своем суждении Гердер вряд ли имел в виду превращение драмы в соединение множества свободно следующих друг за другом сцен, потому что во второй редакции их стало не многим меньше: их осталось 56; ничего не изменилось и в отношении краткости некоторых сцен. Очевидно, Гердер имел в виду что–то другое: возможно, преувеличенно яркий образ Адельгейды, достигающий масштабов шекспировских злодеев; несообразную странность сцены пребывания Адельгейды у цыган, где она покоряет даже Зиккингена; резкость сцен Крестьянской войны и неограниченную свободу словесного выражения. Во всяком случае, так можно судить на основании тех изменений, которые внес в драму Гёте. Вторая редакция написана в короткое время, весной 1773 года, и вышла в июле под новым заголовком: «Гёц фон Берлихинген с железной рукой. Пьеса». Намеченная выше основа пьесы осталась без изменения. Филолог, конечно, не пройдет мимо отдельных оттенков, и прежде всего изменений, произведенных в заключительной сцене. В то время как первая редакция заканчивается без всяких намеков на какие–то надежды в будущем, во второй редакции в словах Гёца об окружающей природе содержится робкое утешение: «Боже всемогущий! Как хорошо под небом твоим! Как свободно! На деревьях наливаются почки, все полно надежды» (4, 102). Но и здесь сохраняется мрачное пророчество: «Бедная жена! Я оставляю тебя в развращенном мире. Лерзе, не покидай ее… Замыкайте сердца ваши заботливее, чем ворота дома. Приходит время обмана, ему дана полная свобода. Негодяи будут править хитростью, и честный попадется в их сети» (4, 102).