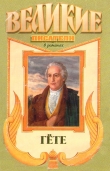Текст книги "Гёте. Жизнь и творчество. Т. I. Половина жизни"
Автор книги: Карл Отто Конради
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 45 страниц)
Искусство и литература
Особое внимание Гёте начал уделять искусству и литературе, иначе и не могло бы быть после первых франкфуртских опытов. Уже в 1765 году он познакомился с Адамом Фридрихом Эзером, назначенным за
1 Здесь: будь то (лат.).
72
год до этого директором вновь основанной художественной академии. Эзер был живописцем, гравером и скульптором, но на Гёте, пожелавшего усовершенствоваться в рисовании, он повлиял в меньшей степени как учитель рисования, чем как знаток искусства, открывший ученикам глаза на античное искусство. Здесь Гёте впервые встретился с винкельмановским духом. В Дрездене в середине 50–х годов Иоганн Иоахим Винкельман находился с Эзером в близких отношениях, и в эпохальной работе Винкельмана «Размышления о подражании греческим произведениям в живописи и скульптуре» (Дрезден, 1755) есть и доля Эзера. Эзер, по воспоминаниям Гёте, заставлял своих учеников усваивать «евангелие прекрасного или, точнее, хорошего вкуса и художественного обаяния» (3, 265). Первое, что он рекомендовал, – была «простота во всем, что призваны создавать совместными усилиями искусство и ремесло». Собственные работы Эзера, однако, говорили о том, что этот «заклятый враг разных завитушек, ракушек и всех вычур барокко» (3, 261) не пришел сам к строгости и ясности классической формы, и производили впечатление скорее слова о простоте и спокойствии как идеале красоты, чем сами античные произведения, тем более что Академия располагала лишь слепками с «Лаокоона» и «Танцующего Фавна». Когда Гёте в марте 1768 года посетил Дрезден, чтобы познакомиться с художественными сокровищами, он пропустил собрание скульптур, чтобы больше внимания уделить нидерландским мастерам, манера которых была ему знакома по наглядному обучению, полученному им в родительском доме у «голландизирующих» франкфуртских художников.
Заслуга Эзера была в том, что он подводил юного студента к главным вопросам искусства, остававшимся для него животрепещущими: что такое прекрасное и какова цель искусства. Это значение лейпцигского учителя, с которым Гёте продолжал поддерживать связь, явствует из благодарственного письма Гёте из Франкфурта 9 ноября 1768 года: «Как я обязан Вам, дражайший господин профессор, что Вы открыли мое сердце к восприятию прелести… Вкус к прекрасному, мои познания, мое понимание – разве это все я не получил от Вас?»
Наглядному обучению искусству учеников Адама Эзера способствовали также и частные коллекции, собранные такими состоятельными лейпцигскими бюргерами, как банкир и городской архитектор Готфрид
73
Винклер или купец и городской советник Иоганн Цахариас Рихтер. Наряду с большим числом картин нидерландской школы были картины, приписываемые Тициану, Веронезе и Гвидо Рени, а также многочисленные оригинальные рисунки и гравюры.
Теперь Гёте занялся и гравированием. На верхнем этаже дома семейства Брейткопф, в котором бывал Гёте, жил гравер из Нюрнберга Иоганн Михаэль Шток, приехавший некоторое время тому назад в Лейпциг и работавший художником в издательстве Брейткопфа. Гёте делил время своих посещений между верхним и нижним этажами и под руководством Штока делал гравюры с ландшафтами по рисункам других. «Вот тебе и ландшафт, – писал он в письме к Беришу 26 апреля 1768 года, – первый памятник с моим именем и первый опыт в этом искусстве». Может быть, эти слова относятся к одной из двух сохранившихся гравюр с пейзажем, где впервые появляется имя Гёте как художника: «Grave par Goethe» 1.
На пасхальную ярмарку 1766 года в Лейпциг приехали франкфуртские знакомые, Иоганн Адам Хорн и Иоганн Георг Шлоссер, женившийся в 1773 году на сестре Гёте, Корнелии. Шлоссер «остановился в Брюле на постоялом дворе, вернее – в трактире некоего Шёнкопфа» (3, 225). Здесь стал обедать и Гёте, завел новые знакомства и полюбил дочь хозяина Анну Катарину Шёнкопф.
Иоганн Георг Шлоссер, на десять лет старше Гёте, «человек высокообразованный, уже успевший себя зарекомендовать» (3, 226), не хотел покидать Лейпциг, не посетив корифеев этого города. В тогдашних условиях, когда круг образованных людей был легко обозрим, подобные визиты были в порядке вещей. Посещение Готшеда Гёте описал в «Поэзии и правде» (3, 226). Описание это приобретает характер анекдота, когда рассказывается о том, как посетители застали врасплох старого лысого внушительного человека, не успевшего надеть огромного парика с локонами. Если стареющий Гёте представил здесь эту импозантную личность в несколько комичном свете, то это вполне соответствует тому, как молодой Гёте осмеял известного литературного реформатора в иронических стихах в письме к Ризе от 30 октября 1765 года.
Авторитет Готшеда померк. Гёте тоже не сумел верно оценить его истинного значения. Отрицательные
1 Гравировал Гёте (франц.).
74
суждения о Готшеде переходили из столетия в столетие. Справедливая оценка этой известной фигуры эпохи раннего Просвещения, конечно, достаточно трудна, потому что его представления о поэзии были чужды и непонятны последующим поколениям. Уже во времена пребывания Гёте в Лейпциге они не удовлетворяли ни писателей, ни читателей; образованные люди из бюргерской среды питали иные надежды. Но при этом не приходится отрицать, что Иоганн Кристоф Готшед, назначенный в 1729 году в Лейпциге экстраординарным профессором поэзии и в 1734 – ординарным профессором логики и метафизики, соответствовал своей литературной реформой определенной стадии формирования буржуазного общества. Если бюргерство также претендовало на значительную литературу, оно должно было следовать нормам, которые не уступали господствовавшему до сих пор придворному искусству. Короче говоря, имелось в виду дидактическое искусство, служащее бюргерству, переставшему следовать придворным образцам. Это искусство несло в себе признаки переходного периода. Народная литература отвергалась Готшедом, как и полная несообразностей опера, служившая феодальному представительству; как и прежде, в трагедии могли выступать лишь особы, принадлежащие к высшим сословиям, но трагедия должна была содержать нравственное наставление, полезное для зрителей–бюргеров. Со строгой последовательностью возводил Готшед здание своей теории поэзии. Его теория поэзии покоилась на философской основе. (В двух томах своих «Первооснований всемирной мудрости», 1733—1734, он изложил философию Кристиана Вольфа, познакомив тем самым с ней широкую публику.) Поскольку в разумной природе не бывает противоречий и ничто не переходит границ возможного, и в искусстве также все «должно выдержать проверку разумом». Поэзия должна была не только подражать природе, но и отвечать требованиям моральной поучительности. Очень скоро эта система правил и предписаний оказалась слишком жесткой и негибкой и не соответствующей намерениям и ожиданиям писателей и публики. Она не могла способствовать изображению жизни семьи или дружеского кружка, интимной домашней жизни, радостей и горестей буржуазного мышления.
Кристиан Фюрхтеготт Геллерт сумел в своих стихах и в прозе, в пьесах и письмах изобразить такой образ жизни, и это обеспечило ему огромный успех. При–75
надлежа вначале к кружку учеников Готшеда, он получил в 1744 году в Лейпциге право преподавать и стал в 1751 году профессором факультета изящных искусств, морали и ораторского искусства. Как и у Готшеда, в его «Лекциях о нравственности» провозглашалось, что добродетель – это «согласие всех наших намерений, склонностей и дел с божественными установлениями, каковые всегда сопряжены с нашим счастьем и благом наших ближних». Это требование относилось прежде всего к частной жизни бюргера. Следовало избегать крайностей, рекомендовалась умеренность, разумная середина. Литература должна была служить овладению повседневной жизнью. Вежливость, любовь и сдержанность в отношениях между людьми, душевная невозмутимость как результат твердости веры – таковы были важнейшие принципы. Литература обязывалась внедрять их эмоционально, ее стилем должны были стать жизнеподобие и естественность.
Если только рассматривать Геллерта, который сам был противоречивой и далеко не простой натурой, вне этого исторического контекста и если ждать от искусства свободной игры воображения и эстетической утонченности, только тогда произведения этого писателя можно отвергнуть как незначительные и не имеющие художественной ценности. Но это не соответствовало бы его исторической роли, хотя его пользовавшиеся большой популярностью «Лекции о нравственности» освещали вопросы, представляющиеся нам сегодня неуместными в данном контексте: диетическое питание, проветривание комнат, телодвижения, мимика, высота звука голоса и т. д. Его «Басни и рассказы» после Библии были в XVIII веке самой читаемой книгой. Геллерт умер 13 декабря 1769 года, и неделю за неделей на его могилу продолжало ходить такое количество людей, что пришлось закрыть Иоганново кладбище в Лейпциге. Адам Эзер создал памятник Геллерту, а в 1777 году ко дню рождения герцогини Анны Амалии, поклонницы Эзера, Гёте написал стихи:
ПАМЯТНИК ГЕЛЛЕРТУ ЭЗЕРА
Когда оставил Геллерт нас,
Немало было слез пролито
И весь отеческий Парнас
Почтил стихами смерть пиита;
Счел долгом каждый дилетант
Цветок вплести в венок лавровый —
76
Обряду скорби несуровой
Совсем не надобен талант;
Лишь Эзер вне толпы стоял,
Душой к усопшему взывая,
Черты родные вспоминал,
Нетленный образ создавая;
И скорбь нестройную толпы
Собрал он в мрамор вдохновенный,
Так в урну маленькую мы
Сбираем пепел незабвенный.
(Перевод А. Гугнина)
Гёте в Лейпциге слушал у Геллерта курс истории литературы по Штокгаузену и посещал практические занятия, которые тот проводил, как упоминается в «Поэзии и правде», где рассказывается также о примечательных чертах характера знаменитого профессора, любившего разъезжать на сивой кроткой кобыле. Знаменитые «Лекции о нравственности» юный студент, как видно, тоже посещал.
Любопытно выяснить, что можно было найти примечательного у Иоганна Кристофа Штокгаузена, книга которого лежала в основе геллертовских лекций («Критический каталог избранной библиотеки для любителей философии и изящных наук», Берлин, 1757; 3–е издание – 1764). В этой книге с похвалой упоминается об Альбрехте фон Галлере и Геллерте, так же как и о «Мессиаде» Клопштока и «Сократических достопримечательностях» Гамана; о романах Ричардсона говорится, что они заслуживают первого места среди хороших романов. События, характеры, правдоподобие, мораль – все здесь тщательно согласуется между собой, создавая мастерское произведение этого рода. Лоренс Стерн и Эдвард Юнг также присутствуют в рекомендательном списке Штокгаузена. Перед нами – круг чтения образованного общества. Таким образом, Геллерт был пропагандистом современной ему литературы? Такой вывод был бы неверен. Один из слушателей сообщает, что он никогда не слышал на лекциях имен Клопштока, Эвальда фон Клейста, Виланда, Геснера, Лессинга, Герстенберга (см. «Франкфуртские ученые известия» от 21 февраля 1772 г.).
Геллерт на практических занятиях, где обсуждались и сурово критиковались работы студентов, вероятно, не очень–то одобрял и поощрял их занятия поэзией. Он заботился о моральных наставлениях, поэзии отводились лишь часы досуга.
77
Для творчества Гёте влияние Геллерта не имело никакого значения. Это подтверждается его позднейшими высказываниями и произведениями лейпцигского периода. Хотя отношение Гёте к Готшеду и Геллерту ограничилось лишь общим знакомством с их произведениями, не следует забывать, что юный студент в качестве внимательного и критически настроенного наблюдателя изучил теорию и практику литературы, которая была современно–бюргерской, а Готшед и Геллерт представляли различные ее этапы. Поскольку Гёте сам не обрел еще ясной ориентации, он должен был определить свою позицию в данных условиях.
Лейпцигский студент и поэт находился в трудном положении. Когда он прибыл из Франкфурта в новый для себя мир немецкого «маленького Парижа», его встретили весьма критически. Диалект, поведение, платье не подходили к новому окружению. И он попытался приноровиться и соответствовать требованиям моды в манерах и поведении. Хуже всего было, что его поэтические опыты не имели успеха. Он приехал сюда уверенным в себе, он творил, подчиняясь естественному поэтическому порыву, не отягощенный никакими рефлексиями! «Давалось мне это все легче и легче: тут действовал инстинкт, и никакая критика не приводила меня в замешательство» (3, 203). С этим теперь было покончено. В письме к Ризе от 28 апреля 1766 года он описывает свое положение в стихах:
Ты знаешь, друг, как музу я любил.
[…]
Ах, ты ведь помнишь, друг,
Как верил я (и как я ошибался!),
Что муза мне близка и часто шлет
Мне песню. Да, на лире я бряцал
И собственным уменьем восторгался,
Но вдохновлял меня не Аполлон.
Хотя, гордыни полный, думал я,
Что боги мое пенье направляют,
А голос мой – вершина совершенства,
[…]
Но по прибытьи в Лейпциг пелена
Исчезла с глаз моих, когда мужей
Великих лицезрел и понял я,
Какой к вершинам славы путь тяжелый.
Увидел я, что мой большой полет
На деле был лишь жалким трепыханьем
Червя в пыли, который вдруг орла
78
Заметил и за ним стремится ввысь.
Он извивается, из кожи лезет вон,
Но пыль есть пыль. И вдруг могучий вихрь
Вздымает тучей пыль и в ней – червя,
Тот разом мнит, что равен он орлу,
И славы жаждет. Но утихнул вихрь,
И пыль опять с высот спадает вниз,
И с ней – червяк. И снова он в пыли.
(Перевод А. Гугнина)
На практических занятиях у Геллерта и в еще большей степени у профессора Клодиуса (позднее Гёте отомстил ему своей пародией «Пирожнику Генделю») ему так доставалось, что он не решался больше выступать там со своими работами.
Что он мог сделать? По его собственным словам, ему понадобилось полгода, чтобы оправиться и «по повелению моих девиц» быть в состоянии написать несколько песен (письмо к Корнелии от 11 мая 1767 г.). В «Поэзии и правде» Гёте назвал причины кризиса, который временами заставлял его замолкать. Он боялся того, что написанное им и понравившееся ему сегодня, завтра, может быть, он вынужден будет наравне со многим другим признать никуда не годным. «Эта неустойчивость вкуса и суждений с каждым днем все больше меня тревожила, так что под конец я положительно впал в отчаяние» (3, 216). Не обладая уверенностью в себе, он как–то проникся таким презрением к своим начатым и оконченным работам, что «в один прекрасный день сжег в кухонной плите стихи и прозу, все свои планы, наметки и наброски» (3, 217). Об этом он сообщил сестре Корнелии 12 октября 1767 года. Как ни критически Гёте относился к лейпцигскому обществу и его манерам и формам обхождения (см. письмо к Корнелии от 18 октября 1766 г.), он вынужден был стремиться утвердить себя в общепризнанной там поэтической манере, если хотел предстать в качестве поэта и пользоваться уважением. А к этому он, без сомнения, стремился – ситуация, не свободная от противоречий. Принципами Готшеда и Геллерта Гёте руководствоваться больше не мог. Христианское морализаторство и сентиментальная добродетель Геллерта в особенности не могли привлечь молодого Гёте, который еще во Франкфурте познал сомнения. Весьма показательно, что не существует ни одного стихотворения Гёте в стиле тех «Духовных од и песен», которые во множестве сочинял Геллерт. Если он и впадал порой
79
в тон христианских песнопений, то у него получались лишь пародии.
Таким образом, ему ничего не оставалось, как попытать счастья в сфере бюргерской светски–шутливой поэзии рококо, справиться с ее темами и мотивами. Обращение к этого рода поэзии было как бы запрограммировано с самого начала – на определенное время, чтобы испытать себя и в этом.
Лирика Гёте лейпцигского периода
Если подытожить часто лишь брошенные мимоходом суждения Гёте о своих самых ранних произведениях, преданных огню, то, как нам представляется, его критика оказывается обращенной прежде всего против многословия, непродуманности выражения и недостаточного внимания к содержанию. «Определенность», «точность», «краткость» – вот положительные черты, названные в седьмой книге «Поэзии и правды» в ее историко–литературной части; к ним добавляются еще «лаконичность», «сжатость», «веселое простодушие», «краткость и точность», «большое изящество». Не представляет большого труда обнаружить эти свойства в той светски–шутливой, точно соизмеряющей остроумие и иронию лирике, получившей в истории литературы обозначение «поэзии рококо».
В письме к Корнелии от 11—15 мая 1767 года заметна вновь обретенная уверенность в себе. Детское зазнайство, проступающее в письме к Ризе, отсутствует: «Нисколько не будучи гордым, я могу довериться своему внутреннему убеждению, что обладаю некоторыми свойствами, потребными поэту, и что чрез усердие мог бы стать однажды таковым. С десятилетнего возраста я начал писать стихи и думал, что они хороши, теперь же, в свои семнадцать лет, я вижу, что они плохи, но я ведь стал на семь лет старше и делаю их на семь лет лучше… Когда я прочитал суровую критику Клодиуса на мое свадебное стихотворение, я совсем пал духом, и мне понадобилось целых полгода, пока я оправился и смог написать несколько песен по повелению моих девиц. С ноября я написал самое большее пятнадцать стихотворений, и все они не особливо большие и важные, и ни одно из них я не решусь показать Геллерту, зная его нынешнее отношение к поэзии. Пусть же меня не трогают, если у меня есть гений; так я стану поэтом, и, если меня никто не исправит, значит, у меня его нет; и никакая критика не поможет».
80
Упомянутые здесь стихи принадлежат к той беззаботной светской лирике, которая создавалась в середине XVIII века такими писателями, как Фридрих фон Хагедорн, Иоганн Вильгельм Глейм, Иоганн Николаус Гёц, Иоганн Петер Уц, Генрих Вильгельм фон Герстенберг, Кристиан Феликс Вейсе и другие, и была распространена в светских кругах Лейпцига. Ее мотивы черпались из ограниченного и весьма характерного круга тем; любовь выступает в ряде ситуаций: как он и она ищут друг друга и как стыдливость и добродетель ведут переменчивую игру с желанием; как необходима скрытность и как она оказывается ненужной; как девушка сопротивляется и как ей хочется уступить – и как она уступает; как за ней следит мать и как ей удается все же перехитрить мать; какая сноровка нужна в игре, чтобы достичь любовных радостей, которые (по крайней мере в поэзии) являются очевидной целью и всеми прославляются. Участники любовных игр могут выступать как пастушка и пастушок, и имена их так же традиционны, как Амур и Венера, Вакх и Морфей. Подобным играм благоприятствует идеализированная природа очаровательной долины с лужком и ручейком, живой изгородью и избушкой, ароматом цветов и пеньем птиц, когда веет ласково зефир, нежной весной или зрелой осенью. Вино и песни, поцелуи и нежности, дружба и общительность – вот о чем рассказывают эти стихотворения. При этом рекомендуется, однако, умеренность в наслаждении и довольство в скромных условиях. Стихотворение завершается часто остроумной концовкой, так что кажется, что вся эта игра велась лишь ради этой неожиданной концовки. Важные господа и крупные исторические личности не интересуют авторов этих стихотворений, они сознательно исключаются.
И. В. ГЛЕЙМ
Красавицам
О поэты,
Пойте громко,
Пойте звонко
О героях;
Я ведь тоже
Петь намерен,
Только петь
Не о героях.
81
Вам, красавицы,
Мой голос!
Мои струны
Не кровавы,
Мои песни
Не печальны.
О, внемлите
Моим песням —
О любви одной
Пою я!
(Перевод А. Гугнина)
Гёте был хорошо знаком с этой лирикой. Об этом говорят три его тоненьких поэтических сборника, в которых собраны стихотворения лейпцигского периода только этого типа, и для филолога не представляет труда найти переклички и заимствования. Зефир, наслаждения, нежность, фимиам, мотылек, сладостный, любезничать – эти и подобные слова были приняты в тогдашней светской поэзии, и Гёте, не задумываясь, пользовался ими.
Поскольку эти ранние маленькие сборники Гёте, содержание которых частично повторяет друг друга, в их первоначальном составе не сохраняются в обычных собраниях стихотворений Гёте – а также и в тех, которые подготовил он сам, – приводим заголовки вошедших в них стихов.
Рукописная книга «Аннета» была составлена другом Гёте Эрнстом Вольфгангом Беришем из 19 стихотворений. Лишь в 1895 году эта рукопись была обнаружена среди бумаг, оставшихся после смерти Луизы фон Гёхгаузен. В книге представлены следующие стихотворения: «Аннета», «Циблис, рассказ», «Лида, рассказ», «Искусство ловить недотрог, рассказ первый», «Искусство ловить недотрог, рассказ второй», «Триумф добродетели, рассказ первый», «Триумф добродетели, рассказ второй», «Элегия на смерть брата моего друга», «Ода господину профессору Цахариэ», «Сну», «Пигмалион, романс», «Влюбленные», «Аннета своему возлюбленному», «Юному хвастуну», «Мадригал», «Крик, с итальянского», «Мадригал, с французского», «Мадригал, с французского господина Вольтера», «К моим песням».
Рукопись сборника «Песни и мелодии» изготовлена писцом, мелодии, возможно, принадлежат Бернгарду Теодору Брейткопфу. Рукопись из бумаг, принадлежавших Фридерике Эзер, содержит стихотворения:
82
«Могила Амура», «Желание маленькой девочки», «Непостоянство», «Ночь», «К Венере», «Мотылек», «Крик», «Любовь и добродетель», «Счастье», «Радости».
«Новые песни» – так называется первый печатный сборник стихотворений Гёте, имя которого на книге не обозначено. Он появился к ярмарке св. Михаила 1769 года и был датирован 1770 годом. В сборник вошли: «Новогодняя песня», «Истинное наслаждение», «Ночь», «Крик», «Мотылек», «Счастье», «Желание маленькой девочки», «Свободная песнь», «Детский разум», «Радость», «Могила Амура», «Любовь и добродетель», «Непостоянство», «К невинности», «Мизантроп», «Реликвия», «Любовь против воли», «Счастье любви», «К Луне», «Посвящение».
Стихам этим свойственно большое разнообразие форм. Нестрофические стихи без рифмы чередуются со строфическими и рифмованными; представлена и промежуточная форма между прозой и стихом, которой пользовался Герстенберг в своих «Шалостях», близких к идиллиям (третье издание их вышло в 1765 году), и короткое стихотворение с остроумной концовкой; в «Новых песнях» звучат также отголоски песен «зингшпиля», которые писал в Лейпциге Иоганн Адам Хиллер. С его творчеством руководителя «больших концертов», с успехом писавшего музыку к «зингшпилям» Вейсе, Гёте познакомился в Лейпциге, так же как, без сомнения, со сборником песен Сперонте «Поющая муза с берегов Плайсе». Отсюда путь к народной песне был не так уж и долог.
Лирику Гёте лейпцигского периода неоднократно именовали «анакреонтической» – вероятно, потому, что Гёте сам в седьмой книге своей автобиографии говорит об «анакреонтическом пустозвонстве» (3, 230). Это суммарное определение, строго говоря, несправедливо. В 1554 году в Париже Генрикус Стефанус издал сборник «Anacreontea» – 60 стихотворений, приписываемых греческому поэту Анакреонту из Теоса (VI в. до н.э.), на самом же деле это были подражания в «анакреонтической манере». Анакреонтические песни представляли собой нерифмованные строфы, написанные определенным размером, с их характерными мотивами вина, любви, женщины и песнопенья. От этого мнимого открытия Анакреонта берет свое начало целое течение во всей европейской лирике, при этом вскоре начинают создаваться стихи со свободным строфическим членением и рифмами. Короче говоря, исследования давно уже показали, что не вся поэзия рококо
83
в Германии XVIII века является по своим формам и мотивам «анакреонтической» и что Гёте обязан всему многообразию современной ему шуточной поэзии. Соломон Геснер, Герстенберг, Виланд, эпиграммы Лессинга, французская «poesie fugitive» 1 – все они связаны с иными традициями, идущими от Феокрита, Эпикура, Горация, Катулла, европейской пасторальной поэзии. Всем им обязан Гёте в своей поэзии лейпцигского периода. (Вступительное стихотворение сборника «Аннета» – «Аннете» – единственное в собственном смысле анакреонтическое стихотворение этой книжки.) Но независимо от этих специальных историко–литературных вопросов термин «анакреонтический стиль» может служить обозначением таких черт, как легкость, естественность, нежность, жизнерадостность, которые мы находим в стихах подражателей «Anacreontea». Провести четкую границу между анакреонтической поэзией и поэзией рококо в целом трудно, если не считать определяющим анакреонтический стихотворный размер.
Аннета – не имя некой придуманной пастушки. Имеется в виду Анна Катарина Шёнкопф, дочь того трактирщика, за столом у которого обедал в 1766 году шестнадцатилетний Гёте благодаря Иоганну Георгу Шлоссеру. О нежных чувствах к ней, бывшей на три года старше юного студента, обстоятельно рассказывается в седьмой книге «Поэзии и правды», а также о том, как «необоснованными, грубейшими вспышками ревности» он «отравлял себе и ей лучшие дни» (3, 240). Ближе к истине повествуют об этой ранней любви письма, прежде всего к другу Эрнсту Вольфгангу Беришу (он был старше Гёте на одиннадцать лет), которому Гёте, как верному советчику, поверял многое из этой «сердечной истории». Сестре же Корнелии он сообщал лишь кое–что попутно или пытался скрыть истину, как, например, в письме от августа 1767 года, где он выдавал Аннету за свою музу («et ce sera a l'avenir mon Annette, ou ma Muse, ce que sont des synonymes» 2). «Я люблю девицу без положения в обществе и без состояния, и нынче я в первый раз чувствую себя счастливым, как бывает только при истинной любви», – признавался он другу Моорсу в письме от 1 октября 1766 года. Связь эта продолжалась до весны 1767 года, затем прекратилась, и Кетхен Шёнкопф через два
1 Легкая поэзия (франц.).
2 И это будет в будущем моей Аннетой или моей музой, что одно и то же (франц.).
84
года вышла замуж за доктора Канне, будущего вице–бургомистра Лейпцига. «Сегодня два года с того дня, как я ей впервые сказал, что люблю ее, два года, Бериш. Мы начали любовью и кончаем дружбой» (Беришу, 26 апреля 1768 г.). Очевидно, поведение возлюбленного было капризным, он то стремился к обладанию, то смирял свои желания, то мечтал о прочных отношениях, то осознавал, что разрыв неизбежен. Может быть, Кетхен Шёнкопф, отдавая себе отчет в разнице возрастов и общественного положения, сама не думала о длительном союзе, и, возможно, именно отсюда и напряженность в этих отношениях, пережитая и в полной мере испытанная юным Гёте. Ситуация, предваряющая Вертера? Во всяком случае, Хорн писал Моорсу 3 октября 1766 г.: «Он ее нежнейше любит, питая совершенно честные намерения добропорядочного человека, хотя и знает, что она никогда не сможет быть его женой». Но и Гёте, впервые любя серьезно, не хотел жертвовать своей свободой, что лишь усиливало внутренний разлад. Слова о «флюгере, который вертится, все вертится», подходят к нему (Беришу, 2 ноября 1767 г.). «Я говорю себе часто: а если бы она была твоей и никто, кроме самой смерти, не смел бы оспаривать ее у тебя, не мог бы лишить тебя ее объятий? Признайся себе, что ты при сем чувствуешь, о чем ты размышляешь – и до чего доходишь, и я прошу бога, чтоб он не даровал ее мне» (7 ноября 1767 г.). И через несколько месяцев: «Слушай, Бериш, я не хочу покидать эту девушку, и я должен бежать, я хочу бежать» (март 1768 г.). Современному читателю этих писем трудно решить, насколько вспыхивающая в них страсть и ревность, о которой пишется, являются истинным выражением пережитого или всего лишь заимствованиями из условного репертуара любовной поэзии того времени.
В письмах Беришу мелькают имена девушек – Етти, Фрицхен, Августа, – не поддающиеся идентификации. Описав горячо свои противоречивые чувства к Кетхен Шёнкопф (7 ноября 1767 г.), он без смущения тут же предается фантазиям о том, каковы его шансы у Фрицхен; а затем следует признание: «Узнаешь ли ты меня в этом тоне, Бериш? Это тон победителя. Я – и в этом тоне? Смешно. Я не поручусь тебе, что я не осмеливаюсь уже собл… девицу – как, черт возьми, это назвать? Достаточно, мсье, все, что Вы можете ждать от своего наипонятливейшего и наиприлежнейшего ученика». Хвастливая поза? Заимствованная из галантной поэзии фривольная ситуация – в частном письме?
85
Признак юношеской неуверенности, которую нужно перекрыть хвастовством? Друг Бериш как опытный наставник в деле эротической свободы? Никто не смог бы на это однозначно ответить. Конец романса «Пигмалион» соответствует письмам, в том числе и письмам об Аннете, как письма соответствуют стихотворению:
Целуйте девушек везде,
Любите их всегда,
И вы не будете жалеть
Об этом никогда.
Но строго следуйте, друзья,
Совету моему,
Иначе всучит вам Амур
Сварливую жену.
(Перевод А. Гугнина)
Во всяком случае, эротическое – характерный элемент лирики лейпцигского периода. Не удивительно, что несколько более позднее письмо доходит до головокружительных спекуляций: «Как ты ни здоров и ни силен, в этом проклятом Лейпциге сгораешь так же быстро, как скверная смоляная чурка. Ну, ну, бедняга новичок–первокурсник понемножку да полегоньку придет в себя. Только одно хочу я тебе сказать, берегись распутства. У нас, мужчин, дело обстоит с нашей силой, как у девиц с их честью, отправится девственность однажды к чертям – и все с ней. Можно, конечно, поколдовать немного, но все это делу не поможет» (Готлобу Брейткопфу, август 1769 г.).
Таким образом, в этой бегло обрисованной нами обстановке и создавалась лирика Гёте лейпцигского периода. Осваивая современную ему светскую поэзию, поучаемый в области искусства Адамом Эзером, восхищаясь грацией и естественностью поэзии Виланда, Гёте стремился достичь того художественного уровня, который так же соответствовал бы его поискам точности, выразительности и грации, как и вкусам лейпцигского общества. Связь с Кетхен Шёнкопф тоже оставила свой след в жизни Гёте тех лет – с 1766 по 1768 год.
Заслуживает внимания, с какой уверенностью создавал Гёте новые стихотворения и с какой легкостью он мог вступить в соревнование с такими признанными авторитетами тех лет, как Кристиан Феликс Вейсе и Даниэль Шибелер. В этой лирике дело было не в выражении личных чувств, переживаний, страстей. Более поздние исследователи считали это ее недостат–86
ком. Целиком находясь под влиянием того, что считалось «лирическим» в так называемой «лирике переживаний» и «лирике настроений», они не смогли оценить стихотворений, которые следуют другим принципам. Однако даже беглый обзор европейской лирики показал бы им, что на протяжении столетий, протекших до стихотворений Клопштока и зезенгеймских стихов Гёте, поэты вовсе не стремились выразить неповторимо личное чувство или переживание. Старались достичь совсем иного. Если это выразить коротко – пускай и не вполне точно, – то это значило: в подобной «нелирической лирике» следовало художественно раскрыть определенную тему с ее мотивами. Ценилось художественное раскрытие, а «внутренний мир» художника играл подчиненную роль. Стихи сочинялись с сознательным расчетом и с определенной внутренней дистанции. К одной и той же теме можно было обращаться неоднократно, ибо все дело было в искусстве варьировать словесное изображение. Эти стихи отличали черты рассудочности. «Лирическое начало», в котором должны якобы обязательно сливаться «мир» и «я» и рождаться «настроения», было им полностью чуждо. Само собой разумеется, что подобная «нелирическая лирика» постоянно возникает снова и снова в различных обличьях.