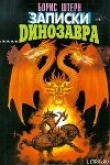Текст книги "В русском лесу"
Автор книги: Иван Елегечев
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 28 страниц)
В русском лесу
В новую книгу Ивана Елегечева вошли лучшие его рассказы о людях тайги, созданные за последние годы. Пишет он о людях Западной Сибири и Приобья с большой теплотой и любовью.
Зинка-корзинка
В одной приобской деревне, у самого края пихтовой таежки, живет старый учитель-пенсионер Михаил Федорович Тотауров. Давно уж для Тотаурова кончилась шумная, молодая школьная жизнь, давно уж он, похоронив жену, тоже учительницу, одиноко живет в своем старом, но прочном еще доме. Изредка забегут пионеры: не надо ли помочь? Чаще – ничего не надо: Тотауров пока еще на ногах и потому всю домашнюю работу способен вести сам. Иногда, правда, окажется, что надо, и тогда двор его оглашается молодыми возгласами – вместе с веселыми озорными помощниками переколет он дрова, сложит их тут же в ограде, у изгороди, а аккуратные красивые поленницы, – это бывает весной. А зимой ребятишки, верные его шефы, помогут расчистить двор и тропинку возле ворот от снега, натаскают большущую кадку воды из проруби. Потом Тотауров обязательно зазовет помощников в дом, напоит их чаем из старинного самовара, попутно спросит, как идут в школе дела, не намечается ли какой интересный сбор и не собираются ли пионеры пригласить на этот сбор старого учителя...
Нащебечут ему ребятишки и про то, и про это, пострекочут, погалдят на разные лады, как скворцы на рассвете, а потом выпорхнут из дому и шумно и неожиданно, как и пришли, – и неожиданно в доме станет тихо. Тишина надежно поселилась в его доме. Лишь время от времени раздается торжественный бой новых дорогих часов, подаренных старому учителю в день ухода на пенсию, да в соседней крохотной комнатке ненадежно, как кажется Тотаурову, словно сердце старого человека, постукивает маятник старинных ходиков – память о далекой молодости. «Тик-так, тик-так», – постукивают ходики, и Тотауров, не удержавшись, обязательно приоткроет дверь в ту комнатку, чтобы взглянуть на ходики, но с портрета, что напротив двери, глянут на него громадные, изумленные девчоночьи глаза и завладеют вниманием старого учителя. В глазах тех и вопрос, и радость, и загадка...
Всмотрится близоруко старый учитель в эти загадочные глаза, потрогает осторожно корзинку из ивовых прутьев, стоящую на тумбочке под портретом, заботливо внутрь ее заглянет, где лежат сухие ветки багульника, вздохнет и спросит:
– Ах ты, Зинка-корзинка, куда же ты подевалась?
Уж ни много ни мало – тридцать лет спрашивает об этом девчонку с портрета Тотауров, тридцать лет!.. А она смотрит на него все так же загадочно и изумленно, как смотрела когда-то, в дни его молодости, живая.
...Зина была дочерью лесника Максима Дормидонтовича и от остальных своих братьев и сестер много чем разнилась, потому, возможно, и судьба ее сложилась на особицу.
Смешная девчонка была Зина. Ростиком в свои двенадцать с половиной лет она была высоконькая, однако, как и полагалось ей по ее возрасту, нескладная: руки сухие, длинные, шея тоненькая, длинная, голова крупная, ноги костлявые. Никогда Зина не ходила шагом, а все бегом, все вприпрыжку. Бежит – шаг крупный, локтями, как рычагами, туда-сюда, сама вперед склонилась, вот-вот от худобы пополам переломится.
Да, нескладная и смешная Зина, что и говорить, но зато глаза у нее – загляденье: крупные, с ресницами пушистыми, длинными, цветом незамутненно серые, как у большинства коренных обских жителей – остяков.
Голос у нее мягкий, чистый, но приглушенный, наверно, оттого, что говорила она всегда полушепотом. Прибежит к кому-нибудь из подружек – к Вольке, Моньке, Нюрке – много у Зины подружек, отзовет пальчиком в сторону, толкует потихоньку.
– Слышь, – шепчет, – Волька, я такое узнала, такое! – хошь, расскажу. – Серые глаза сделаются еще больше, а в них и тайна, и заманчивость.
– Что, говори скорее, не тяни! – тоже полушепотом, как и Зина, отзывается Волька.
Но Зина не из тех, чтобы вот так запросто все и выложить, она сначала раскалит Волькино любопытство, как железку на огне, докрасна: мол, стоит ли тебе рассказывать, ведь ты болтунья, – потом, когда глаза у подружки от обиды станут мокрыми, когда поклянется она страшной клятвой молчать про Зинину тайну, тогда скажет она снисходительно: ладно уж, слушай... И начнет.
– Меня тятька с собой в таежку брал, – начнет вполушепот, таинственно Зина, – кислицу мы с ним брали. Я в сторонку чуть отошла – далеко мне тятька не велит, – смотрю, ко мне, верь не верь, мужичок махонький такой: ножки короткие, голова во какая крупная, глазки – копейки круглые, черные, – подходит...
– Кто ж такой? – Волька от страха и нетерпения глаза округлила, голова у нее в плечи втянулась, в ногах зуд, – так охота ей узнать, кто же это подходил к Зинке в лесу, когда она на минуту отлучилась в сторонку.
– Стоит, молчит, – с невозмутимой жуткостью в голосе продолжает Зина. – Смотрит, а глаза немигучие. Сам в дождевичке, картузик из кожи на голове.
– Картузик из кожи? – переспрашивает Волька шепотом.
– Картузик.
– Глаза немигучие?
– Немигучие...
– Ой, ой, и тебе не страшно было? Я бы со страху, поди, померла на месте.
– А чего помирать-то! – храбро удивляется Зина. – Интересно же посмотреть. Я и посмотрела, а потом спрашиваю: чего тебе надо? Вот крикну, говорю ему, отца, он тебе задаст, тятька у меня сильный.
– А он? – из пересохшего горла Вольки с трудом вырывается сиплый шепот.
– А он? Что он, он ничего, – пожимает плечами Зина. – Он таять начал. Будто в тумане. Голова растаяла, сам весь растаял. Ну, будто сахар в воде.
– Будто сахар?
– Ну, да, – подтверждает Зина. – Будто сахар.
– Кто же он такой?
– Какая ты несдогадливая, Волька. Да материковый же человек, материковый, понимаешь...
– А-а, – тянет Волька и повторяет следом: – Материковый... – Что-то таинственное, жуткое чудится ей в этом слове, по телу от него мурашки расползлись, а тоненькие волоски на худых ручонках поднялись дыбом.
А все потому, что вместо того, чтобы учиться полезным наукам в школе, которые могут пригодиться человеку в жизни, она с запоем читает разные книжки. Правда, тройки у нее проскальзывают редко, она числится в хорошистках, но она могла бы, по ее способностям, быть отличницей по всем предметам, а не только по литературе, истории и географии. Из-за ее запойного увлечения книгами учитель литературы Тотауров для Зины – самый главный, самый умный человек на свете, после родного отца, конечно. Книги для быстрого прочтения она берет в школьной библиотеке, а еще у Тотаурова, которыми дома он обставлен со всех сторон. Любую, какие есть на свете, выбирай книгу у учителя литературы Михаила Федоровича, неси домой и читай. Кроме того, Тотауров, когда приходит к нему вечерком Зина за книжками, своих знаний от нее не таит. В школе перед классом он говорит много и подробно, слушать его интересно, но дома у своих книжных полок, высотой от пола до потолка, он еще интересней становится, и такое у него узнает Зина, что даже порой у нее от знаний, кажется, кружится голова.
Из-за великого интереса к книгам Зина с Михаилом Федоровичем – друзья; бывает, на зимних или летних каникулах зовет он ее в экспедицию или поход по ближним деревням, и Зина не только не отказывается, наоборот, идет с превеликим удовольствием. В деревнях же они вместе ходят по дворам, посещают старых стариков, учитель при Зине выспрашивает о старой жизни, сказками, легендами интересуется и записывает. И Зина в специальной тетради тоже записывает, но главное, конечно, она старается все запомнить, и ей это удается: память у нее преотличная, всякую всячину Зина помнит – и быль, и небылицу. И оттого она, когда нужно, смело во взрослые разговоры нос сует, и с ее мнениями большие вынуждены считаться.
Родная деревня Зины – маленькая, о двадцати, не больше, дворах, но зато старинная. Все старые люди: и бабушка Феня, и бабушка Лукерья, и дедушка Софрон, слепой, – даже они не помнят да и не могут помнить, с кого началась их деревня. Старики не помнят и потому каждый кто во что горазд строят свои догадки, когда речь зайдет о том, кто первый поселился в их деревне. Зато Зина, несмотря на свое малолетство, все знает, все помнит, будто старше она самых старых стариков, будто сама все видела: ушлая, так о ней говорят в деревне.
Вот собрались у отца его товарищи лесники – ездили на первый после Победы слет лесников в район, возвращались обратной, перед тем как разъехаться на перекрестье дорог по своим «квартала́м», они сидят в большой избе Максима Дормидонтовича, Зинина отца, и ведут между собой разговор о том, о сем. И про довоенную жизнь, и про войну, и, конечно, как в каждой беседе, не обходится у них вниманием и старина. Зина, пока лесники выпивают, прячется на печи за занавеской. Но вот заговорили про их родную деревню, вот кто-нибудь тоном знатока коснулся истории Петуховской деревни, вот рассказчик, по мнению Зины, заврался, наплел с три короба, она тут же высовывает из-за занавески свою курносую рожицу наружу и немедленно поправляет.
– Вот это, дяденька, неправда, – горячо возражает она с печи. – Никакого пешего казака, как говоришь, Петухова тут отродясь не бывало. Царский слуга казак Петухов, – шпарит как по-писаному памятливая Зина словами Михаила Федоровича Тотаурова, – село обосновал, Петухово, под Томском. А наша деревня по другой причине Петуховской названа. Сперва ее, это триста лет назад, Орловской звали, мужики отважные жили – орлы. А потом орлы все повывелись, остались мелочные драчуны-потасовщики, петухи ни дать ни взять, отсюда и пошла Петуховская. А казака Петухова здесь ни в жисть не было...
Подвыпившие лесники за столом изумлены речью Зины. А рассказчик не то в самом деле обижен, не то притворяется. Он поднимается из-за стола и, приблизившись к печи, словно что-то высмотрел там диковинное, говорит вконец раздосадованно:
– А ты откуда такая птица выискалась? Кто ты такая, может, профессорша, а? Много будешь знать, пигалица, скоро состаришься. Поняла?
Зина сидит тишком за занавеской. Застольная компания лесников хохочет над незадачливым рассказчиком, которого так неожиданно и остроумно осадила девчонка. Отец же, Максим Дормидонтович, хотя похохатывает, довольный, в бороду, однако ради строгости, что встряла дочка во взрослую беседу, для вида шлет ей угрозы: гости-де разъедутся, ремня получишь, настырная, по заднице...
– Стоит ей, дерзкой, – соглашается обиженный рассказчик. – Ишь, все мысли разогнала...
Зина о ремне не раз слышала и сейчас слушает лишь краем уха. Отец только грозится, но угроз своих ни разу не исполнил. Добрый он. Вечером посидит с ней рядышком да что-нибудь про старое житье-бытье припомнит. Зину хлебом не корми, дай только послушать чего-нибудь. Отец, как и Михаил Федорович, тоже много знает, правда, не из книг, а из жизни. Про людей знает, а также и про нечистую силу. Слушать его – дух захватывает от жути, и вся она обмирает от непонятного счастья. Умом понимает – не зря же она в школе учится, – что всего этого быть не может, – но в душе, непонятно Зине самой, в каком ее месте, она чувствует неизъяснимое волнение от нарисованных отцом фантастических картин. Как наяву, видит Зина все, о чем слышит от отца, когда тихим, неторопливым говором передает он дочке все, что довелось услышать ему в дальних таежных переходах от остяков, ночуя вместе с ними у костра или в промысловой избушке.
Вот спит дом лесника Максима Дормидонтовича. Спит в хлеву корова Пеструха; спит в конюшне-стойле конь Пеганка, незаменимый друг старого лесника; спят две собаки – Дамка и Лётик – караульщики дома и бессменные спутники отца в его таежной ходьбе; спит мамка – ворчунья и крикунья; храпит на узкой железной кровати отец; все братья и сестрицы, кроме старших: брат Максим в армии, сестра Поля учится в городе на портниху, – спят. Только Зине не спится на ее месте – на печке за занавеской. Лежа в темноте рядом со старым черным котом-домоседом, давно от старости переставшим даже мышей ловить, она думает и представляет в своем воображении разные интересные картины... В глубине обской видится ей страшное чудище сури-козар, – о нем ей повечеру, вернувшись из очередного обхода, рассказал отец. Не то рыба крупная, наподобие щуки, не то лось-сохатый – вот что такое сури-козар. Даже Зине трудно представить существо, похожее сразу и на рыбу и на лося рогатого, но все равно так у нее устроена голова, что она все может себе представить. Вот он такой, сури-козар: голова сохачья, с рогами, тело вытянутое, щучье, хвост, как у крокодила, которого Зина видела на картинках в книге, а также и в кино, – ножки коротенькие, с копытами.
Такое существо, по мнению Зины, не может быть добрым. Сури-козар коварен. Живет в омуте, на глубине, а все видит, все слышит. Поплывет в лодочке злой человек, его не тронет, так как злой человек все равно что сури-козар. А вот поплывет добрый – сури-козар всплывет наверх, разинет пасть и того доброго человеке проглотит вместе с лодкой и веслами, и с ружьем, если оно было, и с собакой, если она тут же сидела.
А еще сури-козар как на какую деревню, на людей разозлится, так начнет берег подрывать и обваливать. У деревни Петуховской, где жила Зина, яр высокий, все время обваливается, осыпается, метра на полтора каждый год река отнимает у деревни берега. Это все сури-козар. А Обь тут ни при чем, всем известно: она добрая. На деревню Петуховскую оттого ярится сури-козар, соображает Зина, что в ней ни единого злого человека не живет, все, как один, добрые-предобрые...
Зина лежит на своем месте, за занавеской, думает, – вдруг отчего-то делается ей смешно. Потихоньку она смеется и прыскает, рот зажимая ладошкой, – боязно, как бы мать не услышала да не стала ругаться на нее. А удержаться от смеха никак Зине невозможно: вспомнилось ей одно таинственное существо, про которое ей тоже рассказывал отец, – кволли-козар. Этот – не то медведь, не то рыба карась. Живет он не в Оби, как сури-козар, а в озере, в самой его глуби. Причем самое интересное то, что кволли-козаром может сделаться любой, кто пожелает. Забреди, к примеру, Зина в озеро и трижды повтори: хочу сделаться кволли-козаром! – так и случится, станет она рыбой и уйдет вглубь, шевеля и угребая плавниками...
«Завтра я Вольку обязательно напугаю, – думает Зина. – Про кволли-козара расскажу, про то, что сама хочу сделаться кволли-козаром... Позову ее купаться на озеро Параль-то. Нырну поглубже, а вынырну в камышах. Притаюсь, а она подумает, что я кволли-козаром сделалась – насмерть перепужается...»
Затея, которую завтра собирается сотворить Зина, ей очень нравится. Видит она все в воображении: Волька перепугалась, стоит на берегу и зубами чакает от страха. А Зина в камышах посиживает себе да над Волькой потихонечку смеется...
Смеялась Зина на печи за занавеской и не заметила, как уснула...
Назавтра пойти на озеро Параль-то, как замышляла Зина, не удалось. Гурьба девчонок с двумя-тремя петуховскими бабами позвали Зину по ягоду, по чернику. Черника на Оби растет в сосновом бору, идти туда далековато. Потому ягодницы вышли рано, на зорьке. В руке у каждой корзина, у Зины тоже, ивовая с черемуховым черенком. На дне ее в белом платке краюшечка хлеба и две карамельки. Карамельки мать дала, чтобы задобрить Зину. Мать на засоню-Зинку утром ругалась, со зла обозвала ее всяко – и лежебокой, и лентяйкой, даже за косичку дернула за то, что дочка долго не просыпается. А потом сердце у нее оттаяло, матери стало жалко Зину, что она так рано идет с подругами по ягоду, и она дала ей на дорогу две карамельки. И наказ сделала строгий-престрогий: в тайге держаться баб, не отставать от них и вперед не забегать, по сторонам глаз не пялить, девок от работы пустомельством, к чему измлада Зинка свычна, не отвлекать, – словом, вести себя, как взрослая, прилично и смирно. В случае же, если испортится вдруг погода, слушаться старших, – они знают, как упастись от бури или грозы с молоньей и громом.
– Ладно, – послушно сказала Зина. – Чего говорить зря, поди, не впервой. Одна, бывало, и то не плуталась, а тут целая артель идет.
– Ступай, – добрым голосом сказала мать и подтолкнула дочку в сухое плечико. Долго смотрела ей вслед. После признавалась: сердце ее уже тогда «вещевало», недоброе чуяло, иначе почему она целый день не могла найти себе места, в груди что-то подмывало и подмывало, и она все взглядывала на дорогу, не покажется ли наконец бабий скоп, а в его середине ее длинноногая дочёнка.
День тянулся бесконечно, словно стоял на одном месте. С утра солнце сияло, ни облачка в небе, потом из-за Оби облака нахлынули, сгрудились в черные тучи, а при жаркой погоде, которая стояла уже много дней, как тут не разразиться грозе. Молнии, вначале бесшумные и отдаленные, словно бы исподтишка небо полосовали, но вот гром загремел поближе, дождь хлынул. Мать Зины, Августа Степановна, весь день зараженная неясной тревогой и беспокойством, выглядывала в мутное от дождя окно, к воротам, накрывшись дождевиком, выбегала, – нет, не видно толпы баб, а среди них ее дочки Зины. Пуста улица, пуста дорога, лишь косые полосы сверху, лужи на разбитой дороге, ручьи по обочинам и чей-то одинокий кутенок, отбившийся от конуры, скуля и визжа отчаянно, шлепает по воде длинными, неловкими еще лапами.
Вернулся из лесу на лошади весь мокрый Максим Дормидонтович. На беспокойство жены он не обратил внимания, отмахнулся: пустые-де твои страхи: Зинка не зря в деревне Корзинкой прозвана, она прирожденная ягодница, лесница. Она в лесу что лешачка, каждый кустик, каждую поляну как свои пять пальцев, знает, – пошутил Максим Дормидонтович. Августа Степановна под воздействием слов мужа успокоилась, но ненадолго. Как смеркаться стало, она не усидела дома, а, несмотря на все еще моросивший дождь, бросилась по дороге к краю деревни, откуда ушла ее Зина с бабами в таежку. Смотрит: встречь бабы-ягодницы, девчонки, а среди них нету ее дочки. Окружили бабы Августу Степановну, молчком стоят, глаза к земле опущены. Мать хочет спросить их, где же Зина, а язык не слушается ее. Тишина, гром отдаленно грохочет, ягодницы дышали утомленно и взволнованно. И вдруг тонкий Волькин голосок:
– А мы не виноватые, тетка Августа, Зинка сама потерялася...
У Августы Степановны потемнело в глазах, ноги зраз ослабли, и она, подкошенная страшной вестью, рухнула на мокрую от дождя траву большим и тяжелым телом...
В тайге же произошло вот что.
В сосновом бору, куда часа через два ходу добрались ягодницы, счастливо наткнулись они на ягодный черничный островок. Чистый островок – ни валежины, ни бурелома, один багульник тянется вверх, его пьянящий аромат смешивается с запахом сосновой смолы, – густой воздух в сосновой тайге, кружится от него голова. Наверно, не смогли бы долго продержаться ягодницы в сосняке, если бы среди багульника на низеньких черничных стебельках не пестрела заманчиво крупная черная ягода. Все усыпано черными ягодами. И хоть от жары и сосновой духоты мление в теле, бабы усердно принялись за работу, – замелькали руки, пальцы рук и губы у всех окрасились в черное. Проворнее всех, как всегда, получалось у Зины. Она и в рот успевала отправить ягоду горстями, и в корзинку бросала. Руки ее, с виду неловкие и длинные, работали уверенно и точно как заведенные. И полутора часов не прошло, как начали сбор, а ее плетеная корзинка оказалась неполной лишь на два пальца, – у других же девчонок лишь на донышке, у Матрены до середины, а у Палагеи еще меньше того. Все завидовали Зинке, ее проворству. «Не иначе ей черт помогает», – думала Палагея. «Ишь, жадная какая, от жадности руки, как пропеллеры, мелькают...» «Это материковый человек ей помог...» – думала Волька и боязливо оглядывалась по сторонам.
Вскоре корзинка Зины была наполнена, больше она рвать не стала и присела на колодину передохнуть. К ней подошла Волька и спросила:
– Тебе материковый человек помог, да?
– Он, – подтвердила Зина, кивнув головой. – Из картуза насыпал...
– Ты скажи ему, пущай он мне насыплет, – попросила Волька. – А то мне надоело. Рву, рву – не прибавляется.
– Старайся, вот и прибавится, – Зина поднялась с колодины и стала собирать ягоду в Волькино ведерко. Когда у подружки ягод прибавилось, Зина, оставив Вольку, отбежала в сторонку и скрылась между сосновыми стволами, затерялась. Ее внимание привлекли свежие царапины на сосне. Она знала: это медведь совсем недавно проходил и, поднявшись на дыбы, царапал кору передними лапами с длинными острыми когтями. На земле следы – пятипалые, тоже совсем свежие. Видно, услышал зверь голоса ягодниц и ушел. Зина пошла по свежему медвежьему следу. Но шла недолго: бабы стали ее звать и аукать, и она вскоре вернулась.
А тут в воздухе неожиданно потемнело, установилась такая глухая тишь, что все поняли: быть грозе. В самом деле, вдалеке раскатно грохнуло, потом над самой головой. Упала первая крупная капля, за ней другая, третья, и бессчетно посыпалось, полилось сверху, как из ведра. Все намокли сразу бы, но Зина закричала: «Смотрите, избушка, избушка!» – и первая бросилась к избушке, остальные за ней и тем спаслись от первого приступа ливня.
В избушке было тесно, но сухо: земляная крыша не протекала. Устроились кто где мог – на нарах, на полу. Слышался беспрерывный шум ливня да громкое дыхание запыхавшихся ягодниц. Все молчали.
И вдруг тишину нарушила Зина.
– А я след медвежий видела, совсем свежий, – таинственным своим полушепотом произнесла она. – Матерый, видать, зверюга... К нам вплотную подходил, а мы и не заметили.
– Ври-ка, – сказала Матрена, которой сделалось страшно. – Очень, я смотрю, ты верткая. И себе ягод набрала, и Вольке подсыпала, и с медведем успела поздоровкаться за руку.
Все засмеялись. А завистливая Палагея, которая не могла простить Зине полную корзину, счастливо набранную до грозы, язвительно добавила:
– Тебе б не в деревне нашей жить с отцом-матерью, а с медведем в обнимку, в берлоге.
И опять все стали смеяться, не столько над Зиной, сколько затем, чтобы отогнать страх: ведь подумать только – медведь подходил к ним вплотную! Зина обиженно засопела, долго молчала, потом, собравшись с мыслями, продолжала ровным голосом про медведя, словно бы обидные шутки не касались ее вовсе.
– Вот ты, тетка Палагея, шутишь про берлогу, – сказала она. – А ведь он, медведь-то, может, у избушки нашей стоит и слушает. Сейчас зайдет вот в избушку, тебя возьмет и утащит к себе в берлогу. Он так делает, мне тятька сказывал.
Все – и бабы, и девчонки – слышали, конечно, про такие медвежьи выходки. В другой раз, при другом настроении, все, только дай повод, дружно принялись бы толковать про медведя, припоминать всякие разные случаи, которые произошли там-то и там-то. Но сейчас никто не поддержал Зину: и без того страшно было в тайге, в грозу, в этой неизвестно откуда взявшейся избушке. Палагея, как могла, ровным и спокойно-насмешливым голосом сказала:
– Ох, и врать ты мастерица, я гляжу, девка. В который раз с тобой хожу по ягоду, и всегда ты заливаешь черт-те про что. И у кого ты только выучилась так заливать, не в школе ли у Тотаурова, умника. Тоже, видать, брехун. Уж не собираешься ли ты за него замуж, а? За женатого, а? Иль, может, за медведя пойдешь, за этого, матерого?
Захохотать не успели – полыхнуло так ослепительно, так оглушительно грохнуло, что сделалось всем не до смеха. Иные полезли под нары, а Палагея стала мелко-мелко креститься и шептать: свят, свят...
Лишь Зина не тронулась с места, словно не слышала удара грома. Ей было обидно. И за себя обидно, и за Михаила Федоровича, которого брехуном обозвали, и за отца, от которого она узнала так много о тайге и всякой нежити.
Она дождалась, когда бабы пришли в себя после очередного грохота, и сказала, гневно сверкнув глазами, с вызовом:
– А вот не заливаю я. Правду, чистую правду говорю. И Михаил Федорович тоже, только правду.
– И про медведя правду? – тоненько пропищала Волька, высунув из-под нар белобрысую голову.
– Правду, – убежденно ответила Зина.
– И про сури-козара?
– И про сури-козара.
– И про материкового человека?
– И про него, и про все я говорила правду, – громко заговорила Зина. – А кто не верит, тот... – Она не договорила, словно захлебнувшись словом. Она была белая от гнева, кажется, никогда ей так не было плохо. Кажется, произнеси кто-нибудь хоть одно еще слово, и разрушится в ней, сломается что-то самое главное, без чего ей жить станет невозможно. И она решила отстоять это – самое для нее главное.
– Кто не верит, – громко и отчетливо произнесла Зина, – тот настоящий дурак. Я докажу!..
– Ты сама дурочка, – сказала Палагея. – Замолчи уж!..
Зина словно мимо ушей пропустила слова тетки Палагеи. Под шелест и шлепанье дождя она продолжала выкликать:
– Я докажу. Если не верите, я сейчас материкового человека сюда приведу... И медведя приведу, хотите? Захочу – и сури-козар здесь будет! – с этими словами, прихватив стоящую у порога корзинку, с которой не расставалась в лесу Зина, она сорвалась с места и, не успели бабы и глазом моргнуть, выскочила из избушки под дождь, под грозу, громыхавшую над самой головой и пугавшую ягодниц.
...– Мы ее звали, мы аукали! – наперебой оправдывались со слезами бабы перед отцом Зины – Максимом Дормидонтовичем, которого позвали отваживаться с женой, рухнувшей без чувств на дорогу. – Мы искали ее... Мы бы и дольше искали, да темнеть стало. Страшно. А потом медведь... Матерый, Зина видела...
– Ладно, бог не выдаст, свинья не съест, – сказал Максим Дормидонтович. – Она у меня девка бывалая, не пропадет. Да и я здешние места как свой дом знаю, живенько сыщу.
Оставив очнувшуюся жену на попечение соседок, Максим Дормидонтович бросился на поиски дочери. На телеге, как всегда, он не поехал – он сел в седло, и коня Пеганку он оставил дома, а на сей случай попросил резвого конька у объездчика Девятова. И двухстволку повесил за спину – стрелять в воздух, чтобы заблудившаяся в тайге дочка могла услышать и выйти на звук его ружья.
...Зину искали долго: в тайгу ходили все, кто мог двигаться, – взрослые и школьники. Она как в воду канула.
Долго убивались родители. Августа Степановна все рассказывала, что в тот день она дернула дочку за косички, и все плакала и раскаивалась.
Максим Дормидонтович переживал горе молча. С тех пор он сделался седым – и борода, и голова стали совсем белыми. Когда пробовали его утешать: детей в семье у него много, чего уж так убиваться! – он тряс белой головой и закрывал лицо руками, словно желая сказать: а Зины-то нет и кем ее заменишь!
Старый лесник искал дочку месяц – и бросил: потерял надежду.
А учитель – Михаил Федорович Тотауров надежды не терял – все рыскал по тайге, все искал, ждал, не натолкнется ли на след Зины.
И однажды натолкнулся. Под старой сосной, среди густого багульника и черничника нашел он Зинину корзинку. А больше ничего не было. В корзинке давно истлели ягоды, а может, просыпала их Зина, когда убегала от баб, от избушки в тот грозовой день, – лишь только пожелтевшая хвоя густо покрывала ее дно. Родители признали корзинку дочери, но взять ее себе отказались. С тех пор и стоит она уже много лет в доме учителя Тотаурова, под портретом Зины, глядящей на мир загадочно и изумленно.