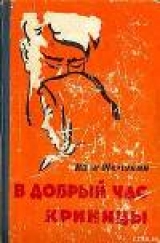
Текст книги "В добрый час"
Автор книги: Иван Шамякин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 27 страниц)
22
Настя пожаловалась на Василя в райисполком, и Белов, который всегда поддерживал её, как лучшую звеньевую, сам приехал, чтобы «вправить мозги добродеевским политикам», как он называл Ладынина и Лазовенку. Против них он уже давно «имел зуб».
Председатель райисполкома первым делом заехал в сельсовет.
Байков только что вернулся из своего очередного похода по колхозам, устал и в душном, тесном кабинетике дремал над развернутой на столе газетой.
Разбудил его раскатистый, громовой голос Белова в соседней комнате.
– Малюешь? Давай, давай. И батьку своего продерни ещё разок. Он опять спрятался от меня. – Он обращался к Косте Раднику, заведующему хатой-читальней, сыну председателя колхоза «Звезда».
Байков вскочил, пригладил ладонями волосы, протер глаза, навел порядок на столе.
– А-а! Власть, слава богу, дома! – закричал Белов, открывая дверь в кабинет. – Чего ты сияешь, точно именинник?
Байков смутился и потер свою контуженную руку.
– Только что пришел из «Звезды», Николай Леонович.
– А я у тебя и не спрашиваю, откуда ты пришел. Лучше скажи, как лес возишь.
– Возим.
– Возим, а он стоит на месте, холера его возьми. Видел сводку? Ниже золотой серединки опустилась. Вот тебе и «возим»! Сколько у тебя сегодня в лесу? Не ищи в бумагах, по глазам вижу – не знаешь. А ещё – «возим»! На райисполкоме придется поставить. Стыдно, Байков! Ты старый работник! А разленился… Не знаешь, что под носом у тебя делается. Что у тебя тут Лазовенка куролесит? Разогнал звенья, повыгонял лучших звеньевых…
– Лазовенка, звенья? – У Байкова от изумления округлились глаза.
– Ага, не знаешь, – радостно воскликнул Белов и оторвался от печки, у которой стоял. – Вот он, твой стиль работы. К Раднику что ни день наведываешься, а в «Волю» заглянуть – тебя нет. Лазовенке слова сказать не можешь. Мне, брат, давно говорили, что ты их боишься как огня, Лазовенки и этого доктора вашего медицинских наук. Стыдись! Старый работник…
В его упреке была немалая доля правды, и Байков это чувствовал. Он и в самом деле почти никогда не заглядывал к Лазовенке, не проверял его работы, не помогал советами, как делал это по отношению к другим председателям. Дело было не в том, что колхоз числился в передовых не только по сельсовету, но и по району. Главное заключалось в ощущении: Лазовенка перерос его, Байкова, Лазовенка умеет руководить хозяйством так, как он не сумел бы, хотя и работал до войны долгое время председателем колхоза. Правда, «боится», может быть, и не то слово. А может, даже и то… В самом деле, его порой пугает размах Лазовенки. А вдруг получится что-нибудь не так? С кого тогда спросят? С него, с председателя сельсовета, в первую очередь. Так пускай уж они сами…
У Байкова в одно мгновение пронеслись в голове все эти мысли, и, как бы желая показать, что нелегко ему работать с такими людьми, он вздохнул:
– Ученые…
Председатель райисполкома, круто повернув разговор, опять накинулся на него.
– Ученые!.. Ученые потому, что учатся. А мы с тобой разложим газеты и дремлем над ними. А в книгу заглянуть – нас и за уши не притянешь. Вот подгоним лесозаготовки, сам проверю, как председатели сельсоветов учатся.
Он подошел к окну, постучал пальцем по раме и вдруг совершенно неожиданно спросил:
– А что, видел, какого жеребца мне Сильчанка подарил?
– Подарил? – усомнился Байков и, обрадованный тем, что Белову наконец наскучило «читать мораль», поспешно подошел и стал рядом, любуясь жеребцом.
– За двенадцать тысяч, чтоб ему ни дна ни покрышки. Старый друг, а ни копейки не уступил.
– Добрый конь, – похвалил Байков.
– Что добрый! Да ты такого коня ещё не видал, Ты выйди – погляди. Идем, идем!
Они прошли через соседнюю комнату, где Костя Радник оформлял стенную газету и, не отрываясь от дела, объяснял секретарю сельсовета Гале Бондарчук, что такое любовь в его, Костином, понимании. Галя этот разговор толковала по-своему и заметно краснела. Её смущение не укрылось от проницательного глаза Белова.
– Что, в любовь играете, пока начальство делами занято? Галя покраснела, стыдлива спрятала глаза. Костя, чтобы скрыть свое смущение, сам перешел в атаку.
– Товарищ председатель райисполкома, давно хотел к вам обратиться. Почему Байков не дает денег на пополнение библиотеки? В прошлом году не исчерпали фондов и в этом…
Байков бросил на своего подчиненного уничтожающий взгляд: «Еще и ты, чтоб тебе пусто было! Без тебя мало хлопот!»
– Почему не даешь? – спросил Белов. Председатель сельсовета смущенно развел руками.
– Завтра же дай деньги, и никаких разговоров. Понял? А почему у тебя дежурных никогда на месте нет? Давай пошли кого-нибудь за Лазовенкои и Ладыниным.
На дворе он долго хвалил жеребца, расписывая все его стати, нежно гладил, хлопал по крупу, заставлял Байкова осматривать коня со всех сторон.
Потом так же неожиданно спросил:
– Скажи, Апанас Молчан дома?
– А где ж ему быть в такое время?
– Идем – яблоками угостит. Это «тот старик». Попотчует такими, словно только что с яблони, Владеет особым секретом их хранения. До войны, помню, в апреле угощал свежими яблоками. И даже в первый год после освобождения, когда у нас с тобой было по кукишу в кармане, у него – пожалуйста, яблочки и медок. Сегодня вспомнил и – представляешь? – всю дорогу чувствовал запах свежих яблок. Даже в ноздрях щекотало…
Для Байкова это было новостью. Он никогда не интересовался тем, что у кого есть, и запах яблок и меда не щекотал его ноздрей. А этого старого Молчана он, человек простой, открытой души, не любил за хитрость.
Они шли рядом.
Сеял редкий снежок. Пушистые звездочки медленно, как в воде, опускались на землю, на крыши, на заиндевевшие деревья. Воздух, казалось, оледенел. От каждого, даже далекого, звука он звенел, как металл под ударом. А звуков было много. В деревне наперебой стучали топоры, визжала продольная пила. За садом слышались детские голоса, смех. Между деревьев было видно, как там, над прудом, с высокого обрывистого берега в воздух взлетали мальчишки. Белов увидел это и с удивлением остановился.
– Что за чертовщина?
– Это учительница, дочка Ладынина, устроила лыжный трамплин и учит школьников прыгать…
– Гм, прямо-таки хочется поглядеть и на трамплин и на учительницу. Мне о ней рассказывали. Будем идти назад, непременно завернем.
А через секунду он уже говорил о другом.
– Учись хозяйничать, Байков, – показал он на обмазанные и окутанные молодые деревца.
Плотники на лесах клуба привели его в ещё больший восторг.
– Все-таки строит! Аи да молодчина! За одно это прощаю ему все, хотя он мне и немало крови испортил. Мне б такого начальника отдела колхозного строительства. А то у меня настоящий пенхюх. Ты как, помогаешь ему строить клуб?
Байков пожал плечами.
– Как могу, Николай Леонович. В организации, например.
– В организации!.. Организовать он и без тебя умеет. Ты ему деньгами помоги. Давай включи в бюджет тысяч тридцать на хату-читальню.
– Да вы ж говорили…
– Что я говорил?.. Забудь то, что я когда-то говорил. Позор нам будет на всю республику, если не поможем такому делу. Понял? Вот так и действуй.
Они подошли к клубу.
– Здорово, орлы!
– Доброго здоровьечка, Николай Леонович!
Председателя райисполкома знал каждый человек в районе, и стар и мал: он тут ещё до войны года четыре работал. Его любили. Любили за веселый характер, за простоту, за хозяйский глаз. Он с каждым мог поговорить на какую хочешь тему, ко всем относился одинаково просто, заглядывал на свадьбы и на родины. И выругать мог как-то по-своему, крепко, с чувством, но не обидно, и похвалить – умело, прямо и от души.
Несмотря на свои девяносто килограммов, он легко взобрался на леса, пожал плотникам руки. Поговорил с ними об их делах, о зимних приметах, по которым народ предсказывал урожай. Это был его «конек» с самого начала зимы. Радовало, что по деревням района почти все старые мудрецы предсказывали хороший урожай. Таких он слушал с удовольствием. Когда ж среди них попадался скептик, он его тут же обрезал:
– Дожил ты, отец, до седых волос, а все веришь разным вракам. Глупости все эти твои приметы! В науку надо верить. Наука – вот сила теперь. Скоро будет так: надо – сделали дождь, надо – ветер…
От клуба он прошел к сельмагу, оттуда – к ближайшему из домов, где стучали топоры. В доме, почти уже законченном, жарко пылала печь-времянка, сделанная из железной бочки; труба была выведена в окно. Плотники настилали пол, печник клал печь. Приятно пахло сухой сосной и сырой глиной. Вокруг печника суетилась радостно взволнованная хозяйка, Хадора Добродей. Она заметно растерялась, когда вошел Белов, и не знала, куда девать измазанные глиной руки.
– Когда вселяешься, хозяйка? – спросил Белов, – Думка – до выборов, Николай Леонович.
– Правильная думка. На новоселье, конечно, от радости забудешь позвать?
– Что вы, Николай Леонович? Кого-кого, а вас в первую очередь.
– Почему меня? Старуха, а подхалимничаешь. Небось раньше всех Лазовенку.
– Его как сына, а вас как отца.
– Хитрая. Недаром тебе такие хоромы отгрохали. Из хаты Белов отправился на колхозный двор.
Он давно забыл и про своего жеребца и про яблоки. Теперь его больше всего интересовали саманные коровники, конюшни, желоба для воды – от нового колодца на скотный двор.
– Молодчина! Не к чему придраться. Но за звенья все равно не прощу. Жалко. Хороший хозяин, но с заскоками.
Возле амбара они встретили Василя.
– Ага, на ловца и зверь бежит.
Банков напомнил, что их ждет Ладынин, и они все вместе вернулись в сельсовет.
Белов сел за стол, на председательское место, оперся руками об углы.
– Что ж это вы человека в Минск послали, а я об этом не знаю?
– Я договаривался с вами, Николай Леонович. У Макушенки в кабинете, – ответил Василь.
– Я знаю… но на человека-то я должен был посмотреть или нет? А то ваш Соковитов там наделал шуму, а я и не знаю, кто он такой, даже фамилию забыл. Вы где их таких откапываете?
– Какого шуму?
– Вчера до заместителя председателя Совета Министров дошел, тот звонил мне при нем.
– Ну и что? – заинтересовался Василь.
– А ничего. Будем строить гидростанцию. Дело серьезное, честь для всего района. Дают кредит. С соседями договаривайтесь сами. Только без заскоков, как это вы любите, не перегибайте. – Он поднялся и вдруг мгновенно превратился в строгого начальника, даже голос его стал другим – Что вы тут накуролесили со звеньями? Политики доморощенные!
Ладынин и Лазовенка переглянулись, доктор спрятал улыбку в усы. Василь сделал вид, что ничего не понимает.
– А что такое, Николай Леонович?
– Ты мне простачком не прикидывайся. Что у вас со звеном Рагиной?
– А-а… Ничего особенного. Семейный разговор… Белов встал у двери, загородив её своей могучей фигурой. У Василя в глазах заискрился смех.
– Семейный! Смотрите… Я пугать не люблю. Но скажу прямо: за такой разговор по головке не погладим. Так и знайте!
– Вы, товарищ Белов, сначала разберитесь, в чем дело, – спокойно заметил Ладынин.
– Я уже разобрался. Девушка пришла ко мне со слезами.
– Не всяким слезам надо верить, – вставил Василь.
– Вот-вот… Сразу обнаруживается ваше настроение. И в самом деле надо разобраться, от кого исходят эти старые уже новшества. Антизвеньевые настроения мне пресекать не впервой. Но у вас они наиболее опасны. В передовом колхозе, который мы ставили в пример, и вдруг председатель отстраняет от работы лучшую звеньевую. Ты понимаешь, что ты делаешь? – обратился он к Василю. – На тебя смотрит весь район. А ты…
– А я буду ломать, убирать с дороги все, что мне мешает поднимать хозяйство в целом. Я не намерен молиться на лучшую звеньевую и на звенья, как вы делаете по отношению к Михальчук! – Как он ни старался, но ему не удалось сохранить спокойствие, он разозлился. – Её звено вышло за рамки бригады и, возможно, выйдет за рамки колхоза, превратится в самостоятельную организацию. Звено дает рекордный урожай, а в колхозе средний урожай – пять центне-ров с гектара. Мне такие звенья не нужны!
Белов выслушал его до конца, стоя у двери, Ответ Василя вызвал в нем противоречивые чувства: недовольство начальника и одновременно какое-то своеобразное восхищение смелостью и решительностью председателя колхоза. Видимо, победило последнее, так как он подумал: «Ах, чёрт отчаянный!! Недаром ты столько орденов нахватал…» – и, вернувшись к, столу, примирительно сказал:
– Хорошо, я разберусь.
23
Зима словно злилась на свой поздний приход.
Разгулялись метели, тучами гоняли снег по полю, по огородам, наметали такие сугробы на улицах и по дворам, что по утрам было трудно отворять калитки.
– В такие дни только на печи лежать, – говорили старики, и кое-кто пытался следовать этой поговорке. Но Лазовенка и Ладынин никому не давали отлеживаться Работы хватало на всех и в эти непогожие зимние дни.
Приближались выборы. Уже был выдвинут кандидат в депутаты – секретарь райкома Прокоп Прокопович Макушенка. Кандидатуру бывшего партизанского комиссара, партийного руководителя единодушно поддержали все трудящиеся района.
Дважды в неделю Мятельский, его жена и Лида должны были ходить в Лядцы на свои агитационные участки. Ладынин не признавал никаких «уважительных причин», если грозила сорваться очередная беседа.
Случалось, Мятельский просил:
– Игнат Андреевич, носа высунуть нельзя. Куда в такую погоду?
– На войне как на войне, дорогой Рыгор Установим, – отвечал доктор любимой поговоркой Мятельского. – У нас с вами передний край.
Лида ходила в Лядцы с большим удовольствием. Она любила свою работу агитатора не меньше, чем работу в школе, а небольшая прогулка от Добродеевки до Лядцев и обратно была ей только приятна. Она научила Мятельских ходить на лыжах и водила их обычно кружным путем через луга, березняк и поле.
Мятельский шел и ворчал:
– Вы нас замучаете, Лидия Игнатьевна. Вы мне окончательно испортили жену. Приучили к конькам, к лыжам. И это – женщину, которая до тридцати лет ни разу не становилась на коньки и которая через пять…
– Гриша! – не давала ему окончить Нина Алексеевна и весело смеялась. Муж глядел на нее, раскрасневшуюся, хорошенькую, и тоже начинал смеяться. А Лида в душе завидовала их счастью: «Славные они какие».
– Ну и ворчун же он у тебя, Ниночка. Вечно ворчит. Я с таким мужем и дня не прожила бы. Вели ему замолчать, а то наглотается холодного воздуха и схватит воспаление легких.
Лида вырывалась вперед и летела так, что ветер свистел в ушах, а Мятельские оставались далеко позади. Она их поджидала у деревни и каждый раз на одном и том же месте слышала просьбу Нины Алексеевны:
– Лида, милая, давай сегодня соберем всех в одну хату, с твоего и с моего участка. А то у меня сегодня так голова болит…
Был бы это кто-нибудь другой, Лида ни за что не согласилась бы, а Нине она прощала все; её наивную хитрость, её застенчивость и детский страх перед взрослыми.
Мятельские платили Лиде такой же любовью.
Вообще её любили все: ученики, преподаватели, колхозники. Особенно ученики. Любили за простоту, за то, что она, казалось им, знала все на свете и свои уроки по географии и ботанике превращала в какие-то чудесные сказки, в интереснейшие путешествия. Она не представляла себе, что такое плохая дисциплина. На её уроках ученики сидели затаив дыхание. Лида смеялась над испугом, охватившим некоторых преподавателей, когда они увидели, как она, преподавательница географии, катается со своими учениками на коньках, бегает наперегонки. Она принесла в школу много нового, оживила внеклассную работу. Переписка с уральскими пионерами, кружки, экскурсии, состязания, турниры – все это начиналось по её инициативе.
Только два человека не любили её: преподавательница русского языка Шаройка и физрук школы Патрубейка. Не любили за критику. Лида с первого дня начала поправлять произношение Полины Шаройки. Заносчивая, самолюбивая, Шаройка молчала, но от негодования прямо сохла и кончила тем, что попросила перевести её в другую школу, отказавшись сообщить причины.
Либеральный Мятельский не раз увещевал Лиду:
– Лидия Игнатьевна, сжальтесь вы над нею. Вы её в гроб вгоните.
– Не могу, не могу. От её грамотности зависит грамотность учеников. Пускай учится, а то, говорят, после окончания института она не прочла ни одной серьезной книжки.
Мешковатый, неповоротливый Патрубейка всю физическую подготовку сводил к тому, что учил детей ходить и бегать.
Лида смеялась до слез.
– Федор Кондратович, да они бегают лучше вас. Вы бы сами пробежались. Хоть для вас польза была бы.
Он злился, но старался лучше вести свои уроки. Лида не унималась:
– Федор Кондратович, да вы же врожденный бегун! Как вы сегодня бегали! Ай-яй! Но прошу вас: в следующий раз делайте это подальше от школы. Вы мне чуть не сорвали урок, все ученики бросились к окнам смотреть, как вы бегаете. Это ведь такая новость!
Патрубейка носился по учительской, опрокидывая стулья, задевая лежавшие на столе тетради, книги, кричал:
– Вам, Лидия Игнатьевна, видно, мало своих часов. Берите мои, я вам уступаю. Берите и бегайте, и скачите, и хоть на голове ходите. Освободите меня, Рыгор Устинович, сейчас же. Я больше не работаю.
Однако через пять минут он обо всем забывал и начинал говорить ей комплименты. Но в конце концов и он разозлился всерьез.
Была в школе «техничка», бабка Ульяна. Работала она там лет тридцать. В сорок первом году, когда пришли фашисты, бабка припрятала почти все дорогое школьное оборудование. Теперь она все это откапывала, вытаскивала и чуть не каждый день что-нибудь приносила в школу: один раз – глобус, другой – почерневшие карты, потом – целехонький микроскоп, электромашину и многое другое. И вот однажды она принесла две пары хорошо сохранившихся боксерских перчаток… Возможно, что они и не принадлежали школе, потому что старые преподаватели не помнили, чтоб кто-нибудь видел их в школьном спортивном зале до войны. Но бабка Ульяна все равно притащила их в школу. Даже микроскоп не вызвал такой сенсации, как эти перчатки! В учительской они переходили из рук в руки, их разглядывали, как какое-то чудо. Наконец одна пара их дошла до Лиды. Она тут же надела их на руки. И, как назло, другая пара в этот момент оказалась на руках Патрубейки. Лида шутливо предложила:
– Встретимся, Федор Кондратович?
Он поднял свои тяжелые кулаки и, вызывая смех окружающих, двинулся на нее. Она сделала шаг ему навстречу, и вдруг мужчина в два раза тяжелее её, как мячик, отлетел назад, споткнулся о табурет и со всего размаху шлепнулся на пол.
Учителя перепугались, а больше всех сама Лида. А у Ша-ройки в первый раз вырвался истерический крик:
– Вот она до чего доводит, ваша мягкотелость, Рыгор Установи!
Несомненно, Шаройка, никто другой, написала анонимное письмо в районо, да такое, что у заведующего, который законно считал добродеевскую школу одной из лучших, а коллектив преподавателей самым сильным и дружным, волосы встали дыбом. Он показал письмо Макушенке, и они вместе приехали в школу. Секретарь райкома зашел к Ладынину и, выяснив, в чем дело, весело хохотал.
Со взрослыми Лида умела говорить так же просто, как с детьми. Её беседы отличались той непосредственностью, благодаря которой докладчик сразу овладевает вниманием слушателей. Правда, была у нее одна странная особенность, которую сначала не понимал даже Игнат Андреевич, – идя к людям, она часто не знала, о чем будет говорить.
– О чем люди захотят слушать, о том и расскажу, – прерывала она на полуслове отца, когда у того иной раз являлось намерение проверить план её очередной беседы.
Она и в самом деле никогда не навязывала своим слушателям тему. Сначала говорили они. Она только умело, замечаниями, вопросами, направляла эту общую беседу, стараясь понять, что интересует их, что волнует. Начинался разговор о международном положении – она незаметно включалась в него, и через несколько минут все слушали её одну. Волновали людей непорядки у них в колхозе – она тут же начинала беседу об Уставе сельхозартели, о рабочей дисциплине, Разговорились женщины о детях-сиротах – она рассказала о великой заботе государства, партии о детях и тут же предложила организовать поездку женской делегации в детский дом, где воспитывались дети погибших на войне. А иногда вдруг начинала читать какой-нибудь рассказ или стихи. Читала она так, что заставляла женщин смеяться, плакать, радоваться вместе с героями.
Она агитировала не только словом, но и делом, чутко относясь к каждому человеку. Был на её участке в Добродеевке инвалид Отечественной войны Роман Добродей. Человек этот ходил на костылях, но сидеть ему было трудно: он был тяжело ранен в поясницу. Свою инвалидность он переживал как непоправимую трагедию.
В первый раз он встретил Лиду довольно неприветливо. Насмешливо оглядел её, маленькую, красивую, в белоснежной меховой шубке, и спросил:
– Агитировать пришла, барышня?
Это неуместное «барышня» неприятно кольнуло девушку, задело её, но она вежливо ответила:
– Поговорить пришла.
– Поговорить? Ну что ж, давай поговорим. Только говорить буду я, а ты послушай.
Он долго рассказывал о своих военных испытаниях, скучно жаловался на свое увечье, на то, что его забывают. Ругал врачей районной больницы, отдел соцобеспечения, председателя сельсовета. Лида терпеливо слушала, лишь изредка задавая короткие вопросы. Её внимание, как видно, тронуло и обескуражило его. Он вдруг замолчал и удивленно посмотрел на девушку. Тогда заговорила она.
– Хороший вы человек, Роман Иванович. Мужественный человек, если верить вашим рассказам, а не верить нельзя, так как их подтверждают ваши боевые награды. Но вот слушала я вас и думала: как это случилось, что такой мужественный человек так опустился, стал нытиком?..
– Ну, ну! – угрожающе предупредил он, тронув рукой костыль.
Лида и бровью не повела.
– И никакого оправдания вам нет. Вы не один отдали свое здоровье за родину, за счастье ваших детей… Миллионы людей жизнь отдали… А сколько таких, как вы? И есть ещё в более тяжелом положении. Но мало встречала я таких малодушных.
– Послушай, ты…
– Я вас слушала. Послушайте теперь вы меня… Кто вас обидел, чего вам не хватает? Вы бы подумали хотя бы о том, что у вас трое детей, трое учеников советской школы. Мы их воспитываем твердыми, мужественными, воспитываем на рассказах о фронтовом героизме их отца, а вы своим нытьем разрушаете все это. Какой пример показываете вы им? А во что вы превращаете жизнь вашей жены? Она четыре года вас ждала, растила детей. Вы знаете, как она жила эти годы?
– Я знаю, ты мне не рассказывай…
– Теперь она работает день и ночь, чтоб сделать нашу жизнь богатой, красивой, светлой, чтобы и вы, Роман Иваневич, не знали забот и спокойно лечились, чтоб дети ваши могли учиться… А как жизнь может стать красивой и светлой, если вы беспрерывно хнычете?..
Он лежал на постели и все ниже и ниже опускал голову, все чаще дышал.
Лида кончила говорить так же внезапно, как и начала, испугавшись, что чересчур расстроит его.
Долго царило молчание.
Наконец он поднял голову, под усами у него пряталась усмешка.
– Ну и пила вы, Игнатьевна.
Она улыбнулась ему в ответ и совсем другим тоном спросила:
– Роман Иванович, вы читали книгу «Как закалялась сталь»?
– Я читал её, когда вы, Игнатьевна, ещё под стол пешком ходили.
– А давайте-ка прочитаем её ещё раз. Я вам её почитаю.
Она пришла вечером, когда вся семья была в сборе, и начала читать. Читала часа три, и такая тишина стояла в хате, что, когда она делала паузу, слышно было, как где-то под потолком звенит ожившая муха.
Кончила читать – книгу забрала с собой. В первый вечер Добродей не промолвил ни слова, даже не попрощался, когда она уходила. Во второй вечер он попросил:
– Игнатьевна, а нельзя ли книжечку у нас оставить?
– Завтра – пожалуйста, и другие могу принести, – ей хотелось о самом главном и волнующем прочитать самой.
На четвертый вечер она кончила книгу.
Жена Романа и двое старших детей все эти последние три часа чтения и плакали и смеялись. Сам Роман молчал, но, когда Лида стала прощаться, крепко пожал ей руку и сдержанно сказал:
– Давайте, Игнатьевна, собирайте людей на беседы ко мне. И книжечек приносите, если можно… вот таких.
Через несколько дней в деревню приехала кинопередвижка. Картину показывали в вестибюле школы. Народу было полно. Возвращаясь с сеанса, Лида сказала отцу:
– Папа, есть хорошая мысль. Для инвалидов и всех тех, кто не мог прийти, завтра днем прокрутить картину в хате Романа Добродея.
…Лида пришла к Добродею, когда показывали уже последнюю часть. Кончили, сняли одеяло с окна, и она увидела, что Роман Иванович, этот, казалось бы, черствый человек, утирает слезы. Она хотела было незаметно уйти, но он увидел, остановил, попросил подойти и обеими руками сжал её маленькую руку.
– Ну, Игнатьевна, сколько жив буду – не забуду… Большое спасибо.
В Лядцах она тоже быстро завоевала всеобщую любовь, особенно среди женщин.
Но вдруг произошло что-то непонятное и неожиданное: почти все замужние женщины, точно сговорившись, перестали ходить на её беседы.
Лида расстроилась, даже испугалась. Отцу она об этом не отважилась рассказать и сама настойчиво и упорно стала искать причину. Мать заметила, что она даже похудела.
– Что с тобой, Лида, у тебя на душе неспокойно?
– Ничего, мама.
А на душе и впрямь было очень неспокойно. «Что случилось? В чем моя ошибка?»
Она мучилась и сама чувствовала, что теряет свой запал, свое вдохновение, что беседы её становятся вялыми и неинтересными. Уже не только женщины, но и мужчины начали позевывать, а кто сидел поближе к дверям, часто незаметно исчезал. От этого она ещё больше терялась.
Наконец причина выяснилась. О ней догадалась умудренная житейским опытом Нина Алексеевна. Как-то она проводила беседу одна. Потом, возвращаясь с Лидой домой, она сказала:
– Я, кажется, Лидочка, догадалась, в чем тут дело. Максим!.. Во всем виноват Максим… Женщины уверены, что он из-за тебя бросил Машу, что ты приворожила его, и, конечно, возмущены этим. Машу любят, жалеют. Она сирота и прекрасной души человек…
Лида была поражена. Она остановилась посреди снежного поля и, тяжело дыша, долго смотрела на подругу, хотя в густом вечернем мраке виден был только её белый платок.
– Не может быть, – наконец прошептала она.
– Почему не может? А я убеждена, что это так…
– Но ведь это… это же просто дико.
– Ничего дикого нет, Лидочка. Жизнь есть жизнь.
– Нет, нет… ну хорошо, пусть так… Но при чем же тут я? Я ни одним словом, ни одним движением…
– А они видят другое. Ты часто приходишь в Лядцы. Каждый раз он встречает нас, ты весело разговариваешь с ним, шутишь…
– Что же мне теперь делать? Не ходить? Попросить отца, чтобы перевел назад? Нет-нет! Отцу ни слова! Буду ходить, пока не докажу, что они ошибаются.
Действительно, все это было так неожиданно, нелепо, что трудно было поверить. Но она вдруг вспомнила один случай, один разговор – и все стало понятным.
Однажды, закончив беседу, она вышла на улицу и тут услышала сзади язвительный женский голос:
– Ишь беленькая, что кошечка. Такая любого приворожит…
Тогда она не придала этому никакого значения, только улыбнулась. А теперь…
Она пришла в негодование, разозлилась. Разозлилась на женщин, на отца, который послал её туда, на Нину Алексеевну, на свою меховую шубку, которую тут же решила никогда больше не надевать, и больше всего, конечно, на Лесковца. Она расспросила об отношениях Максима и Маши и страшно возмутилась, узнав о его поступке.
«Погоди, я с тобой поговорю!» – мысленно грозила она Максиму.
Случай поговорить не заставил себя ждать.
Лида была дома одна. Сидела на диване, поджав под себя ноги и накрыв их все той же меховой шубкой. Вечерело. Сгущались сумерки. Уже трудно было читать, и она отложила книгу, задумалась. Мысли её были прерваны стуком в дверь. Ей никого не хотелось видеть. Хотелось побыть одной, посидеть в темноте, без огня, подумать, помечтать. В их доме такая возможность случается не часто.
«Может, не откликаться?.. А вдруг к отцу? Больной?»
Вошел Максим Лесковец.
«Ага, ты!» Ей показалось, что она со злой радостью крикнула это вслух, хотя на самом деле только подумала.
Угасшая было за несколько дней злоба вспыхнула вновь.
– Добрый вечер, Лидия Игнатьевна.
– Добрый вечер, Максим Антонович.
Казалось, все идет как полагается. Но он сразу почуял неладное и насторожился: она не сказала обычного «раздевайтесь» и «садитесь», она даже не Пошевельнулась, так и осталась сидеть теплым комочком в углу дивана. Как ему вдруг захотелось сесть рядом, взять её руки в свои, обнять её, маленькую. Но…
– Книжку вашу принес, Лидия Игнатьевна. Разрешите посмотреть и выбрать другую.
Он подошел к книжным полкам, наугад сунул книжку в один из рядов. Так же наугад вытащил другую книжку, не решаясь даже подойти к окну, чтоб прочитать её название.
– Вот кстати, что вы пришли, – сказала Лида после минутного молчания, – я сидела и думала о вас.
– Обо мне? – притворно удивился Максим. – А мне, грешному, казалось, что никто на свете обо мне не думает. Он хотел вскочить на своего любимого конька, не раз вывозившего его, – свести все к шутке. Не вышло. Лида не ответила и после короткой паузы спросила таким тоном, что он вздрогнул при первом же слове:
– Послушайте, Лесковец, вы серьезно в меня влюблены?
Если бы на голову ему неожиданно вылили ведро воды, это, верно, меньше бы удивило и смутило его, чем такой вопрос. Кажется, никогда ещё в жизни он не попадал в более трудное положение. Куда девались его красноречие, находчивость! Он стоял и только моргал глазами.
– Говорят, что из-за меня вы бросили девушку, которая шесть лет вас ждала? Шесть лет! Страшно подумать!..
– Лидия Игнатьевна…
– Шесть лет!.. Какая неблагодарность!..
– Лида…
– И после этого вы решили, что теперь вам, как романтическому Дон-Жуану, кинутся на шею… все девушки… Какая наглая, какая тупая самоуверенность! Вы думали… – Не кончив спокойно начатой фразы, она вдруг рывком спустила ноги с дивана (шубка свалилась на пол) и почти крикнула: – Вы думали, что и я кинусь вам на шею? А я… я ни говорить с вами, ни слушать, ни видеть вас не хочу!.. И советую: реже попадайтесь мне на глаза! Геро-ой!
Некоторое время он по-прежнему стоял молча, оглушенный тем, что услышал. Потом швырнул книжку на стол, злоб ным движением надвинул шапку на глаза.
– Ну что ж… – и, не попрощавшись, вышел.
А Лида едва сдержалась, чтоб не свистнуть ему вдогонку, по-мальчишески, громко, задорно.








